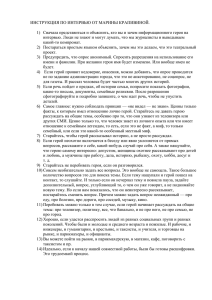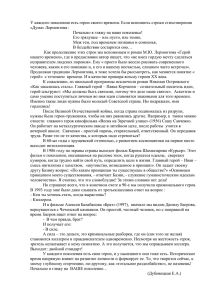БУНТ ПРОТИВ БИБЛИОТЕКИ: К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО
реклама

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 22 (160). Филология. Искусствоведение. Вып. 33. С. 119–127. О. Н. Турышева БУНТ ПРОТИВ БИБЛИОТЕКИ: К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО МОТИВА Статья посвящена вопросу происхождения и функционирования в зарубежной литерату� ре мотива бунта героя-читателя против библиотеки. Генезис данного мотива связывается с позднеренессансным переживанием разочарования в книге, нашедшим свое воплощение в главных текстах литературы трагического гуманизма: трагедии Шекспира «Гамлет» и ро� мане Сервантеса «Дон Кихот». В центре статьи – разбор хронологически позднейшей реали� зации данного мотива в романе современного латино-американского автора К. М. Домингеса «Бумажный дом». Анализ осуществляется в контексте латино-американской традиции ре� шения темы взаимоотношения человека с литературой. Ключевые слова: герой-читатель, тема чтения в литературе, мотив обиды на литературу, мотив бунта против библиотеки, тема поражения герменевта, К. М. Домингес, Х. Л. Борхес. Пиетет европейской культуры перед книгой общеизвестен, как общеизвестна его мировоззренческая основа: христианский культ сакрального текста. На почве сакрализации письменного слова в рамках средневековой словесности возникла универсальная для последующей литературы метафорика книги, чтения и библиотеки. В рамках этой традиции библиотека устойчиво отождествляется с раем, «землей обетованной», «горним миром»; книга – со «священным сосудом» знания, мудрости и добродетели, «сокровищницей разума и духа»; а чтение – с благородным трудом совершенствования души и счастливым актом «соприкосновения с блаженством»1. Впрочем, средневековая сакрализация книги распространялась только на ту литературу, которая была проводником нормативной этики, то есть рассматривалась в качестве источника этического и поведенческого идеала, соответственного «категорическому императиву» средневековья о подражании Христу. С этой точки зрения тенденция сакрализации «легитимной» литературы неизбежно сопровождалась тенденцией демонизации той литературы, которая «предлагала <…> имитацию божественного культа, заменяя единственно возможный объект поклонения – <…> распятого Христа – вымышленными подделками»2. Это литература светская, с точки зрения средневековых теологов, побуждавшая читателя к ложному самоотождествлению – самоотождествлению с литературным персонажем. В полемике со средневековым запретом на самостоятельный выбор человеком формы поведения и формируется этика альтернативной идеологии – этика ренессансного гума- низма: она провозглашает право человека на индивидуальные стратегии творческой самореализации, противопоставляя средневековому культу смирения культ доблести, понимаемой именно как идеал сугубо личностного осуществления человеком собственного Я. В связи с этим начинается процесс реабилитации права индивидуального выбора читателем текста. Чтение, в том числе и светское, начинает рассматриваться гуманистами как исключительно важная стратегия самоформирования3, причем стратегия сугубо личностная. Однако в европейской литературе трагического гуманизма концепция, идеализирующая книгу и чтение, начинает оспариваться, причем оспариваться самой литературой. Мы имеем в виду формирование в литературе данного периода мотива обиды на книгу как обманувшую надежды героя. На страницах позднеренессансной литературы авторитет книги явно переживает свой кризис в том плане, что она оказывается представлена как носитель содержания, мало соотносящегося с реальной действительностью и невоплотимого. Свое наиболее яркое выражение этот мотив нашел у Шекспира и Сервантеса, герои которых – Гамлет и Дон Кихот – переживают глубокое разочарование в отношении книги4. Герой Сервантеса, напомним, в финале своей романной истории проклинает рыцарские романы, убедившись в утопичности собственного взгляда на мир, сложившегося под их влиянием. Герой Шекспира уже в рамках одного из первых появлений в пьесе выражает скепсис в отношении книги как источника достоверного знания о жизни, когда отвечает 120 на вопрос Полония в отношении предмета его чтения: «Слова, слова, слова». В литературе ХХ века мотив разочарования в литературе получил свою крайнюю степень трансформации в мотиве бунта против библиотеки. Этот мотив обнаруживается в разных национальных литературах, что позволяет говорить о универсальном характере его присутствия в литературном пространстве ХХ века. Необычайно выразительные, хотя и разные формы сюжетной реализации этого мотива обнаруживаются в романах австрийского писателя Э. Канетти «Ослепление» (1960), французского романиста Ф. АрруВиньо «Урок непослушания»5, уругвайца К. М. Домингеса «Бумажный дом» (2001), наконец, ряде новелл Х. Л. Борхеса. Обратимся к латиноамериканскому варианту и начнем с хронологически последнего решения темы. В романе Карлоса Марии Домингеса6 «Бумажный дом» (рус. перевод с испанского, 2007) предметом изображения становится содержание судьбы библиофила. Героя романа – Карлоса Бауэра – отличает необыкновенно личностное отношение к книгам. Все свое состояние он тратит на приобретение книг, каждую из которых прочитывает, испещряя комментариями ее поля в попытке, по его собственному слову, «завладеть смыслом». Его цель – не обладание книгами как артефактами, а овладение тайной их содержания. Здесь появляется столь распространенная в европейской литературе о библиофиле эротическая метафорика7, но с эротическими переживаниями герой сопоставляет именно переживания чтения, проникновения в смысл, а вовсе не удовлетворение от обладания редким, дорогостоящим или красивым предметом. Не знающая пределов страсть описана в романе в совокупности изысканно-болезненных форм, имеющих подчас откровенно перверсивный характер. Герой предоставляет книгам все пространство дома, заселяя ими не только комнаты, но также кухню, спальню и даже ванную. Он отказывается от использования горячей воды и принимает только холодный душ, опасаясь, что пар может испортить книги. Повествователь сообщает и о других почти гротескных формах проявления любви героя: он дарит другу машину, чтобы освободить гараж для новых библиотечных шкафов, или ужинает в обществе «чудесного издания» «Дон Кихота», располагая его на книжной О. Н. Турышева подставке напротив себя и предлагая ему бокал изысканного вина. «Еще более странное откровение» явилось одному из гостей Бауэра, обнаружившему в спальне хозяина книги, тщательно разложенные на кровати так, «что они воспроизводили все объемы и контуры человеческого тела»8. Обращает на себя внимание то, что градация гротескных форм проявления книжной страсти героя не находит своего выражения в иронической тональности повествования: повествование от начала и до финальной точки исполнено сокровенно печальной интонации. Свое абсолютное выражение любовь Бауэра к книгам находит в изобретении им особого способа каталогизации библиотеки. В основе библиографического изобретения героя – принцип учета смысловой связи между книгами и отношений между авторами, то есть принцип учета привязанностей или неприязни, заимствований или конфликта, стилевой близости или полемики. «К примеру, он не решался поставить книгу Борхеса рядом с томиком Гарсиа Лорки, которого аргентинец называл “профессиональным андалузсцем”. Не мог поставить произведения Шекспира вместе с трагедиями Марло, принимая во внимание коварные взаимообвинения в плагиате между этими авторами, хоть из-за этого ему пришлось нарушить серийную нумерацию томов своей коллекции. И, конечно, книга Мартина Эмиса не могла стоять рядом с книгой Джулиана Барнса после того, как эти двое друзей поссорились, а романы Варгаса Льосы не могли находиться рядом с Гарсией Маркесом»9. Предполагая на основе каталога расставить книги в соответствии с идеей привязанностей, герой фактически материализует метафору интертекста: он пространственно сопрягает книги, между текстами и авторами которых предполагает коммуникацию. При этом герой исходит из убеждения, что его представление о характере этой коммуникации является верным и именно оно способно обеспечить комфорт «душам» книг – их текстам, несущим в себе выражение авторской индивидуальности, и освободить их от бремени нежелательных отношений10. Рассказчик истории Бауэра квалифицирует его увлечение как умопомешательство. Именно он (рассказчик) вводит типологическое деление читателей на «завоевателей» и «путешественников». В соответствии с этой классификацией, Бауэр – завоеватель, он чи- Бунт против библиотеки: к истории литературного мотива тает ради смысла, не умея почтительно относиться к материальной оболочке текста. Он не хранитель книг, а «исследователь», герменевт, читатель. Другой тип читателя – «путешественник». Это читатель-сибарит, читатель-эстет, он читает ради удовольствия «побродить по человеческому времени», приобщиться к таинственному ландшафту незнакомых миров. Для него книга – единство текста и его издательского оформления, он получает наслаждение от «шрифта, размера букв, ширины полей, качества бумаги, способа нумерации страниц» и «от дорожек» – длинных белых линий, образованных пробелами между словами и в свою очередь образующих на полотне страницы замысловатые фигуры. Такой читатель – маниакальный хранитель книги, его перо не коснется ее полей, он заказывает застекленные книжные шкафы с полками из десяти слоев дерева особого вида, проклеенные составом, отпугивающим насекомых, при этом он периодически окуривает свою библиотеку ради обеспечения ей еще большей сохранности. Впрочем, «захватнический» характер чтения у Бауэра вовсе не исключает эстетического переживания. Более того, он открывает способ усилить «удовольствие от текста» через привлечение факторов, акцентирующих принадлежность книги к эпохе ее создания. Так французов XIX века он читает при свечах в старинном серебряном канделябре и с соответствующим музыкальным сопровождением. Герменевтическая установка (понять смысл) для него неотделима от установки гедонистической (пережить наслаждение). Однако из-за падения горящей свечи каталог – результат герменевтических усилий и сокровенно-личностного общения героя с книгами – погибает в пожаре. С момента изображения утраты героем каталога его история лишается уверенной психологической мотивировки, которой она обладала до сего момента, теряя качества психологического повествования «о свойствах страсти» и получая обработку в духе магического реализма. Утратив каталог, герой мучительно пытается разорвать узы с библиотекой, той смысловой вселенной, творение которой ему и принадлежало. Это загадочный бунт творца против творения, бунт, направленный на обезличивание творения и обессмысливание собственной жизни, так как «библиотека 121 – это жизнь», как говорится в романе устами рассказчика: уничтожение библиотеки равнозначно уничтожению жизни ее собирателя. После пожара герой продает дом и на нескольких грузовиках вывозит свою библиотеку на песчаный морской пляж, где, «онемев от собственной жестокости», строит из книг дом, скрепляя тома цементным раствором. Превращая книги в строительный материал и так лишая их смысловой функции, герой «Бумажного дома» пытается «заглушить их зов», «освободиться из заточения» и переделать свою судьбу, центром которой ранее была любовь, как оказалось, «бесполезная». Форма бунта – кладка стен из книжных томов – противоположна библиографической идее героя: она отменила принцип привязанностей, «отвратительно связав цементным раствором» книги, которые, по мысли Бауэра, должны были страдать от соседства друг с другом. Устранившись как читатель, герой предписывает книгам обезличивающую их функцию – защищать от холода, укрывать от ветра, давать тень от яростного солнца. Если раньше герой предоставил книгам свой собственный дом, признав их право жить в нем «собственной жизнью» и отказавшись во имя любви от элементарного комфорта, то теперь он подчиняет книги служению себе самому, своему телу. Герой выворачивает наизнанку свою жизнь; лишая книги души, он овеществляет традиционную метафору «библиотека – дом», «библиотека – укрытие». Конечно, проблематика романа касается не частного случая безумия, приключившегося на почве книжной страсти. Это роман о взаимоотношениях человека и литературы, о драматизме существования человека в пространстве книжной культуры, о парадоксах книжной судьбы. С одной стороны, Домингес изображает Бауэра как человека, в котором чтение воспитало магическую прозорливость: он предсказывает обстоятельства смерти своей недолгой возлюбленной, профессора филологии, предрекая ей гибель под колесами машины в тот момент, когда она будет переходить дорогу, увлеченная чтением Эмили Дикинсон, что и происходит на самом деле. Чтение в погоне за смыслом концептуализировало видение героем жизни, сформировало в нем колдовское понимание ее иррационального, волшебного среза, но, с другой стороны, лишило его собственную жизнь простых человеческих смыслов, простого человеческо- 122 го содержания. Очевидный аспект трагедии героя-книжника – одиночество. Бауэр, несмотря на всю интенсивность читательских переживаний, в пространстве собственной библиотеки глубоко одинок. Недаром он слагает из книг человеческую фигуру, недаром приписывает книгам человеческую потребность понимания и диалога, лелея надежду осуществить ее для любимых книг, если уж в отношении любимой женщины это ему не удалось. Утрата иллюзий, оскорбление случаем сокровенного замысла повлекли за собой жестокую расправу, нежелание более внимать зову книг и принимать свою зависимость от них. Впрочем, в истории Бауэра можно разглядеть и трагедию логоцентрического сознания, вознамерившегося наложить на жизнь вселенной собственную логическую сетку, упорядочить бесконечно многосмысленную реальность – реальность литературы. И если в отношении обстоятельств смерти возлюбленной судьба пошла ему навстречу, то в отношении замысла гармонизировать отношения в смысловом универсуме, присвоив ему однозначную семантику, – отказала. Библиотека бунтует против каталога – орудия сведения ее бесконечной смысловой множественности к одномерному пространству четко обозначенных смыслов. Интересно, что сам роман Домингеса выстроен как роман с «привязанностью», роман «с потребностью» в сочетании с другим романом, а именно с романом Джозефа Конрада «Теневая черта». Текст Домингеса открывается посвящением «великому Джозефу», отношения героев с его романом образуют важнейший элемент сюжета, а образность «Теневой черты» составляет глубинный символический подтекст «Бумажного дома», в свете которого становится возможной версия загадочного поступка героя. Взбунтовавшись против библиотеки, Бауэр Домингеса пересекает свою теневую черту, преодолев иллюзии и приняв страдальческую расплату, подобно тому, как принимает ход вещей герой Конрада, расстающийся с иллюзией благоволия судьбы. Так роман Конрада становится интерпретантой иррационального содержания романа Домингеса при условии осуществления читателем «привязанности» между ними, стимуляция чего, как нам представляется, входила в замысел автора: подобно своему герою, Домингес предпринимает попытку обе- О. Н. Турышева спечить своему роману «нужное» ему самому положение в пространстве «универсальной библиотеки», а именно «рядом» с «Теневой чертой». Прояснению мотивов загадочного поступка Бауэра (или самой авторской интенции присвоения герою столь парадоксального жеста) способствует не только актуализация того литературного контекста, к которому принуждает сам роман Домингеса (через серию отсылок к «Теневой черте» Конрада), но и обращение к тому национальному литературному контексту, к которому роман Домингеса непосредственно принадлежит. Это латиноамериканская литература, которая, как известно, проблему взаимоотношений человека с книгой, с библиотекой и, шире, с культурой на протяжении ХХ века решала усилиями ряда знаменитых авторов. Одна из аллюзивных «тропок», прокладываемых читателем в интертекстуальном окружении романа Домингеса, с неизбежностью выводит к Борхесу – философу чтения и библиотеки. Напомним известную многосмысленность решения данной темы у Борхеса. С одной стороны, новеллистика и эссеистика Борхеса последовательно утверждает культ книг и культ чтения. Сакрализацию книги – тенденцию, сменившую античную сакрализацию устного слова в противовес письменному – Борхес объясняет пришедшей с Востока традицией ее обожествления в качестве формы выражения Бога. В рамках иудаизма, христианства, ислама (так называемых религий Книги) Священная Книга мыслилась как «атрибут Бога», результат его творящей деятельности, предшествующий созданию Вселенной. Для современного же человека, по Борхесу, книга сохраняет свой божественный и священный статус в силу причин сугубо экзистенциальных. В сборнике «Думая вслух» книга определяется им как «орудие» производства «памяти, воображения» и «радости». «Книга – это надежда обрести счастье», а «чтение – это род счастья» (эссе «Книга»). Очевидно, что Борхес, рассуждая о счастье встречи с книгой – тем, что удовлетворяет нашу потребность в опоре и в то же время принимает нашу изменчивость и наше участие в собственной сокровенной жизни, – имеет в виду переживания эстетического плана. «Просто взять книгу в руки, открыть ее – это уже эстетическое наслаждение. Что такое слова, составляю� щие книгу? Что такое эти мертвые сим� Бунт против библиотеки: к истории литературного мотива волы? Абсолютно ничего. Что такое книга, если ее не открывать? Просто параллелепи� пед из кожи и бумаги. Но если ее читать, то происходит нечто странное – она всякий раз иная. Гераклит сказал (я не раз повторял это изречение), что никто не войдет дважды в одну и ту же реку. Никто не войдет дважды в одну и ту же реку, потому что воды текут, но самое ужасное в том, что мы не менее те� кучи, чем вода. Каждый раз, когда мы чита� ем книгу, она меняется, слова приобретают иную коннотацию» («Книга»)11. «Мы можем сделать вывод, – пишет Борхес в финальных абзацах новеллы «Стена и книги», – что все формы обладают смыслом сами по себе, а не в предполагаемом “содержании”. Это схоже с мыслью <…>, что каждое искусство стре� мится быть музыкой, которая не что иное, как форма»12. Книга для Борхеса и есть уникально выстроенная форма, воплощение совершенной упорядоченности: «В <…> книге ничто не случайно: ни порядок букв, ни коли� чество слогов в каждом стихе, ни возмож� ные огласовки, ни числовые значения букв»13. Именно такой тип чтения, сосредоточенный на переживаниях эстетического плана, переживаниях красоты, гармонии, упорядоченности при встрече с книгой Домингес запечатлел в деятельности читателя-путешественника, противопоставив ему читателя-захватчика. Думается, что Домингес развернул борхесовское противопоставление разных типов отношения к книге, не столь эксплицированное и не столь определенно развернутое у последнего. Но помимо чтения как эстетического удовольствия, как счастливого путешествия по мирам смысловой Вселенной, «по человеческому времени», у Борхеса со всей очевидностью присутствует и другая концепция чтения – как захватнической деятельности, деятельности, направленной на создание универсальных концепций, на поиск готового универсального смысла и универсального опыта, и с этой точки зрения обреченной на поражение. Наверное, с наибольшей степенью определенности концепция такого отношения к книге представлена в новелле «Вавилонская библиотека». Представляя здесь знаковую реальность как воплощение рациональности и «презумпции порядка» (Б. Дубин), Борхес решает проблему познаваемости ее смысла. Как «не лишенное оснований» подано в новелле мнение о том, что «искать в книгах смысл» есть «суеверная и напрасная привычка». «Би- 123 блиотекари», о которых в данном случае идет речь, «признают, что те, кто изобрел пись� мо, имитировали двадцать пять природных знаков, но утверждают, что их применение случайно и что сами по себе книги ничего не означают»14. Далее, во фрагменте, описывающем поиски Оправданий – «книг апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во вселенной и хранили чудесные тайны его будущего» – вера в постижимость смысла определяется как трагическая иллюзия: «Тысячи жаждущих поки� нули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным же� ланием найти свое оправдание. Эти пилигри� мы до хрипоты спорили в узких галереях, из� рыгали черные проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глу� бину туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями отдален� ных областей. Некоторые сходили с ума… Действительно, Оправдания существуют.., но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое Оправ� дание или какой-то его искаженный вариант равна нулю… На смену надеждам пришло безысходное отчаяние»15. Итак, погоня за сакральным содержанием, которое могло бы обеспечить читателю оправдание и сделать его «подобным Богу» (в новелле излагается такого рода «суеверие», возникшее в среде обитателей библиотеки, в соответствии с которым некий библиотекарь прочел книгу, содержащую суть всех других, и сделался подобен Богу) обречена. «Потаенный смысл <…> записан и существует в Библиотеке»16, но надежда на обретение откровения иллюзорна и обязательно обернется отчаянием. С этой точки зрения герменевтика как претензия на постижение смыслового содержания знаковой реальности невозможна: книга (библиотека, Вселенная) не является носителем четко зафиксированных смыслов, она непознаваема, так как бесконечно многозначна, неисчерпаема в неограниченном количестве смысловых вариантов и оттого «чудовищна» (как говорится в «Книге песка») и равнодушна к человеку (это мотив ряда текстов Борхеса, например, эссе «О культе книг»). «Поливалентность знака <…> воспринимается Борхесом как трагедия», так как «абсолют не может быть измерен человеческими мерками»17. Поражение герменевта изображено и в 124 другой новелле Борхеса – «Смерть и буссоль». Правда, здесь усилия герменевта направлены не на интерпретацию книги, а на интерпретацию события, но через посредничество книги. Герой новеллы детектив Леннрот, предпринимая расследование убийства, «становится библиофилом»18: для раскрытия тайны преступления он предпринимает изучение книг убитого гебраиста. Предполагая в «тексте» преступления наличие ссылки на кабаллистическое учение и привлекая для расшифровки загадки книжный код, герой фактически осуществляет интертекстуальную стратегию. Возникает предположение, что этот герой Борхеса предвосхитил концепцию образа детектива в романе У. Эко «Имя розы»: Вильгельм Баскервильский для раскрытия преступлений также сделает ставку на книжный код, а именно код Апокалипсиса. Результатом мыслительных усилий героя Борхеса, как и впоследствии героя Эко, становится «гиперинтерпретация»19, парадоксальным образом превратившая собственного создателя в собственную же жертву: книжный код детектива использует убийца – и для того, чтобы заманить своего противника в смертельную ловушку. В данном случае роковой оказывается сама ставка на книгу как универ� сальный ключ к событиям действительности и источник универсальной модели поведения. От очевидной и, как окажется впоследствии, единственно правильной версии преступления герой отказывается лишь по той причине, что уже в рамках одного из первых появлений в пьесе та «не интересна», а гипотеза, по его мнению, «обязана быть интересной». Получается, что в разгадке тайны преступления он был заинтересован даже в меньшей степени, нежели в намерении разыграть свою роль по образцу детектива Эдгара По, ведь, как сообщается в первом абзаце новеллы, он считал себя «неким Огюстом Дюпеном», и «была в нем <…> жилка авантюриста, азартного игрока»20. Итак, героя губит не только то, что он ошибочно приписывает преступнику книжную логику, но и то, что сам он также действует исходя из литературной модели. Еще один герой Борхеса, также терпящий поражение в воплощении совсем другого, к тому же невольного замысла, но также связанного с книгой, – студент с гофмановским (что не случайно) именем Балтасар из новеллы «Евангелие от Марка». «Он был складом <…> избитых мнений»21, О. Н. Турышева и одно из них, очевидно, и сыграло в его истории свою роковую роль. Это мнение о спасительном действии евангельской истории – истории, которую, по его мнению, «люди пересказывают поколение за поколением» и которую он решил читать для семьи гаучо, утратившей родовую память и язык. Однако результатом чтения и толкования Евангелия становится не ожидаемое «подражание Христу», а отождествление слушателями себя с теми, кто «его распинал». Действие Книги оказалось прямо противоположным тому, которое культивировала христианская традиция и которой герой «чувствовал себя обязанным держаться», «хоть сам и не верил». Слушатели Бальтасара формируют семантику Евангелия следуя прагматике своих жизненных целей, а не тому этическому императиву, носителем которого его принято считать. Так новелла свидетельствует о парадоксальной множественности читательского потенциала Книги, которой тысячелетняя традиция приписывает однозначный смысл. Стереотипное, готовое представление о действии Книги и вряд ли осознанная игра в евангельского героя (ораторствовал по поводу содержания притч, принимал поклонение, отдавал приказания, очевидно, благословил просящих о том перед своей казнью) оказались губительны для героя, подобно тому, как губительны оказались для героя выше разобранной новеллы ставка на книжную логику и книжный образ. Хотя, в отличие от Лённрота, Бальтасар, конечно, не герменевт, «его ум не изнурял себя работой»22, он, по определению автора, «соглашатель», ритор, чтец, но не читатель. На особых причинах поражения герменевта Борхес останавливается в новелле «Поиски Аверроэса». В отношении неудачи Аверроэса, не сумевшего понять значение аристотелевских понятий «трагедия» и «комедия», одной из них является принадлежность интерпретатора к иному контексту («замкнутость [Аверроэса] в границах ислама»). Но Борхес в рамках заключительного пассажа новеллы присваивает герменевтическую неудачу и себе самому. Он сам представляется себе не менее смешным в претензии вообразить Аверроэса по реконструкциям французского, английского и испанского востоковедов, нежели сам Аверроэс в претензии «оправдать свое бытие перед человечеством» через комментарий к Аристотелю, не имея понятия о том, что такое театр. И причиной является не Бунт против библиотеки: к истории литературного мотива только сакральность культурной дистанции, отделяющей герменевта от предмета его интерпретации, делающая его непроницаемым, но и неизбежный субъективизм реконструкции, которая всегда есть «отражение того человека», который является ее автором, и более того, репрезентирует именно его (автора) облик, а не облик того, кто является объектом исследования. Итак, тема поражения человека перед лицом книги и библиотеки – сквозная в новеллистике Борхеса. Человек у него – «несовершенный библиотекарь» в поисках универсальной книги или в попытках создания универсального каталога, обманувшийся герменевт или наивный читатель (носитель сознания не подлинного, а подмененного готовыми, в том числе и книжными мнениями). История поражения герменевта и составляет центральное содержание романа Домингеса. Его герой переживает «безысходное отчаяние» вавилонских библиотекарей: утрата каталога, очевидно, убедила его в невозможности расшифровать смысловые привязанности книг и пространственно закрепить движение смыслов внутри библиотеки. Отказ героя от герменевтических притязаний (как, впрочем, и от эстетических) выражается в развенчании книги как носительницы смысла и «орудия счастья» и превращении ее в «простой параллелепипед из кожи и бумаги» (Борхес, «Книга»), вполне эквивалентный строительному блоку. (Кстати, борхесовский обладатель Книги песка – книги, которую невозможно читать и понимать, – размышлял «о костре» для нее, но потом «спрятал» среди томов Национальной библиотеки, принудив себя забыть о ее местоположении, то есть фактически тоже уничтожил. А вавилонские библиотекари, напомним, в отчаянии разочарования «швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги».) Расшифровке жеста уничтожения библиотеки у Борхеса посвящена отдельная новеллаэссе – «Стена и книги» (1950) из цикла «Новые расследования». Лишенная фантастического аспекта, новелла целиком сосредоточена на поиске возможного объяснения распоряжения легендарного китайского императора возвести великую китайскую стену и сжечь «все книги прежних времен». Борхес выдвигает две совокупности версий: при условии, что эти действия не были одновременными, и при условии, что они были совершены одно- 125 временно. В первом случае, в зависимости от того, какая последовательность действий императора будет выбрана, Борхес считает возможными трактовки легенды и как истории прозрения, и как истории разочарования: «Это <…> даст нам образ правителя, на� чавшего с разрушения, от которого он затем отказался, чтобы оберегать, или разочаро� ванного правителя, разрушающего то, что прежде берег»23. Во втором случае, если действия императора считать одновременными, его жест может быть рассмотрен по-разному. Во-первых, как попытка «уничтожить прошлое» (ибо книги «обременены прошлым», как говорится в эссе «Книга»)24. Во-вторых, как попытка «обрести бессмертие» в соответствии с верой в то, что «бессмертие изначально и в замкнутый мир тлению не проникнуть», и потому стена и костер из книг могут стать «магическим барьером, способным задержать смерть». В-третьих, жест императора может быть понять как бунт бессилия, вызов Вселенной, намерение вопреки ее законам сохранить непрочное и уничтожить вечное. «Быть может, Шихуанди окружил стеной империю, осознав ее непрочность, и уничтожил книги, поняв, что они священны или содержат то, что заключено во всей Все� ленной и в сознании каждого человека. Быть может, сожжение библиотек и возведение стены – действия, таинственным образом уничтожающие друг друга»25. В романе Домингеса, как кажется, разрушительный и созидательный акты непосредственно сопряжены, спаяны друг с другом: уничтожение библиотеки сопровождается возведением стен, вернее, возведение стен из книг и выражает деятельность по уничтожению библиотеки. Однако о созидательном начале в деятельности героя можно говорить только условно, так как строительство из книг разрушительно и ничем не отличается от костра, так как задумано оно ради уничтожения и оскорбления библиотеки. Поэтому, если в качестве интерпретанты поступка героя Домингеса выбирать новеллу Борхеса, мы должны предпочесть версию о том, что история Бауэра представляет собой историю разочарования, историю о человеке, который разрушает то, что прежде берег. Бауэром руководят сугубо личные мотивы, он мучается своими собственными взаимоотношениями со своей собственной библиотекой, оставшейся равнодушной, не принявшей дара его люб- 126 ви и существующей по своим непостижимым ему внутренним законам. Потому, уничтожая библиотеку, герой пытается расквитаться и со своим собственным прошлым, «освободиться из заточения». В этом плане его намерение не имеет ничего общего с предполагаемыми грандиозными претензиями китайского императора относительно уничтожения истории, обретения бессмертия или бунта против всеуничтожающего времени. Борхесовские смыслы здесь опрокинуты в индивидуальную историю взаимоотношений человека с книгой, при всем своем магическом потенциале, безусловно, исполненную в психологическом ключе. Обратим внимание на соответствие друг другу интерпретационных прочтений романа Домингеса, сложившихся при обращении к разным элементам его интертекстуального контекста – к роману Конрада и к новелламэссе Борхеса. И в том, и в другом случае история Бауэра прочитывается как история об утрате героем иллюзий в отношении собственных возможностей перед лицом универсума (в данном случае, смыслового). В соответствии с борхесовской типологией литературных историй, представленной в эссе «Четыре цикла», она с очевидностью входит в парадигму цикла о поиске, «обреченном на провал». Архетипически же история о поражении читателя, конечно, восходит к сюжетной схеме «Дон Кихота», так любимого Борхесом. В миниатюре «Действие книги» Борхес предлагает «фантазию», которая, с его точки зрения, вполне могла бы конкурировать с идеей предопределения или идеей свободы воли. Это фантазия о том, что «каждый шаг и каждое слово человека» могут быть пророчески предсказаны в «волшебной» книге. Совершенно очевидно, что в миниатюре речь идет о «Дон Кихоте» и Сервантесе, якобы купившем арабскую рукопись на толедском рынке, как о том и сообщается в девятой главе романа. В литературе о читателе «фантазия» Борхеса фактически осуществилась. Сюжетная матрица «Дон Кихота», основу которой составляет история поражения «литературного человека»26, повторяется в целом ряде произведений о читателях, «предсказывая» ту драматическую тональность, в которой решается авторами тема литературоцентричной судьбы. О. Н. Турышева Примечания Приведенные метафоры воспроизводятся из латинского трактата средневекового латинского библиофила Ричарда де Бери «Филобиблон, или О книголюбии» (1345) по изданию: Бери, Р. де. Филобиблон, или О книголюбии. М. : Кн., 1984. 2 Старобинский, Ж. Критика и принцип авторитета // Старобинский, Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М. : Языки славян. культуры, 2002. Т. 1. С. 314. 3 Например, у Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, М. Монтеня. 4 Об этом подробно в нашей статье: Геройчитатель в литературе трагического гуманизма // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2. Гуманит. науки. 2008. № 55. 5 Опубликован в: Иностр. лит. 2002. № 6. 6 К. М. Домингес (Carlos Maria Domingues) – современный писатель, родился в 1955 году в Аргентине, живет в Уругвае. «Бумажный дом» – четвертый роман писателя. 7 Яркие примеры: новелла Г. Флобера «Библиоман», новелла Ж. Дюамеля «О любителях» (из цикла «Письма к другу-патагонцу»). Впрочем, корни уподобления удовольствия от чтения эротическому удовольствию опять же следует искать в религиозной литературе средневековья. С одной стороны, она противопоставляла радость чтения «всем другим сладостям мира» (последние, дескать, «горчат» в сравнении с «упражнениями чтения», как писал средневековый философ Иоан Солсберийский). Недаром чтение описывалось как деятельность, отвлекающая от грехов плоти. С другой стороны, это противопоставление очевидно провоцировало представление о соответствии друг другу радостей чтения и эротических радостей, а также представление о возможности описать одно через другое: чтение – через совокупность эротических метафор, любовь – через метафору чтения (второе – значительно позднее, начиная с литературы XIX века). Влияние этой традиции ощутимо у М. Монтеня: в третьей главе �������������� III����������� тома «Опытов» он описывает сомнения выбора лучшего типа общения, в конце концов предпочитая общение с книгами любовному общению. 8 Домингес, К. М. Бумажный дом. М. : АСТ : АСТ-МОСКВА : Хранитель, 2007. С. 84. 9 Там же. С. 78–79. 10 Здесь можно предполагать аллюзию на свифтовскую «Битву книг»: в сочинении Свифта 1 Бунт против библиотеки: к истории литературного мотива сражение между новыми и древними книгами началось в том числе из-за библиотекаря: по причине его «жестокой злобы» по отношению к древним, которую он решил удовлетворить, выказывая знаки расположения только новым книгам; а также по причине его простого нерадения: «расставляя книги, он вполне мог ошибиться и запихнуть Декарта рядом с Аристотелем, Бедный Платон оказался между Гоббсом и «Семью мудрецами», а Вергилий был стиснут Драйденом с одной стороны и Уитером с другой» (Свифт, Дж. Битва книг // Кораблимысли. Английские и французские писатели о книгах, чтении, бибилиофильстве. М. : Кн., 1986. С. 40). 11 Борхес, Х. Л. Соч. : в 3 т. Т. 3. М. : Полярис, 1997. С. 276. 12 Там же. Т. 2. С. 11. 13 Борхес, Х. Л. Книга // Борхес, Х. Л. Соч. : в 3 т. Т. 3. С. 273. 14 Борхес, Х. Л. Проза разных лет. М., 1989. С. 82. 127 Там же. С. 83. Там же. С. 85. 17 Завадская, Е. В. Борхес о книге как феномене культуры // Книга : Исследования и материалы. М. : Кн., 1991. Сб. 62. С. 218. 18 Борхес, Х. Л. Проза разных лет. С. 106. 19 Термин У. Эко. 20 Борхес, Х. Л. Проза разных лет. С. 104. 21 Там же. С. 270. 22 Там же. С. 269. 23 Борхес, Х. Л. Стена и книги // Борхес, Х. Л. Соч. : в 3 т. Т. 2. С. 10. 24 Именно эту мотивацию поступка китайского императора Борхес подробно разрабатывает в лекции о Готорне, где возвращается к этой легенде. В новелле же делаются множественные предположения относительно мотивов уничтожения библиотеки. 25 Борхес, Х. Л. Стена и книги. С. 11. 26 Термин М. М. Бахтина. 15 16