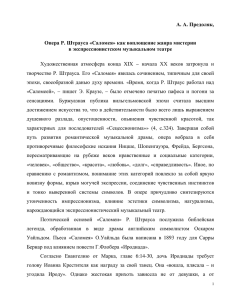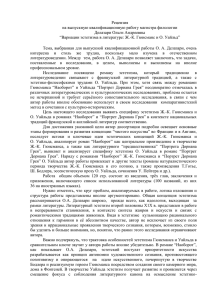МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
реклама
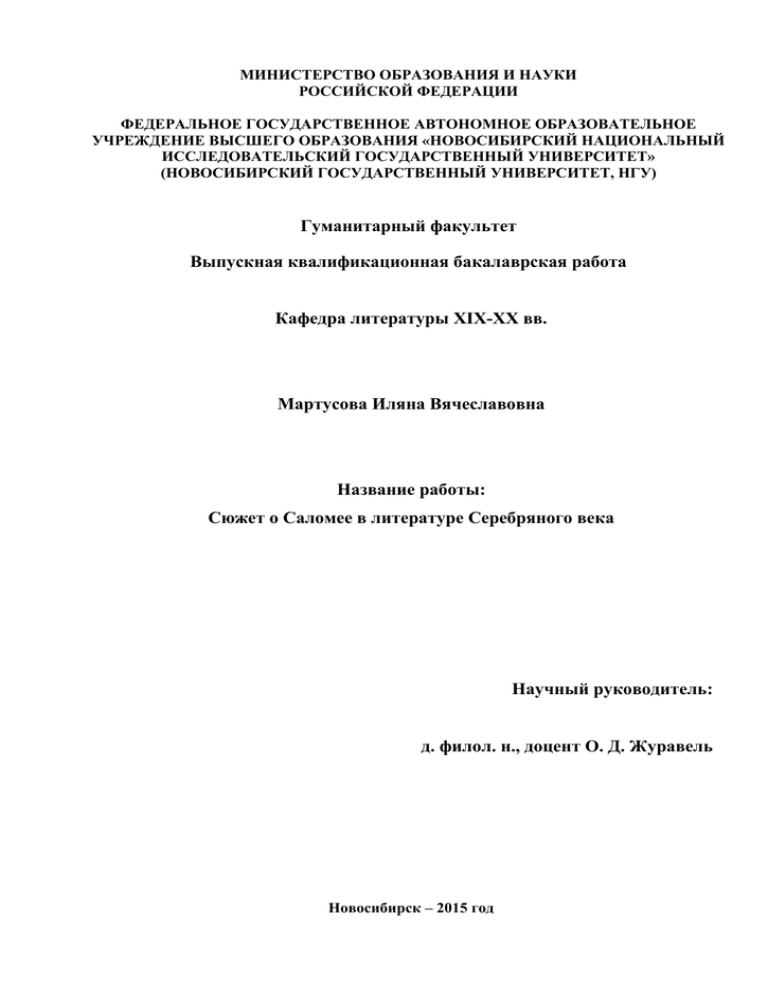
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) Гуманитарный факультет Выпускная квалификационная бакалаврская работа Кафедра литературы XIX-XX вв. Мартусова Иляна Вячеславовна Название работы: Сюжет о Саломее в литературе Серебряного века Научный руководитель: д. филол. н., доцент О. Д. Журавель Новосибирск – 2015 год ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение………………………………………………………………………..3 2. Глава I. Миф в литературе Серебряного века…………….………………….5 3. Глава II. Сюжет о Саломее……………………………………………………8 3.1. Истоки сюжета о Саломее………………………………………………..8 3.2. «Саломея» Оскара Уайльда……………………………………………..12 3.3. Восприятие сюжета о Саломее русской культурой начала XX в. (театральные постановки)………………………………...……………..15 4. Глава III. Сюжет о Саломее в русской литературе…………….…………..20 4.1. Блок…………………………………………………………………..…..20 4.2. Ахматова…………………………………………………………………28 4.3. Осмысление сюжета в поэзии 1910-1920 гг.: новые грани смысла….31 4.4. Проза. Мариенгоф……………………………………………………….43 4.5. Драма. Андреев…………………………………………………………..45 5. Заключение…………………………………………………………………...48 6. Список использованной литературы………………………………………..50 2 ВВЕДЕНИЕ Данное исследование посвящено изучению сюжета о Саломее и его бытования в культуре (в частности, в литературе) русского Серебряного века. Объектом исследования является библейский образ иудейской царевны Саломеи и связанный с ним сюжет об обезглавливании Иоанна Крестителя, а также прочие образы данного сюжета, такие как Ирод и Иродиада. Предмет исследования – рецепция этого образа в литературе и культуре России начала XX в. (Серебряный век). В качестве научноисследовательской М. Л. Гаспарова, базы О. Матич, мы использовали Л. Силард и работы других А. Пайман, исследователей, литературными источниками послужили фрагменты творчества А. Блока, А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Кузмина, М. Цветаевой, В. Маяковского, В. Ходасевича, А. Мариенгофа, Л. Андреева. Цель нашей работы – исследовать бытование сюжета о Саломее в литературе Серебряного века. Задачи исследования: рассмотреть, как в литературе Серебряного века воспринимался миф; изучить историю сюжета о Саломее (библейский текст, труды Иосифа Флавия, «Саломея» Оскара Уайльда); рассмотреть, как сюжет о Саломее был воспринят культурой и литературой Серебряного века. Актуальность работы состоит в том, что восприятие образа Саломеи русской культурой Серебряного века еще не изучалось как самостоятельная тема. С одной стороны, можно найти множество литературоведческих работ, исследующих библейские образы (Христос, апостолы, Юдифь, Ева и т. д.) либо библейскую символику в литературе русского Серебряного века, однако сюжету о Саломее они уделяют достаточно мало внимания. Исключение 3 составляют работы О. Матич, которая достаточно подробно рассматривала восприятие образа Саломеи творчеством А. Блока. С другой стороны, можно увидеть работы, рассматривающие отражение творчества Уайльда (в том числе и его пьесы «Саломея», про которую мы будем говорить в своей работе как о произведении, сильно повлиявшем на восприятие этого сюжета русской литературой) в русской культуре начала века, но в них образ Саломеи изучается только в контексте произведений Уайльда, а реакция русских писателей на эту тему обходится стороной. Мы же занимаемся своеобразным синтезом описанных выше двух направлений, предлагая исследование, в котором будет рассматриваться образ библейской героини именно в восприятии русских писателей и поэтов начала XX в. с учетом влияния творчества Уайльда на особенности этого восприятия. Работа источников, состоит из содержащего Введения, 15 трех глав, наименований, содержащего 50 наименований. 4 и Заключения, списка списка литературы, ГЛАВА I. МИФ В ЛИТЕРАТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Для начала следует определить, что мы понимаем под термином «Серебряный век», какой временной период и какие литературные направления он охватывает. Традиционно под «Серебряным веком» понимают особый период в истории русской культуры на границе XIX и XX веков, в части литературы включающий в себя ряд модернистских направлений: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Также в творчестве писателей этого времени заметно достаточно сильное влияние европейского декаданса. Границы Серебряного века достаточно условны, но принято считать, что он продолжался с начала 1890-х гг. до начала 1920-х гг. Искусство Серебряного века отличает особый интерес к мифу и установка на мифологичность. Вслед за романтиками, художники и писатели этой эпохи вновь стали использовать традиционный (античный и библейский) миф в своем творчестве, а также начали создавать и собственные авторские мифы. Ю. М. Лотман, З. Г. Минц и Е. М. Мелетинский в своей статье указывают, что такая увлеченность мифологизмом была вызвана осознанием кризиса цивилизации, характерным для мироощущения людей, живших на рубеже веков. Исследователи отмечают, что «мифология в силу своей исконной символичности оказалась удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса» [Лотман, Минц, Мелетинский, 1980]. Использование и переосмысление различных бродячих сюжетов и архетипических образов тоже оказывается достаточно популярным в это время. З. Г. Минц также указывает, что «миф становится универсальным «ключом», «шифром» для разгадки глубинной сущности всего происходящего в истории, современности и искусстве» [Минц, 2004. С. 64]. Она же отмечает, что очень многие художники Серебряного века (В частности, символисты) обращаются к образам и поэтике мифа, причем не 5 только античного и библейского, но и славянского, германского, египетского, персидского и других. Символизм (рассмотрим его здесь как одно из самых ярких литературных направлений Серебряного века) весьма охотно обращался к мифам вообще и к библейской мифологии в частности. Объясняя позицию Шеллинга, Е. М. Мелетинский говорит, что символизм изначально присущ мифологии, что «символизм есть принцип конструирования мифологии вообще» [Мелетинский, 1976. С. 19]. Многоплановость и многозначность символа всегда имела своей основой в том числе и религиозные либо мифологические представления о земной реальности и ее непостижимом и ирреальном «двойнике», потому мы и встречаем так много мифологических (и, в частности, библейских) образов в произведениях символистов. М. Л. Гаспаров отмечает, что Священное писание было классическим источником символов для европейской культуры [Гаспаров, 1998]. Словари символов к нему составлялись еще в Средние века. Исследователь говорит, что такой масштабный опыт библейской символики очень повлиял на само восприятие термина, который обрел два значения – «светское» (простой риторический прием, применимый к любому материалу) и «духовное» («земной знак несказуемых небесных истин»). В этом «раздвоении» термина М. Л. Гаспаров также видит зачаток раскола между старшим и младшим поколениями русских символистов: «светская» трактовка принималась старшими символистами (Брюсовым, Бальмонтом), «духовная» – младшими (Вяч. Ивановым, Белым и Блоком). Но, несмотря на этот видимый раскол в понимании библейского символа, библейские образы устойчиво появляются в творчестве символистов обоих поколений. Можно предположить, что причина этого была в том, что, по словам М. Л. Гаспарова, библейская символика была жива в сознании каждого человека европейской культуры любого времени – значит, такие образы и символы были весьма благодарным материалом для использования их в литературе, так как были понятны любому читателю. К тому же можно 6 отметить потенциальную многозначность и метафоричность этих образов, что открывает множество возможностей для переосмысления канонических текстов и новой их интерпретации [Гаспаров, 1998]. 7 ГЛАВА II. СЮЖЕТ О САЛОМЕЕ §1. Истоки сюжета о Саломее Первоначально сюжет о Саломее и Иоанне Крестителе появляется в Новом Завете, в Евангелии, однако упоминается этот эпизод только в двух книгах Евангелия из четырех: у Матфея и Марка. У Луки и Иоанна эпизод отсутствует. При этом по имени Саломея у евангелистов не названа в принципе, о ней говорится только как о «дочери Иродиады». Рассмотрим цитаты из Евангелий, чтобы понять, какие элементы и мотивы первоначально составляли этот сюжет. Матфей (14:3-11) (3) Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, (4) потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. (5) И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. (6) Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, (7) посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. (8) Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. (9) И опечалился князь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, (10) и послал отсечь Иоанну голову в темнице. (11) И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Марк (6:17-28) (17) Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. 8 (18) Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. (19) Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. (20) Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берѐг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. (21) Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским, – (22) дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; (23) и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. (24) Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. (25) И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. (26) Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. (27) И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. (28) Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девиц, а девица отдала ее матери своей. При прочтении видно, что один и тот же эпизод в разных Евангелиях описан несколько по-разному, что дает последующим интерпретаторам больше возможностей для различных трактовок. Так, к примеру, у Матфея говорится, что Ирод хотел убить Иоанна, но не делал этого, потому что боялся народа и его реакции на это убийство; у Марка же сказано, что Ирод боялся самого Иоанна, «зная, что он муж праведный и святой», но и слушал он его с большим удовольствием – и, следовательно, убивать не хотел. Принципиальное сходство же между эпизодами состоит в том, что в обоих случаях Саломея действовала по наущению своей матери. Интересно, 9 что в более поздних трактовках этот мотив будет опущен частично или полностью (как, например, в драме О. Уайльда), и действия Саломеи будут обусловлены уже ее собственным выбором, а не приказом Иродиады. А в связи с этим изменится и сама мотивировка действий иудейской царевны: если ранее она просила себе в дар голову Иоанна из-за того, что он оскорблял своими пророчествами ее мать, то теперь она делает это по своим личным мотивам. Вернемся к вопросу об имени Саломеи. Как уже было сказано выше, в Евангелиях это имя не упоминается, и впервые оно появляется только в трудах Иосифа Флавия. Вот что говорится о Саломее в «Иудейских древностях»: «…Сестра их Иродиада вышла замуж за сына Ирода Великого, Ирода же, происходившего от Мариаммы, дочери первосвященника Симона. Она родила ему дочь Саломею. После рождения этой девочки Иродиада, вопреки нашим законам, вышла замуж за сводного брата своего мужа, именно за галилейского тетрарха Ирода, но разошлась и с ним еще при его жизни. Ее дочь Саломея вышла замуж за трахонского тетрарха Филиппа, сына Ирода [Великого]» [И. Флавий, «Иудейские древности», книга 18, глава 5]. Иосиф Флавий ничего не пишет про танец Саломеи: по его свидетельству, Иоанн Креститель был убит Иродом из чисто политических соображений. «Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для омовения <…> Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души. Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там казнен» (там же). 10 Достоверных фактов о Саломее крайне мало, но, как отмечает А. С. Иванова, именно «недостаточность исторических сведений о дочери Иродиады стала главной причиной появления различных интерпретаций ее образа. Возможность домыслить внешность и характер библейской героини послужила отправной точкой для создания множества произведений от романтиков до декадентов» [Иванова, 2007. С. 18]. Поэтому данный образ так видоизменялся в творчестве писателей и поэтов разных эпох, и авторские переложения этого сюжета настолько непохожи на первоначальный библейский текст. Ознакомившись с каноничными библейскими изложениями данного эпизода и с дополнениями к ним Иосифа Флавия, мы можем выделить основные компоненты данного сюжета, создать нечто вроде «облака тэгов», которые впоследствии будут помогать нам идентифицировать его в произведениях разных авторов и отграничивать его от похожих сюжетов. Такими компонентами (иначе – ключевыми мотивами) на данном этапе нашего исследования являются: Иоанн (иначе Креститель или пророк), Ирод, Иродиада, «дочь Иродиады» (согласно Евангелиям) либо Саломея (согласно Флавию), танец Саломеи, наущение Иродиады, отрубленная голова Иоанна, голова на блюде, несение головы. Впоследствии при появлении дополнительных элементов, составляющих интересующий нас сюжет, этот список может пополняться. Однако не все перечисленные нами компоненты являются опорными для данного сюжета, в различных его вариациях некоторые из них могут оказываться опциональными. Используя метод В. Я. Проппа, мы можем попробовать вычленить хотя бы приблизительную инвариантную схему, структуру сюжета о Саломее (оговоримся, что это только лишь предварительный вариант этой схемы, несомненно требующий дальнейшей доработки). По нашему мнению, наиболее устойчивыми в этом сюжете являются два в данном случае взаимосвязанных базовых мотива (или, следуя В. Я. Проппу, функции): мотив декапитации и мотив танца. Если оба этих 11 мотива присутствуют в произведении, мы с большой долей уверенности можем говорить о том, что перед нами вариация сюжета о Саломее. Соответственно, присутствие прочих традиционных персонажей и мотивов этого сюжета, таких как Ирод, Иродиада, наущение Иродиады и т. д., совсем не обязательно. На представленные два основных мотива далее могут наслаиваться последующие, либо они сами могут дробиться на более узкие мотивы. Так, танец может быть как минимум двух видов: до усекновения головы второго персонажа (т. е. в этом случае танец будет в каком-то смысле каузировать декапитацию – этот вариант мотива встречается в большей части вариаций данного сюжета) либо после усекновения (танец с отрубленной головой на блюде – вариант, встречающийся реже). В другой вариации танец, предваряющий усекновение головы, также может называться «танцем семи покрывал». Опять же согласно В. Я. Проппу, основные мотивы сюжета всегда будут оставаться неизменными, а связанные с ними персонажи могут меняться. Так, для воплощения этого сюжета нам необходим персонаж, который будет обезглавлен, но совершенно необязательно, чтобы этот персонаж являлся именно Иоанном Крестителем. Например, в интерпретации Блока он будет поэтом с некоторыми аллюзиями на Орфея (об этом мы будем говорить отдельно в соответствующем параграфе третьей главы). §2. «Саломея» Оскара Уайльда Пьеса О. Уайльда «Саломея» (1893 г.) существенно повлияла на восприятие образа Саломеи в России начала XX в. В текстах авторов Серебряного века мы чаще всего видим именно уайльдовскую трактовку сюжета о Саломее. Несмотря на то, что в европейской культуре образ Саломеи был известен уже давно и пользовался неизменной популярностью среди художников и скульпторов (среди которых Леонардо да Винчи, Рубенс, 12 Дюрер, Тициан и др.), в литературе всплеск интереса к нему возник только в девятнадцатом веке. Среди тех, кто обращался к этому сюжету, были, например, Флобер, Гейне, Гюисманс, Лафорг – и, разумеется, Оскар Уайльд. Биограф и исследователь творчества Уайльда Ричард Эллман пишет, что «устав от пропаганды, возвеличивающей природу и гуманистические ценности, они [европейские литераторы XIX в.] с облегчением восприняли библейский образ, воплощавший в себе неестественность» (что весьма хорошо согласуется с общим настроением зарождающейся к концу века эпохи декаданса с устойчивым акцентом на все искусственное) [Эллман, 2012. С. 415]. Причем каждый из них представлял свое собственное видение Саломеи, не похожее на другие – и тем более на первоначальный библейский образ. Так и Уайльд, не согласившись с традиционной евангельской интерпретацией сюжета, дает свою собственную его трактовку. Он отрицает то, что Саломея просто исполняет волю своей матери, и вводит новый мотив: теперь просьба об обезглавливании становится личным решением Саломеи, принятым ею вследствие неразделенной любви к Иоканаану. Вот что говорит о уайльдовской трактовке данного сюжета литературовед Л. Г. Андреев: «У Уайльда героиня <…> предстает художником-любителем, преобразующим мир силой своего впечатления, своего мировосприятия, в котором все наделяется сверкающими красками, все эстетизируется, все уравнивается на палитре декадентского «неоромантизма». Отвратительное становится соблазнительным, смерть братается с красотой, чистая, сверкающая луна уподобляется пьяной распутнице. Саломея в экстазе любви жаждет смерти – требует голову пророка и со страстью целует уста покойного; сама же гибнет по приказу царя, который перед этим, не отрываясь, созерцал ее красоту!» [Андреев, 2005. С. 156] В целом в пьесе излагается тот же сюжет, что и в Евангелиях, но в ней в соответствии с духом времени и замыслом автора смещаются уже существовавшие в тексте акценты или же добавляются новые. Пожалуй, главное и наиболее заметное отличие этого текста от канонического – это 13 мотивация Саломеи, о которой мы уже упоминали. У Уайльда Саломея безответно влюбляется в Иоканаана. Вот что она говорит уже после казни пророка: <…> Иоканаан, ты был единственный человек, которого я любила. <…> Я видела тебя, Иоканаан, и я полюбила тебя! Я еще люблю тебя, Иоканаан. Тебя одного. Твоей красоты я жажду. В пьесе Уайльда эта губительная страсть в итоге убивает и ее саму – в конце пьесы еѐ по приказу Ирода раздавливают щитами стражники (в то время как в евангельских текстах про смерть царевны ничего не говорится): Голос Саломеи. А! Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот. На твоих губах был острый вкус. Был это вкус крови?.. Может быть, это вкус любви. Говорят, у любви острый вкус. Но все равно. Все равно. Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот. Ирод. Убейте эту женщину. (Солдаты бросаются и щитами своими раздавливают Саломею, дочь Иродиады, царевну иудейскую). В пьесе Уайльда также появляется один немаловажный мотив, которого мы не видели ни в канонических библейских текстах, ни у Флавия – это мотив целования отрубленной головы, который особенно акцентируется в финале пьесы Уайльда. Иоканаан не хотел дать Саломее поцеловать себя – и в итоге она целует его мертвую отрубленную голову. Эллман предполагает, что источником этого мотива мог стать фрагмент драматической поэмы Джозефа Хейвуда «Саломея» (1860-е гг.), который, в свою очередь, основывался на эпизоде поэмы Гейне «Атта Троль» (1841 г.), где сидящий на лошади призрак Иродиады целовал отрубленную голову Иоанна [Эллман, 2012. С. 416]: И в руках она доныне Держит блюдо с головою Иоанна и безумно Эту голову целует. 14 Однако следует отметить, что, во-первых, у Гейне и Хейвуда главным действующим лицом остается Иродиада, а не Саломея, а во-вторых, что у данных авторов целование отрубленной головы не превращается в сюжетообразующий мотив, организующий текст, как это случилось в «Саломее» Уайльда, а остается малозначимым эпизодом, внимание на котором автором не заостряется. У Уайльда же это становится кульминацией всего произведения. Р. Эллман также пишет, что Уайльд всегда сетовал на покорность библейской Саломеи, слепо исполняющей желания своей матери, настроенной против пророка. Уайльд заявлял, что неадекватность этого рассказа «заставляла людей века за веком бросать к ее ногам свои мечты и видения, чтобы превратить ее в роскошный цветок порочного сада» [Эллман, 2012. С. 420]. Он создал свой собственный вариант сюжета, в котором Саломея после своего танца требует голову пророка не из дочернего послушания, а вследствие неразделенной любви, так как она решает, что у нее нет иного способа заполучить своего возлюбленного. Р. Эллман говорит, что подобные ей фигуры приобретают символические черты, и это «умеряет их чудовищность» [Эллман, 2012. С. 422]. Также в глаза бросается необычная форма имени пророка – не знакомое нам по библейским текстам традиционное имя «Иоанн», а его греческая форма – «Иоканаан». Такую форму имени Уайльд мог позаимствовать из «Трех повестей» Флобера, среди которых была повесть об Иродиаде и Иоанне Крестителе. Впоследствии употребление разными писателями той или иной формы этого имени каждый раз будет неслучайным, но об этом мы скажем подробнее в следующей главе, где будем говорить о восприятии этого сюжета русской литературой. §3. Восприятие сюжета о Саломее русской культурой начала XX в. (театральные постановки) 15 Учитывая синкретизм и взаимосвязь различных форм искусства (живописи и театра, философии и религиозно-нравственных исканий и т. д.), характерные для рассматриваемой нами эпохи, исследование истории театральных постановок, связанных с интересующим нас сюжетом, важно и для нашей работы. В культурной жизни Российской Империи начала XX века образ Саломеи был чрезвычайно популярен. Начал возникать этот интерес с перевода в 1904 году К. Бальмонтом пьесы О. Уайльда «Саломея» (1893). Один только этот перевод выдержал шесть переизданий в период с 1904 по 1908 гг. В качестве вступлений к разным изданиям своего перевода Бальмонт помещал свои эссе («О любви», 1903 г., и «О драме Оскара Уайльда «Саломея», 1908 г.), в которых размышлял о представленном Уайльдом образе. Эти эссе вполне можно считать полноценными художественными произведениями, хоть они изначально и не заявлялись таковыми. Видение Бальмонтом сюжета о Саломее интересно тем, что он едва ли не единственный из всех обращавшихся к данному образу однозначно встает на сторону Саломеи и, полностью еѐ оправдывая («Я вижу Саломею незапятнанной в веках»), возводит всю вину на Иоанна и его бога: Как те, которые хотят увидеть своего Бога, Иоканаан закрыл повязкой свое лицо, и Бога своего он увидел, но еѐ, единственную, он не увидел, Саломею, которая была лучшим цветком мира, он не увидел, девушку не увидел, девственность оскорбил, Богом своим, как рычагом тяжеловесным, грубо оттолкнул тончайшее, и эта слепота, как фатум, обусловила кровавое празднество, на котором незримо смеялись все Дьяволы. Саломея прекрасна, как белый лотос, и лотос голубой, как золотой нарцисс, лилия Саронских долин… («О драме Оскара Уайльда «Саломея») Согласно видению Бальмонта, Саломея была чиста и прекрасна, а еѐ любовь – нежна и возвышенна, но Креститель не смог или не захотел этого увидеть («…алое Солнце не увидело, как светит нежный Полумесяц, и Полумесяц превратился в режущий серп»), именно это и привело сюжет к 16 трагической развязке. Насколько нам известно, ни один из предшествующих авторов не давал подобной трактовки данным образам. В 1905 г. начало издаваться первое в России собрание сочинений Уайльда в восьми томах, в 1909 г. было издано второе, а уже в 1912 г. вышло третье (под редакцией К. И. Чуковского), которое было переиздано спустя два года [Ерофеев, 2013. С. 145]. В связи с актуальностью образа в это время предпринимались попытки поставить пьесу на сцене, но все они заканчивались провалом. Так, в 1907 году Московский Художественный театр им. Станиславского пытался получить разрешение на постановку пьесы, но ему в нем было отказано. Некоторые провинциальные театры в это же время ставили сокращенную версию пьесы под названием «Танец семи покрывал», однако они не снискали особой популярности и сейчас про них практически ничего не известно. Далее, в 1908 году, знаменитая танцовщица и актриса Ида Рубинштейн пыталась добиться позволения ставить собственную версию спектакля, собрав для него при этом беспрецедентный состав постановщиков: Всеволод Мейерхольд в качестве режиссера, Леон Бакст в качестве декоратора и художника по костюмам, Александр Глазунов в качестве композитора и Михаил Фокин в качестве хореографа. Но и эта постановка была запрещена еще до премьеры и так и не увидела свет. Однако отдельные еѐ элементы, такие как «танец семи покрывал» и костюм Саломеи, были перенесены в балет «Une nuit de Clèopatre» («Ночь Клеопатры») – один из наиболее успешных балетов дягилевского Первого парижского сезона в 1909 г. Саломея стала Клеопатрой, одна femme fatale превратилась в другую. По оставленным современниками отзывам о «Ночи Клеопатры» можно составить некоторое представление о том, какой должна была быть Саломея в постановке Мейерхольда. К примеру, Жан Кокто так описывает Иду Рубинштейн в роли Клеопатры: «<Из саркофага> подняли нечто вроде великолепной мумии, закутанной в многочисленные покрывала <…> Четыре раба <…> развернули первое покрывало – красное, со златоткаными 17 лотосами и крокодилами; затем второе – зеленое, на котором золотой нитью была вышита история династий, потом третье – оранжевое, с разноцветными полосками и так далее, вплоть до двенадцатого, темносинего, через которое просвечивало тело женщины. Каждое покрывало удалялось по-разному: для одного нужна была <…> осторожность, как при снятии скорлупы со спелого ореха; <для другого> – воздушное срывание лепестков розы; а одиннадцатое покрывало, самое трудное, срывалось одним рывком, подобно коре эвкалипта. Двенадцатое покрывало, темносинее, мадам Рубинштейн сняла сама – широким круглым жестом. <Она стояла> перед нами, чуть подавшись вперед, слегка склонив голову, как будто за ее спиной были сложены крылья ибиса. На голове у нее был маленький парик с короткими золотыми косами по обеим сторонам лица, и так она стояла перед завороженной аудиторией, с опустошенными глазами и приоткрытыми губами, пронзительно красивая, словно резкий запах какихто восточных духов»1. Однако Дягилев, по-видимому, не отказался от идеи создания постановки про Саломею, и в 1913 г. в рамках «Русских сезонов» в Париже им был поставлен балет на музыку Ф. Шмитта «Трагедия Саломеи», где главные роли исполняли Т. Карсавина и А. Гаврилов. В 1908 г. Н. Н. Евреинову, режиссеру и теоретику театра, удалось добиться разрешения на постановку пьесы в театре им. Комиссаржевской. Художником-оформителем в этот раз выступал Н. Калмыков, создавший декорации, напоминавшие иллюстрации к уайльдовской «Саломее», выполненные Обри Бердсли. Из-за неодобрительного отношения Синода к изображению на сцене библейских сюжетов, из уайльдовской пьесы были убраны все библейские имена (так, Иоанн стал «Прорицателем», Ирод – «Тетрархом», Саломея – «Царевной»), а также почти все отсылки к истории Иоанна Крестителя. Следуя настроениям времени, эта постановка была 1 Приводится по: Матич О. Покровы Саломеи: эрос, смерть и история // Эротизм без берегов: сб. статей и материалов / Сост. М. М. Павлова. М., НЛО, 2004. 18 символистской, что подчеркивалось не только речью героев, но и их внешним обликом. Вот как описывает персонажей М. Вейконе, присутствовавший на репетиции: «Царевна в белой, легкими складками падающей одежде, с бледно-сиреневым телом и лицом, глубоко ушедшим в рамку густых, светло-красных, мягких волос… Легко выносящийся на поверхность водоема, хрупкий, с бледно-зеленым, тонким, как былинка, тельцем пророк с темно-лиловыми волосами, с глубокими, черными впадинами глаз, с воздетыми к небу руками <…> Звероподобный тетрарх, низкорослый, тучный, с воловьим затылком, с красными губами, черной бородой и серым телом, хрипло изрыгающий слова… Жена тетрарха – жесткая фигура с длинными, синими локонами и резкими чертами лица» [Вейконе, 1911]. М. Вейконе отмечает, что носились слухи, что спектакль будет сорван, если не отменен, но генеральная репетиция все-таки состоялась 27 октября 1908 года. Однако и эта постановка указом властей была запрещена за несколько часов до премьеры. Судьба театральных постановок пьесы о Саломее в России была непростой. Однако интерес к этому сюжету возник в то время не только в театральной среде, но и в литературной, о чем мы и будем говорить в следующей главе. 19 ГЛАВА III. СЮЖЕТ О САЛОМЕЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Прямые упоминания Саломеи или же просто аллюзии на этот образ появлялись как в поэзии, так и в прозе. В поэзии этот образ можно найти в творчестве А. А. Блока, А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева, А. Б. Мариенгофа, М. А. Кузмина, М. И. Цветаевой, В. Маяковского; в драме и прозе – в произведениях Л. Н. Андреева и А. Б. Мариенгофа соответственно. Исследовательница Л. Силард отмечает, что «мотив декапитации – то в подчеркнутой связи с мифологемами Орфея или Саломеи, то в формах игрового отстранения или же непомнящего об истоках отзвука – заполонил русскую поэзию <…> спровоцировав, видимо, отзвуки и в прозе», вплоть до булгаковского Берлиоза или «Головы профессора Доуэля» А. Беляева [Силард, 2002. С. 93–94]. Как было отмечено О. Матич, наиболее обширно образ Саломеи представлен в творчестве Блока, с его рассмотрения мы и начнем этот раздел. §1. Блок Американский литературовед и культуролог, специалист по русской литературе Ольга Матич отмечает, что заинтересованность Блока Саломеей возникла во время его путешествия в Италию весной 1909 г.: именно тогда в его дневниках появляются первые упоминания о Саломее – впечатления от итальянских картин и фресок, ее изображающих: картины «Саломея с головой Иоанна Крестителя» Карло Дольчи из галереи Уффици и мозаики на сюжет усекновения головы Иоанна Крестителя в венецианском соборе СанМарко [Матич, 2004]. Саломея появляется уже во втором стихотворении блоковского цикла «Венеция» (сборник «Итальянские стихи», 1909 г.): Холодный ветер от лагуны. Гондол безмолвные гроба. Я в эту ночь – больной и юный – Простерт у львиного столба. 20 На башне, с песнею чугунной, Гиганты бьют полночный час. Марк утопил в лагуне лунной Узорный свой иконостас. В тени дворцовой галереи, Чуть озаренная луной, Таясь, проходит Саломея С моей кровавой головой. Все спит – дворцы, каналы, люди, Лишь призрака скользящий шаг, Лишь голова на черном блюде Глядит с тоской в окрестный мрак. В этом стихотворении уже видна специфика восприятия поэтом образа Саломеи – он здесь отделен от материнского сюжета, где обязательно присутствует Иоанн Креститель, и девушка несет здесь голову не пророка, а самого лирического героя, т. е. поэта. Эта замена «пророка» на «поэта» вкупе с упоминанием отрубленной его головы совершенно не случайна, так как она логичным образом указывает читателю на другой миф, где присутствовал поэт-пророк с отрубленной головой, – миф об Орфее. Это выводит читателя на следующий смысловой уровень текста. Образ Орфея интересовал Блока и ранее: впервые в творчестве поэта тот появляется в последнем стихотворении цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Дома растут, как желанья…», 1902 г.). Говоря о стихотворении «Венеция», Л. Силард отмечает, что «отождествив усекновение главы Иоанна Предтечи с судьбой лирического «я», он [Блок] одним жестом протянул связующую нить от Иоанна Крестителя к Орфею-Офелии заключительного стихотворения книги «Стихов о Прекрасной Даме» [Силард, 2002. обезглавливания С. 89]. Также эксплицируется Силард в 21 указывает, качестве что «мифологема символа превращения «душевного человека» в «человека духовного», то есть поэта [Силард, 2002. С. 80]. Следовательно, здесь мы можем говорить не только о контаминации нескольких мифов, но и о переосмыслении Блоком сюжета о Саломее и введении в него тем поэта и его творчества (что дополнительно подчеркивается аллюзией на певца Орфея), сакральной жертвы и мученичества поэта. О. Матич предполагает, что голова поэта в данном случае представляет собой «голос поэзии, в освобождении которого, повидимому, Саломея играет ключевую роль» [Матич, 2008]. Однако мы считаем, что здесь следует обратить внимание на принципиальное различие внешне схожих сюжетов об обезглавливании Иоанна и Орфея: Иоанна декапитация заставляет замолчать и перестать пророчествовать и «клеветать» на Иродиаду, голова же Орфея в мифе, напротив, продолжает пророчествовать, пока плывет по реке, отрубленная. Следовательно, если в данном стихотворении Блока обезглавливание можно трактовать по Матич как освобождение голоса поэзии, то в остальных случаях сюжет о Саломее скорее должен интерпретироваться как истинное умерщвление пророка и лишение его голоса во всех смыслах. В одном из отвергнутых Блоком черновиков этого же стихотворения есть строки: Мне не избегнуть доли мрачной – Свое паденье признаю: Плясунья в тунике прозрачной Лобзает голову мою! В этом наброске уже совершенно четко прослеживается введенный Уайльдом мотив целования царевной отрубленной головы пророка/поэта – мотив, в первоначальном сюжете отсутствующий. Такая реминисценция неудивительна, так как в то время «Саломея» Уайльда носилась в воздухе», как говорит Ольга Матич [Матич, 2004]. К тому же, этот эпизод явно перекликается с монологом уайльдовской Саломеи, который она произносит, когда ей приносят голову Иоканаана («А, ты не хотел мне дать поцеловать 22 твой рот, Иоканаан. Хорошо, теперь я поцелую его. Я укушу его зубами своими, как кусают зрелый плод. Да, я поцелую твой рот, Иоканаан. Не говорила ли я тебе?») И вообще в данном отрывке чувствуется сильное влияние пьесы Уайльда: на это указывает то, что герой признает свое «падение» из-за того, что «плясунья» всѐ-таки поцеловала его голову. Вспомним пьесу: Иоканаан пытается прогнать от себя Саломею, называя еѐ «дочерью Содома и Вавилона», он проклинает еѐ и не хочет даже смотреть на царевну, потому что один вид еѐ может его осквернить. Так и здесь: падшим и оскверненным герой чувствует себя именно из-за победы над ним героини. Как уже отметила О. Матич, появление Саломеи именно в итальянском (венецианском) цикле навеяно художественными работами итальянских художников на эту тему, увиденными Блоком. Однако дальнейшие реминисценции образа появляются у Блока и вне контекста Италии. Например, этот образ появляется в прологе к поэме «Возмездие» (19101921 гг.): …Но песня – песнью всѐ пребудет, В толпе всѐ кто-нибудь поет. Вот – голову его на блюде Царю плясунья подает; Там – он на эшафоте черном Слагает голову свою; Здесь – именем клеймят позорным Его стихи… И я пою, – Но не за вами суд последний, Не вам замкнуть мои уста!.. Здесь опять же явно прослеживается аллюзия на Саломею, которая зачастую «кодируется» авторами как «плясунья» или «танцовщица». По сравнению с первоначальным сюжетом здесь изменяется вектор движения – теперь не царь дает девушке испрошенную ею голову, а она сама подает еѐ 23 ему. А голова эта и на сей раз принадлежит не Иоанну, а некоему «певцу» из толпы – то есть, поэту, который перенимает функции Крестителя. Именно «поэт, жертвующий собой ради своего призвания, становится центральной фигурой блоковской версии мифа о Саломее», – отмечает О. Матич [Матич, 2008]. Также можно обратить внимание на то, что в данном отрывке нарушена последовательность событий: сначала поэт поѐт в толпе, затем плясунья подает его голову царю, только после этого он слагает свою голову на эшафоте, а толпа освистывает его стихи. Возможно, это указывает на вневременность происходящего – судьба настоящего поэта трагична во все времена. С другой стороны, такой характер изложения может имитировать анахроничный стиль изображения, свойственный Средневековью, когда несколько последовательных событий изображаются на одной плоскости так, будто они происходили одновременно. Как раз таким образом построена мозаика в соборе Сан-Марко, о которой мы говорили выше в связи со стихотворением Блока «Венеция». О. Матич указывает, что мозаика расположена в двух смежных тимпанах: на первом изображена история мученичества Пророка (слева – обезглавленный Иоанн с головой у его ног; по центру – Саломея, подносящая голову Ироду и сидящей рядом с ним Иродиаде; справа – погребение тела пророка), второй же тимпан изображает пир Ирода [Матич, 2004]. Мы можем увидеть, что композиция мозаики очень похожа на композицию рассматриваемого нами отрывка поэмы: в ней так же перевернут вектор движения и Саломея преподносит голову царю, а не наоборот, а также события изображаются не в хронологическом порядке, а словно бы в одно и то же время, так что можно предположить, что при написании поэмы Блок мог иметь в виду и эту мозаику. Также в уже рассмотренных нами поэтических текстах можно найти и интертекстуальные связи: так, в прологе к «Возмездию» поэт «на эшафоте черном / слагает голову свою», а в «Венеции» лирический герой «простерт у львиного столба» – эти два эпизода можно считать симметричными и пересекающимися. Дело в том, что в Венеции часть пьяцетты между 24 колоннами св. Марка (на капители которой находится скульптура льва – и потому Блок называет столб «львиным») и св. Теодора раньше служила местом смертной казни, поэтому неудивительно, что сначала лирический герой простирается перед львиным столбом, а после его отрубленную голову по галерее собора несет призрак. Еще раз тему Саломеи мы встречаем в стихотворении «Антверпен» (1914 г.), но тут мы уже не видим раскрытия библейского сюжета. На первый взгляд можно сказать, что это просто отзыв на увиденную в музее картину: Пусть это время далеко, Антверпен! — И за морем крови Ты памятен мне глубоко... Речной туман ползет с верховий Широкой, как Нева, Эско. И над спокойною рекой В тумане теплом и глубоком, Как взор фламандки молодой, Нет счета мачтам, верфям, докам, И пахнет снастью и смолой. Тревожа водяную гладь, В широко стелющемся дыме Уж якоря готов отдать Тяжелый двухмачтовый стимер: Ему на Конго курс держать... А ты – во мглу веков глядись В спокойном городском музее: Там царствует Квентин Массис; Там в складки платья Саломеи Цветы из золота вплелись… 25 Но всѐ — притворство, всѐ — обман: Взгляни наверх... В клочке лазури, Мелькающем через туман, Увидишь ты предвестье бури — Кружащийся аэроплан. Даже в таком случае одно это простое упоминание было бы важно, поскольку показывало бы неугасающий интерес поэта к этой полумифической фигуре. Из множества представленных в музее полотен поэт мог выбрать любое, чтобы ввести его в свое стихотворение, тем не менее он остановился именно на картине, изображающей Саломею. Однако можно попробовать чуть глубже рассмотреть это стихотворение, руководствуясь сознанием того, что у поэта-символиста каждый введенный в произведение образ не должен быть случайным. Стихотворение написано в начале Первой мировой войны и говорит о городе, находящемся сейчас в эпицентре событий. К Антверпену подступает война, и описывающее его стихотворение наполнено ощущением тревожности. Спокойствие («над спокойною рекой…», «в спокойном городском музее…») – это всего лишь иллюзия, автор прямо говорит об этом: «Но всѐ – притворство, всѐ – обман»; и золотые цветы на роскошном платье Саломеи не должны дать нам околдовать и успокоить себя. Напротив, Саломея выступает здесь как предвозвестница катастрофы, это отмечает и О. Матич, говоря, что «накануне войны обезглавливающая муза принимает более привычную для себя роль смертоносной силы и зловещего предзнаменования» [Матич, 2008]. Еѐ появление только усиливает это чувство тревожности. Исследуемый нами образ появляется не только в стихотворениях, но и в прозе Блока. В рассказе «Ни сны, ни явь» (1921 г.) перед взглядом «усталой души» героя один за другим проходят библейские персонажи: Магдалина, апостол Петр и Саломея. Здесь достаточно сложно говорить о какой-то 26 определенной интерпретации заданного образа, так как опять же нет раскрытия библейского сюжета: «Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой». Можно предположить, что перед умирающей душой проходят видения загробного мира: фигура апостола Петра с ключами предельно ясно указывает нам на рай, но что же тогда означают две другие фигуры? Возникает некоторый соблазн трактовать их, в свою очередь, как символы чистилища (раскаявшаяся и получившая прощение грешница Магдалина) и ада (Саломея с отрубленной головой Крестителя), но такая интерпретация будет достаточно противоречивой. Во-первых, потому, что православие в отличие от католичества предполагает двучастное (рай и ад), а не трехчастное (рай, чистилище, ад) деление загробного мира. Во-вторых, потому, что спокойный и отрешенный тон, которым описывается Саломея, предполагаемая нами как символ ада, не слишком соответствует нашим представлениям о нем. В итоге данная версия оказывается не слишком жизнеспособной, а истинные причины появления в этом рассказе данных персонажей пока остаются для нас загадкой, которую еще предстоит разгадать. С другой стороны, можно предположить, что этот эпизод нужно воспринимать фактически буквально: душа поэта, предчувствующая смерть, видит перед собой интересовавшие поэта и важные для его мировосприятия образы, коими в данном случае оказываются именно Петр, Саломея и Магдалина. В дополнение ко всему уже сказанному можно упомянуть о еще одной необычной теории, предложенной О. Матич. Исследовательница предполагает, что основой типичного для Блока образа «дамы под вуалью» мог послужить как раз-таки образ Саломеи с еѐ традиционным атрибутом – множественными покрывалами [Матич, 2004]. Мы знаем, что в русской 27 литературе именно Блок прославил покрывало как символ, ставший культурной метафорой символизма. Если принимать эту теорию и рассматривать творчество Блока в соответствии с ней, то мы сможем найти в нем еще больше реминисценций образа Саломеи, но это уже будет темой для отдельного объемного исследования. Однако, по нашему мнению, было бы весьма проблематично свернуть весь ряд блоковских героинь до одного образа Саломеи, к тому же покрывала как атрибут героини появились далеко не сразу – мы можем вспомнить, что в первоначальных библейских текстах о них ничего не говорилось. Видимо, этот еѐ атрибут, к нашему времени ставший весьма органичной частью еѐ образа, всѐ-таки является изобретением одного из авторов, когда-то описывавших этот сюжет. §2. Ахматова В творчестве Ахматовой образ Саломеи (равно как и сопутствующие ему образы, взятые из того же сюжета) встречается неоднократно. Мы видим его в стихотворении «Надпись на портрете» (1946 г.), посвященном балерине Т. Вечесловой, которую автор называет «роковой девочкой, плясуньей»: …И такая на кровавом блюде Голову Крестителя несла. Таким же образом в стихотворении «Последняя роза» (1962 г.) появляется строка: [Мне] с падчерицей Ирода плясать… Вообще в произведениях Ахматовой встречается достаточно много «пляшущих» героев, однако анализ контекстов, в которые они вписаны, не позволяет нам утверждать, что они являются отсылками к сюжету о Саломее. Иногда это сторонние образы («Водят мишку, пляшет цыганка…»), иногда эти герои оказываются другими библейскими персонажами − например, Давидом («Проплясать пред Ковчегом Завета…»), иногда в них узнаются черты реальных знакомых Ахматовой. К примеру, в «Поэме без героя» в Козлоногой («Ты, что козью пляшешь чечетку…», «Как копытца, топочут 28 сапожки <…> В бледных локонах злые рожки…») угадывается, по мнению исследователей, близкая подруга Ахматовой, танцовщица (sic!) Ольга Глебова-Судейкина. Более развернуто интересующий нас сюжет показан в неоконченной драме «Энума элиш» (1942-1966 гг.): Сколько раз менялись мы ролями, Нас с тобой и гибель не спасла, То меня держал ты в черной яме, То я голову твою несла, Оттого что был моим Орфеем, Олоферном, Иоанном ты… Здесь дополнительно проявляется еще и свойственный творчеству Ахматовой мотив двойничества и смены ролей, а также смешиваются три основных мифа европейской культуры об отрубании головы: миф об Орфее, растерзанном менадами, и два библейский сказания – о Юдифи и Олоферне и о Саломее и Иоанне Крестителе. Впрочем, в первой части приведенной цитаты из пьесы содержится непосредственная отсылка именно к сюжету об усекновении головы Иоанна Крестителя: «черная яма» здесь – это темница, в которую Ирод заключил пророка, а несение головы (хоть и без блюда) – это, разумеется, прямое указание на Саломею. Следует отметить, что в пьесе «Энума элиш» Креститель появляется под своим обычным, знакомым нам по Евангелиям, именем – «Иоанн», в то время как в «Поэме без героя», как мы увидим далее, встречается менее привычная для нашего слуха огласовка «Иоканаан», пришедшая к нам из пьесы Уайльда. Учитывая то, что оба произведения были написаны примерно в одно время (хоть и достаточно обширное: 40-60 гг. XX в.), можно предположить, что выбор имени пророка неслучаен. Как мы указывали раньше, в России начала XX в. пьеса Уайльда была чрезвычайно популярна, а «Поэма без героя» писалась именно о Серебряном веке. Связав эти два факта, можно допустить, что в «Поэме…» Ахматовой было важно создать 29 некий колорит эпохи в том числе и неочевидными лексическими средствами, такими как использование этой странной, но в то время известной и весьма популярной формы имени Крестителя. В другом же тексте, написанном уже «от лица» своего времени – как раз-таки сороковых-шестидесятых годов – используется традиционное имя, так как здесь уже нет потребности создавать лексический портрет ушедшей эпохи. Поскольку наше исследование посвящено отражению сюжета о Саломее в литературе именно Серебряного века, заострить наше внимание мы считаем нужным на его появлении в «Поэме без героя». Несмотря на то, что «Поэма» была создана уже после окончания Серебряного века (1940-1965 гг.), она написана о нем, поэтому мы считаем необходимым говорить о ней в нашей работе. Интересующие нас образы встречаются в соседних строфах первой главы первой части окончательной редакции поэмы (1940-1965 гг.): Этот Фаустом, тот Дон Жуаном, Дапертутто, Иоканааном, Самый скромный – северным Гланом, Иль убийцею Дорианом, И все шепчут своим дианам Твердо выученный урок. Лирическая героиня описывает маски, «тени из тринадцатого года под видом ряженых», как указано в ремарке в начале этой главы, пришедшие к ней в новогодний вечер. Было бы логичным предположить, что эти самые «тени» и «маски» – это снова реальные люди, знакомые Ахматовой из Петербурга начала века. Т. В. Цивьян отмечает, что некоторые из масок Ахматова раскрывает сама (к примеру, в авторских примечаниях к тексту указано, что Дапертутто – это псевдоним Мейерхольда), а это опять же дает нам возможность считать, что и другие маски (в том числе и Иоканаан) скрывают известных нам людей той эпохи [Цивьян, 1971. С. 261]. Однако достоверно узнать, какой из знакомых автора зашифрован в каждом отдельном случае, не представляется возможным. 30 Интересно, что рядом с Иоканааном (напомним, что это уайльдовский вариант имени пророка) здесь появляется Дориан – герой романа Уайльда «Портрет Дориана Грея». Это лишний раз указывает на то, насколько популярно было в то время творчество Уайльда и насколько обширное влияние оно оказало на русскую культуру начала XX в, отразившись в работах столь многих авторов. В следующей строфе мы уже встречаем саму Саломею: Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь Саломеиной пляски, Что мне поступь Железной Маски, Я еще пожелезней тех… Этот отрывок включает Саломею в ряд самостоятельных образов-типов и образов-символов (Гамлет, Железная Маска, Фауст, Дон Жуан…), практически бродячих сюжетов, воспроизводящихся мировой культурой в разных вариациях снова и снова. К тому же стоит отметить, что здесь у Саломеи опять же можно предположить реальный прототип. В дягилевских «Русских сезонах» в Париже в 1913 г. был показан балет Ф. Шмитта «Трагедия Саломеи» в оформлении С. Судейкина, мужа Ольги ГлебовойСудейкиной, которую мы упоминали ранее [Костерева, 2001]. Заглавную партию в этой постановке танцевала Татьяна Карсавина, и некоторые комментаторы «Поэмы без героя» сходятся на том, что под «вихрем Саломеиной пляски» в данном случае имеется в виду именно тот танец Карсавиной в «Русских сезонах». То, что Ахматова знала про постановку и вполне могла откликнуться на нее в своем произведении, не подлежит сомнению. §3. Осмысление сюжета в поэзии 1910-1920 гг.: новые грани смысла Н. С. Гумилев в своем стихотворении «Юдифь» (1914 г.) представляет ветхозаветную Юдифь как некую предвозвестницу новозаветной Саломеи – или, наоборот, Саломею как следствие Юдифи, практически как единый 31 образ, модифицированный Библией и возведенный временем в абсолют, доведенный до своего предела. Приведем здесь стихотворение полностью, чтобы не упустить основания сравнения персонажей и момент перехода одного образа в другой: Какой мудрейшею из мудрых пифий Поведан будет нам нелицемерный Рассказ об иудеянке Юдифи, О вавилонянине Олоферне? Ведь много дней томилась Иудея, Опалена горячими ветрами, Ни спорить, ни покорствовать не смея, Пред красными, как зарево, шатрами. Сатрап был мощен и прекрасен телом1, Был голос у него как гул сраженья, И все же девушкой не овладело Томительное головокруженье. Но, верно, в час блаженный и проклятый, Когда, как омут, приняло их ложе, Поднялся ассирийский бык крылатый, Так странно с ангелом любви несхожий. Иль, может быть, в дыму кадильниц рея И вскрикивая в грохоте тимпана, Из мрака будущего Саломея Кичилась головой Иоканаана. К. С. Федотова предполагает, что смысловой основой стихотворения является «связь прошлого и будущего, а точнее, предопределенность 1 Ср. с «Саломеей» Уайльда: «Он похож на тонкую фигуру из слоновой кости. Точно фигура из серебра <…> Иоканаан! Я влюблена в твое тело! <…> Нет ничего на свете белее твоего тела». 32 будущего в прошлом» [Федотова, 2014. С. 124]. Согласно этой версии, еще не произошедшее убийство Иоанна Крестителя оказывается предопределенным уже свершившимся убийством Олоферна Юдифью. Гумилев актуализирует связь между двумя библейскими сюжетами, формально очень схожими, но имеющими противоположный с точки зрения нравственности и морали смысл. Если убийство Юдифью Олоферна традиционно воспринимается как подвиг во имя спасения своего народа, то убийство Иоанна, мотивировавшееся либо желанием мести (библейский вариант), либо губительной страстью и непомерным чувством собственничества (версия Уайльда), кажется лишенной всякого смысла жестокой казнью. Однако Гумилев словно бы приводит нас к тому, что и первого эпизода не должно было быть – ведь даже совершенное в благих целях, убийство Юдифью Олоферна осталось преступлением и каузировало будущие убийства. По поводу использования Гумилевым имени «Иоканаан» К. С. Федотова говорит, что поэт специально использовал архаизированную церковнославянскую форму имени пророка, чтобы ввести новозаветного персонажа в пласт ветхозаветной истории и тем самым подчеркнуть связь времен и взаимозависимость преступлений [Федотова, 2014. С. 124]. Однако исследовательница сама признается, что ни в одном известном ей источнике (включая дореволюционные издания Библии и библейских энциклопедий) данный вариант имени ей обнаружить не удалось. Поэтому мы считаем возможным предполагать, что имя «Иоканаан» Гумилев (как и прочие использовавшие его русские авторы) позаимствовал из пьесы О. Уайльда. Тему соположения сюжетов о Саломее и Иоанне и о Юдифи и Олоферне продолжает и А. Б. Мариенгоф в стихотворении «Из сердца в ладонях…» (1916 г.): Из сердца в ладонях Несу любовь. Ее возьми — 33 Как голову Иоканана, Как голову Олоферна… Она мне, как революции — новь, Как нож гильотины — Марату, Как Еве — змий. Она мне, как правоверному — Стих Корана, Как, за Распятого, Иуде — осины Сук… Всего кладу себя на огонь Уст твоих, На лилии рук. Говоря об этом стихотворении, Т. Хуттунен отмечает, что контаминация образов Юдифи и Саломеи «в современном искусствознании и литературоведении воспринимается как повторяющийся декадентский мотив» [Хуттунен, 2006. С. 373]. Также он указывает на то, что «Саломея» фигурирует в поэзии и прозе Мариенгофа как повторяющийся мотив при соположении тем любви и революции и вообще оказывается важным подтекстом его творчества» [Хуттунен, 2007. С. 25]. В строках «из сердца в ладонях / несу любовь» Т. Хуттунен предполагает отсылку к художественному наследию Обри Бердсли, иллюстратора «Саломеи» Уайльда, а именно к картине «Кульминация», где Саломея держит в руках отрубленную голову Иоканаана, из которой течет кровь, а из крови этой вырастает лилия [Хуттунен, 2006. С. 366]. Лилия же, встречающаяся в конце данного стихотворения, по нашему мнению, тоже может быть завуалированной цитатой из пьесы Уайльда, где Саломея, 34 обращаясь к пророку, говорит: «Твое тело белое, как лилия луга, который еще никогда не косили». Еще раз сюжет о Саломее проявляется в поэме Мариенгофа «Магдалина» (1920 г.): Опять и опять любовь о любви, Саломея о Иоканане, Опять и опять в воспоминанья белого голубя, Стихами о ней страницы кропя. День печалей свезет ли воз? Ах, вчера снова два глаза — два кобеля на луну выли… Откуда, чья эта трогательная заботливость — Анатолию лилии, Из лилии лиру Лилии рук. Убийство поэтом – главным героем поэмы – своей любовницы Магдалины «сопоставляется с убийством Иоканаана в пьесе, к чему отсылают «белый голубь» (образ ног Саломеи у Уайльда) и «два глаза <…> на луну выли», говорит Т. Хуттунен [Хуттунен, 2006. С. 367]. К тому же, здесь снова встречаются лилии, о значении которых мы уже говорили выше. При изучении текстов Мариенгофа, в которых упоминается сюжет о Саломее, бросается в глаза то, что Мариенгоф по-своему видоизменяет имя Крестителя. Вторая гласная «а» в имени пророка им уже не удваивается: «Иоканан». Учитывая увлечение Мариенгофа творчеством Уайльда, можно однозначно сказать, что в целом это имя инспирировано уайльдовским «Иоканааном» (если и не заимствовано у него), однако же причина такого специфического изменения его фонетического облика остается загадкой. Также сюжет о Саломее появляется и в прозе Мариенгофа (в романе «Циники», 1928 г.), но о ней мы скажем чуть позже, в отдельном параграфе. 35 М. А. Кузмин предельно эстетизирует образ царевны. Он сравнивает лирическую героиню своего стихотворения-посвящения «Т. П. Карсавиной» (1914 г.) с Саломеей, но здесь ассоциативный ряд автора выходит за границы чисто библейских сравнений, и рядом с иудейской царевной появляется Коломбина, снижающая пафос образа и удачно переводящая мысль читателя в иное русло, так, чтобы вместо драматичности героини он обращал внимание на ее красоту и женственность: Полнеба в улице далекой Болото зорь заволокло, Лишь конькобежец одинокий Чертит озерное стекло. Капризны белые зигзаги: Еще полет, один, другой… Как острием алмазной шпаги, Прорезан вензель дорогой. В холодном зареве не так ли И Вы ведете свой узор, Когда в блистательном спектакле У Ваших ног – малейший взор? Вы – Коломбина, Саломея, Вы каждый раз уже не та, Но, все яснее пламенея, Златится слово «красота». Однако нужно учитывать (и это достаточно легко выводится из контекста стихотворения), что Саломея и Коломбина представлены здесь не вполне как библейский и литературный образы, а как театральные роли, исполнительницей которых была балерина Тамара Карсавина, женщина, к которой и обращено стихотворение Кузмина. При сопоставлении стихотворений разных авторов, принадлежащих одной эпохе, иногда бросается в глаза некая общность контекстов их 36 произведений. Так, как и в стихотворениях Ахматовой, о которых мы говорили ранее, у Кузмина с плясуньей Саломеей опять же сравнивается реально существовавшая балерина – и это лишний раз подчеркивает очень тесную и зачастую фактически неразрывную связь образа Саломеи и мотива танца. М. И. Цветаева обращается к образу Саломеи в стихотворении «С головою на блещущем блюде…» (1917 г.): С головою на блещущем блюде Кто-то вышел. Не я ли сама? На груди у меня – мертвой грудою – Целый город, сошедший с ума! А глаза у него – как у рыбы: Стекленеют, глядят в небосклон, А над городом – мертвою глыбой – Сладострастье, вечерний звон. С. Н. Бройтман предполагает в данном стихотворении диалог с «Венецией» Блока («Таясь, проходит Саломея // С моей кровавой головой…»), про которую мы говорили выше [Бройтман, 2005]. По мнению исследователя, используя смену ролей и объявляя лирическую героиню Саломеей, Цветаева как бы отвечает Блоку, что это именно она была той, кто нес кровавую голову поэта. В таком случае лирические герои двух стихотворений, во-первых, вступают во взаимодействие друг с другом, а вовторых, вводятся в общекультурный и общеисторический библейский контекст. Учитывая не подлежащий сомнению устойчивый интерес Цветаевой к к творчеству Блока и множество обращенных нему стихотворений, мы вполне можем допустить, что версия трактовки данного произведения, предполагающая ориентацию на Блока, имеет право на существование. 37 Принимая во внимание цикл Цветаевой «Стихи о Москве» (1916 г.), где чрезвычайно частотны упоминания колоколов и колокольного звона («колокольный дождь», «колокольная земля московская», «колокольное семихолмие» и так далее), можно с большой вероятностью говорить о том, что «вечерний звон» в последней строке данного стихотворения указывает на то, что речь в нем идет именно об умирающей в эпоху меж двух революций Москве (стихотворение написано 22 августа 1917 г.). Однако некоторые исследователи полагают, что в этом стихотворении мог проявиться еще и образ Венеции. Так, Т. А. Быстрова утверждает, что метафора сладострастного и сумасшедшего умирающего города со стекленеющими глазами приближает нас к Казанове и Италии XVIII века [Быстрова]. Она отмечает связь этого стихотворения со следующим за ним «Собрались, льстецы и щеголи…» (1917 г.), где дается прямое указание на Венецию: – Ах, гондолой венецьянскою Подплывает сладострастье! Не отрицая возможность такой трактовки, мы, однако, больше склоняемся к версии, предполагающей появление в данном стихотворении образов Саломеи и Иоанна Крестителя. Помимо очевидных указаний на эту версию, данных в самом тексте (голова на блюде, несение отрубленной головы, сладострастие), мы хотим воспользоваться еще и одним несколько менее очевидным. Рассмотрим первые две строки стихотворения и обратим внимание на фонетический уровень строения данных строк: С головою на блещущем блюде Кто-то вышел. Не я ли сама? Создается впечатление, что во фразе «не я ли сама», идущей практически сразу после недвусмысленного указания на сюжет об иудейской царевне, средствами звукописи зашифровано имя «Саломея». Схожесть чередований одних и тех же звуков «с», «л», «м», «а» в имени и во фразе достаточно очевидна. Мы не можем утверждать, что такое созвучие было подобрано автором специально, равно как и не настаиваем на истинности 38 этой версии, однако мы склонны считать, что это «совпадение» (вне зависимости от того, является оно таковым или нет) заслуживает внимания исследователя. Упоминание интересующего нас сюжета встречается и в поэмететраптихе В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1914-1915 гг.): Кровью сердца дорогу радую липнет цветами у пыли кителя. Тысячу раз опляшет Иродиадой солнце землю – голову Крестителя. И когда мое количество лет выпляшет до конца – миллионом кровинок устелется след к дому моего отца. Интересно, что библейский сюжет Маяковский рассматривает в космологическом аспекте. Метафора у Маяковского разворачивается очень широко (солнце превращается в Иродиаду, «оплясывающую» землю-голову), но и остается при этом в пределах своих же границ («когда мое количество лет / выпляшет до конца» – когда обойдет Землю столько раз, сколько лет продлится жизнь лирического героя). Здесь обращает на себя внимание замена одного персонажа данного сюжета на другого – Саломеи на Иродиаду. Как мы помним, мотив танца сопутствует только образу Саломеи, но никак не образу ее матери. Возможно, здесь имеет место быть простая контаминация двух разных персонажей. Однако также здесь можно предположить и влияние поэмы французского символиста С. Малларме «Иродиада» (1864-1867 гг.), где, вопервых, главным действующим лицом является собственно Иродиада, а Саломея не упоминается, а во-вторых, в третьей части которой («Гимн Иоканаана») мы видим строчки: 39 Le soleil que sa halte Surtnaturelle exalte Aussitôt redescend Incandescent (Остановившееся солнце Прославило/предвозвестило чудо И тотчас же закатилось Раскаленное) Как мы видим, у Малларме тоже встречается метафора солнца при описании данного сюжета, однако он с солнцем сравнивает не Иродиаду, а самого Иоанна (вспомним еще одно из его имен – Предтеча), предвозвестившего появление «чуда» – Христа – и умершего. Вполне возможно, что именно эта сильная метафора была воспринята Маяковским, но переосмыслена им в другом ключе. Вторую, менее очевидную аллюзию на сюжет о Саломее обнаружил в этом тексте С. В. Савинков. Он отмечает, что если символист Блок при изображении этого сюжета делал акцент на отрубленной голове, то авангардист Маяковский – на обезглавленном теле [Савинков, 2008. С. 46]. Исходя из этого, С. В. Савинков делает вывод, что лирический герой Маяковского «жаждет и просит живого женского тела так, как христиане просят насущного хлеба – тела Христова, или он просит его так, <…> как Саломея просит голову Иоканаана» [Савинков, 2008. С. 46]: Мария! Поэт сонеты поет Тиане, ая– весь из мяса, человек весь – тело твое просто прошу, как просят христиане – «хлеб наш насущный 40 даждь нам днесь». То есть в данном случае мы снова видим возникновение новой трактовки данного сюжета, созданной при помощи смещения акцентов и общего переосмысления заданных образов. Стихотворение В. Ф. Ходасевича «Берлинское» (1922 г.) не так очевидно откликается на исследуемый нами сюжет, в отличие от остальных стихотворений, рассмотренных выше. Что ж? От озноба и простуды – Горячий грог или коньяк. Здесь музыка, и звон посуды, И лиловатый полумрак. А там, за толстым и огромным Отполированным стеклом, Как бы в аквариуме темном, В аквариуме голубом – Многоочитые трамваи Плывут между подводных лип, Как электрические стаи Светящихся ленивых рыб. И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола, – И, проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращеньем узнаю Отрубленную, неживую, Ночную голову мою. 41 Как мы видим, в последней строфе появляется отрубленная голова, однако никаких других указаний на то, что эта отрубленная голова отсылает нас к сюжету о Саломее, в стихотворении не дано. Но исследовательница Л. Силард, которую мы уже упоминали, когда говорили о творчестве Блока, утверждает, что «Берлинское» прямо откликается на блоковскую «Венецию», что видно уже по первым строчкам стихотворений [Силард, 2002. С. 96–97]: Я в эту ночь – больной и юный – Простерт у львиного столба. – и иронический «ответ» на это Ходасевича: Что ж? От озноба и простуды – Горячий грог или коньяк. В таком случае и «отрубленная» трамвайным стеклом голова лирического героя может соотноситься с отрубленной головой Иоанна/Орфея/лирического героя-поэта из «Венеции» Блока. К данному сюжету О. Э. Мандельштам. Л. Г. Панова говорит, в Ссылаясь что своем на примерно творчестве воспоминания в обращался и М. М. Карповича, 1907-1908 гг. Мандельштам присутствовал на симфоническом концерте по произведениям Р. Штрауса и видел там «Танец Саломеи», который его очень впечатлил, и по мотивам которого он написал стихотворение о Саломее [Панова, 2009]. К сожалению, это стихотворение до нас не дошло. Однако упоминание Саломеи встречается еще в одном его поэтическом тексте, а именно в стихотворении «Соломинка» (1916 г.), посвященном Саломее Андрониковой-Гальперн: <…> Соломка звонкая, соломинка сухая, Всю смерть ты выпила и сделалась нежней, Сломалась милая соломка неживая, Не Саломея, нет, соломинка скорей <…> М. Л. Гаспаров предполагает, что «Соломинка», очевидное производное от имени «Саломея», было прозвищем Андрониковой либо придуманным самим Мандельштамом, либо принятым в кругу ее друзей 42 [Гаспаров, 2005. С. 189]. Можно было бы считать, что этот текст не содержит в себе аллюзий на сюжет о Саломее, так как прямо указывает на реальную женщину с таким именем, однако Л. Г. Панова доказывает, что это не так. По ее мнению, на связь с уайльдовской Саломеей указывает «заимствование» из текста пьесы Уайльда отдельных символов, таких как роза (в ранних редакциях стихотворения), зеркало, луна как мертвая женщина и др. [Панова, 2009]. По нашему мнению, в поддержку мнения Л. Г. Пановой говорит еще и прямое отрицание в тексте: «[ты] не Саломея», т. е. ты – не та роковая женщина, образ которой возникает у нас в памяти при упоминании твоего имени, ты (напротив) – хрупкая, милая, звонкая «соломинка». Таким образом, с помощью этого отрицания поэт отсекает ненужные ему здесь коннотации, одновременно подтверждая то, что при написании стихотворения он имел в виду в том числе и тот самый сюжет о Саломее. §4. Проза. А. Мариенгоф Как мы уже говорили, отражение сюжета о Саломее мы находим не только в поэзии эпохи Серебряного века, но и в прозе. Так, неназванную Саломею мы встречаем в романе Мариенгофа «Циники» (1928 г.), где целый эпизод в начале книги строится на сравнении героев с персонажами сюжета о Саломее: «Ее голова отрезана двухспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволоки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана1 на серебряном блюде была менее величественна. Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее виски толченым графитом фаберовского карандаша. Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов 1 Опять же имя пророка дается по Уайльду. К тому же в конце романа присутствует еще одна ремарка, отсылающая читателя к «Саломее» Уайльда: «У балыка тело уайльдовского Иоканаана». Однако в отличие от поэтических текстов Мариенгофа, в его прозе фонетический облик имени не меняется, и удвоенная «а» в нем не исчезает. 43 целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение». Томи Хуттунен в своей работе «Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники» сопоставляет данный эпизод романа не столько с пьесой Уайльда, сколько с иллюстрациями к этой пьесе английского художника Обри Бердсли: «…Можно найти вероятную аналогию в иллюстрации Бердслея к эпизоду из пьесы Уайльда, где Саломея получает долгожданную голову Иоканаана на серебряном блюде. На картине «The Dancer’s Reward» кровь, текущая из только что отрубленной головы пророка, неотделима от его волос» [Хуттунен, 2007. С. 367]. По Т. Хуттунену, сопоставление Мариенгофом головы Ольги с головой Иоканаана заключает в себе метафору любви, если принимать во внимание уайльдовскую трактовку сюжета о Саломее. Однако же можно заметить, что в тексте «Циников» происходит контаминация образов Иродиады и Саломеи – мы уже отмечали, что имя царевны не упоминается, но в то же время присутствуют слова «Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне» – хотя читателям точно известно, что преподнесена голова была именно Саломее, а не ее матери. Обращает на себя внимание также и то, что по сравнению с оригинальной версией сюжета здесь происходит своеобразное смещение гендерных ролей: так, на месте Иоанна оказывается девушка, Ольга, а на месте Иродиады – мужчина, Владимир. А самой Саломеи здесь, по сути, и нет: даже основная еѐ функция – танец – не присвоена в данном эпизоде кому-либо из героев, а отдана безличной «судьбе», «станцевавшей для меня танец семи покрывал», как говорит главный герой. Здесь мы видим еще более причудливую контаминацию исходных образов: учитывая вектор движения (кто и для кого танцует), можно сказать, что в данном случае в образе Владимира сливаются образы Иродиады и Ирода, так как танец Саломеи изначально был направлен именно на Ирода. Это – несомненное новшество Мариенгофа, так как до него никто из обращавшихся к данному 44 сюжету авторов не соединял в одном персонаже именно эти два библейских образа. §5. Драма. Л. Андреев Целый эпизод, посвященный Саломее, мы находим в четвертом действии пьесы Л. Андреева «Екатерина Ивановна» (1912 г.): Коромыслов, разговаривая и шутя, внимательно работает над картиной «Саломея». Саломея – Екатерина Ивановна. Полуобнаженная, она стоит на возвышении, с опущенной головой и потупленными глазами, в протянутых руках тонкое, кажется, жестяное декоративное блюдо, на котором предполагается голова Иоанна. Герои пьесы не просто изображают библейских персонажей, они ассоциируют себя с ними, причем вживаются в роль настолько сильно, что почти превращаются в них: Тепловский. Ваше блюдо пусто, Саломея, позвольте мне положить на него свою голову. Екатерина Ивановна. Вы хотите ее потерять? Тепловский. Хочу быть вашим пророком. <…> Коромыслов (громко). Э, чего там, так нельзя: буду же я Иродом и потребую… Саломея, прошу! Танец семи покрывал! <…> Екатерина Ивановна (внезапно). Я не хочу держать пустого блюда. Что это вы мне дали? <…> Я уже два часа держу пустое блюдо. Зачем это? – это глупо, я не хочу. Я хочу голову пророка, я хочу голову пророка… <…> Я не хочу. Дайте мне голову пророка или… (Далеко отбрасывает блюдо, и оно со звоном падает). Вот… Сами хотите, чтобы я была Саломея, а пророка нет, и это наглость. Всѐ какие-то людишки, жабы… Коромыслов (оглядывая кисти). Одни Ироды. 45 Если в начале эпизода Екатерина Ивановна просто позирует Коромыслову для картины в наряде Саломеи, то ближе к концу эпизода она начинает верить, что она и есть Саломея, и раз за разом повторяет «я хочу голову пророка, я хочу голову пророка» (ср. с репликами уайльдовской Саломеи: «Я прошу у тебя голову Иоканаана». «Я прошу голову Иоканаана». «Голову Иоканаана». «Дай мне голову Иоканаана» – последняя реплика произносится четыре раза). Однако на самом деле она оказывается антиСаломеей, и это легко доказывается тем, что она не может танцевать: Екатерина Ивановна, поглядывая все так же вопросительно и кокетливо, выходит на середину и в нерешимости останавливается. Видно, что она не умеет танцевать. Забрасывает вверх, как для полета, тонкие голые руки и делает несколько слабых, неловких движений, мучительных своею неразрешенностью. <…> Екатерина Ивановна как-то странно вскрикивает, кружится, беспомощно и дико взмахивая руками, и сразу останавливается в позе бесстыдного вызова. Губы ее слегка приподняты злой улыбкой, глаза смотрят, презрительно и нагло. В представленных здесь эпизодах присутствуют отдельные компоненты сюжета о Саломее – например, блюдо, – однако в данном случае в структурной схеме сюжета отсутствует один из основополагающих его элементов – а именно танец Саломеи. Используя терминологию В. Я. Проппа, мы можем сказать, что Екатерина Ивановна (здесь – якобы двойник, а на самом деле антипод Саломеи) теряет основную, инвариантную функцию Саломеи – а, значит, и перестает ею быть. В итоге сходство оказывается чисто внешним, а с точки зрения структуры данного сюжета мы имеем дело с двумя противоположными друг другу персонажами. Также мотив Саломеи проскальзывает в еще одном произведении Андреева – в пьесе «Не убий» (1913 г.), упоминается она там иносказательно (хотя и довольно прозрачно): 46 Феофан. Пляши, Яшка-каторжник! Вот тебе мой сказ: и будешь ты отныне и до века плясать, как плясовица Иродова. Нет тебе, сквернавцу, моего прощения, – лучше и не проси. Здесь, как и в произведениях Ахматовой, о которых мы говорили ранее, Саломея ассоциируется даже не с танцем, а именно с пляской (вспомним ахматовских пляшущих героев). Формула «отныне и до века» вызывает у читателя ассоциацию с другим бродячим сюжетом – сюжетом о Вечном жиде – и включает Саломею в сюжетную схему «грех – вечная расплата». Л. В. Гармаш, рассматривая образ la femme fatale (и Саломею как вариант его воплощения) как один из ключевых образов Серебряного века, находит в нем такие характерные черты: «непостоянство, фанатизм, двойственность, алогизм, дионисийская исступленность, стремление к смерти, сочетание эротизма и «фатальной» чистоты» [Гармаш, 2014]. Как мы видим, все перечисленные характеристики хорошо подходят для описания Саломеи – по крайней мере, Саломеи по версии Уайльда. Но наиболее интересным наблюдением оказывается определение «дионисийская исступленность», берущее свое начало, разумеется, в философии Ницше и, в частности, в его работе «Рождение трагедии из духа музыки». Возможно, именно с этим связана замена некоторыми авторами нейтрального «танца» Саломеи на экстатическую, необузданную, именно что дионисийскую «пляску». 47 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В нашей работе мы рассмотрели произведения русской литературы эпохи Серебряного века, в которых присутствует образ Саломеи или аллюзии на этот образ. Для исследования были взяты работы таких авторов, как А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, М. Кузмин, М. Цветаева, В. Маяковский, В. Ходасевич, А. Мариенгоф, Л. Андреев. Как мы увидели, сюжет о Саломее весьма ярко отразился в литературе и культуре русского Серебряного века. Как и другие библейские сюжеты, он был достаточно популярен в это время и привлекал многих поэтов и писателей своей неоднозначностью и потенциальной многоплановостью, которые способствовали появлению множества совершенно разных трактовок. К тому же Саломея представляет собой архетипический образ роковой женщины, femme fatale, столь любимый писателями эпохи Серебряного века, что также объясняет популярность данного образа. Росту интереса к этому сюжету также способствовало увлечение писателей эпохи Серебряного века творчеством Уайльда. В начале XX в. в России было представлено множество различных литературных течений, и все они были в достаточной степени восприимчивы к влиянию европейских идей. Это вполне логичное следствие того, что в Европе эти течения зародились раньше, чем в России, и были более разработаны. Декадентское и эстетское творчество Уайльда было особенно созвучно идеям русских символистов, поэтому его произведения были в России так высоко оценены и снискали такую популярность. Изучая восприятие сюжета о Саломее русской культурной средой, можно заметить, что достаточно большое количество его интерпретаций восходит именно к пьесе Уайльда, а не к каноническому библейскому тексту. Так, разработанные Уайльдом мотивы (как, к примеру, мотив целования отрубленной головы) ярко проявляются в текстах А. Блока и А. Ахматовой. 48 Тем не менее, среди изученных нами текстов есть и совершенно своеобразные авторские толкования сюжета о Саломее, которые нельзя однозначно возвести к творчеству Уайльда или же другого писателя, работавшего ранее с данным сюжетом. Так, А. Блок вводит в свою трактовку этого сюжета темы поэта и поэзии, мученичества поэта и противостояния поэта и толпы, а также добавляет сюда орфическую проблематику. Эту же мысль поддерживает М. Цветаева. Н. Гумилев предлагает иное видение этого образа, рассматривая сюжет о Саломее (отрубание женщиной головы мужчине) в общебиблейском контексте и сравнивая с этой историей сказание о Юдифи и Олоферне. Перспективой данного исследования является дальнейшее изучение восприятия этого сюжета русской литературой, причем не только эпохи Серебряного века, но и более поздних периодов. Другое направление исследований занимает отдельное изучение мотива декапитации, который нередко появлялся в русской литературе XX в. (Бенгальский и Берлиоз в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, «Голова профессора Доуэля» А. Беляева и др.). Он также предположительно может иметь связь с сюжетом о Саломее, и было бы интересным рассмотреть и еѐ. 49 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Список источников 1. Андреев Л. Н. Драматические произведения. В 2-х томах. Т. 2. – Л. : Искусство, 1989. – 550 с. 2. Ахматова А. А. Сочинения в 2-х томах. Т. 1, 2. – М. : Цитадель, 1996. 3. Бальмонт К. Д. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи. – М. : Правда, 1990. 4. Блок А. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1907-1921. – Л. : Худож. лит., 1980. – 472 с. 5. Блок А. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Очерки. Статьи. Речи. 1905-1921. – Л. : Худож. лит., 1982. – 464 с. 6. Блок А. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 5. Лирическая проза. 1906-1921. – Л. : Худож. лит., 1982. – 408 с. 7. Гумилев Н. С. Стихотворения. Поэмы. Проза. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1990. – 608 с. 8. Кузмин М. А. Избранные произведения. – Л. : Худож. лит., 1990. – 576 с. 9. Мандельштам О. Э. Сочинения в 2 т. Т. 1. – М. : Художественная литература, 1990. – 623 с. 10. Мариенгоф А. Б. Циники. – М. : Современник, 1990. 11. Мариенгоф А. Б. Стихотворения и поэмы. – М. : Академический проект, 2002. – 352 с. 12. Маяковский В. В. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 2. Поэмы. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1961. 13. Ходасевич В. Ф. Стихотворения. – М. : Мол. гвардия, 1991. – 222 с. 14. Цветаева М. И. Избранное. В 2 т. Т. 1. – М. : Книжный Клуб 36.6, 2012. – 752 с. 15. Уайльд О. Саломея / Иллюстрации Обри Бердслея. – М. : Фортуна Эл, 2010. – 96 с. 50 Справочники 16. Библейская энциклопедия. Репринтное издание. – М. : ТЕРРА, 1990. 17. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: вып. 1. – Новосибирск : Издательство СО РАН, 2006. 18. Храпченко М., Розенфельд Б., Гудзий Н., Белецкий А., Габель М., Цейтлин А., Михайловский Б., Мессер Р. Русская литература // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 10. – М. : Худож. Лит., 1937. Список литературы 19. Андреев Л. Г. Импрессионизм : Видеть. Чувствовать. Выражать. / Л. Г. Андреев. – М. : Гелеос, 2005. – 320 с. 20. Бальмонт К. Д. О драме Оскара Уайльда «Саломея» // О. Уайльд. «Саломея». – М. : Фортуна ЭЛ, 2010. – С. 3–4. 21. Бальмонт К. Д. О любви // О. Уайльд. «Саломея». – М. : Фортуна ЭЛ, 2010. – С. 5–6. 22. Бахнова Ю. А. М. Кузмин и О. Уайльд : влияние и типологическое сходство поэтики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2011. − №3 (10). – С. 18–20. 23. Бахнова Ю. А. Поэзия Оскара Уайльда в переводах поэтов Серебряного века : автореф. дис. … к. филол. наук : 08.12.10 / Бахнова Юлия Анатольевна. – Томск, 2010. – 26 с. 24. Верник О. А. «Итальянский текст» в поэзии А. А. Блока : интертекстуальный аспект // Вестник ЛНУ им. Тараса Шевченко. – 2011. − №24 (235). – С. 91–96. 25. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. / Веселовский А. Н. – М. : Высшая школа, 1989. 26. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская серебряного века. Антология. – М. : Наука, 1998. – С. 5–44. 51 поэзия 27. Гаспаров М. Л. «Соломинка» Мандельштама : поэтика черновика // Избранные статьи. – М. : Новое литературное обозрение, 1995. – С. 185–197. 28. Десятов В. В. «Чужого неба волшебство» : фрагмент диалога Николая Гумилева и Осипа Мандельштама // Филология и человек. – 2011. – №4. – С. 147–157. 29. Ерофеев И. Ю. Оскар Уайльд в литературной критике К. Чуковского // Наука о человеке : гуманитарные исследования. – 2012. – № 2 (12). – С. 144–149. 30. Иванова А. С. К. Д. Бальмонт – переводчик английской литературы : автореф. дис. … канд. филол. наук : 2007 / Иванова Александра Сергеевна. – СПб., 2007. – 23 с. 31. Лотман Ю. М., Минц З. Г., Мелетинский Е. М. Литература и мифы // Мифы народов мира : энциклопедия. – М., 1980. – Т. 1. – С. 220–226. 32. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. / Мелетинский Е. М. – М. : Наука, 1976. 33. Мельникова Н. Н. Архетип грешницы в русской литературе конца XIX – начала XX века : автореф. дис. … канд. филол. наук / Мельникова Надежда Николаевна. – М., 2011. – 33 с. 34. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блок и русский символизм : Избранные труды : в 3 кн. Кн. 3 : Поэтика русского символизма. – СПб. : Искусство, 2004. – С. 59–96. 35. Пайман А. История русского символизма. / Пайман А. – М. : Республика, 2000. – 415 с. 36. Пономарева Г. М. Анненский и Уайльд (английская эстетическая критика и «Книги отражений» Анненского) // Проблемы типологии русской литературы : Труды по русской и славянской филологии. – Вып. 645. – 1985. – С. 112–122. 52 37. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. / Пропп В. Я. – М. : Лабиринт, 2001. – 192 с. 38. Розанов В. В. Религия и зрелища : По поводу снятия со сцены «Саломеи» Уайльда // Сумерки просвещения. – 1990. – С. 316–324. 39. Романенкова Ю. В. Мотив усекновения главы в западноевропейской живописи XV-XVII веков (часть 1 : «Юдифь и Олоферн») // Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании. − 2008. − №1. – С. 95–104. 40. Савинков С. В. Проблема женщины в русской культуре и литературе начала XX в. : Лилит – Саломея – Ева // Новая русистика. – 2008. − №2. – С. 35–49. 41. Сендерович С., Шварц Е. Бытие безымянное, существенность беспредметная: Иоанн Креститель у Владимира Набокова // Russian Language Journal. – 1997. – С. 168–170. 42. Силард Л. «Орфей растерзанный» и наследие орфизма // Герметизм и герменевтика. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. – С. 54–101. 43. Сискевич А. Е., Уразаева Т. Т. Эрос как проявление демонического начала в творчестве А. Ахматовой // Вестник ТГПУ. – 2007. – №8 (71). – С. 34–37. 44. Табункина И. А. Стихотворение М. Кузмина «Fides apostolika» (1921) в контексте литературного и графического наследия Обри Бердсли // Вестник Пермского университета. – 2013. – №3 (23). – С. 120–129. 45. Федотова К. С. Архаизация антрорпоэтотонима как способ создания образа времени в стихотворении Н. Гумилѐва «Юдифь» // Восточноукраинский лингвистический сборник. – 2014. – №15. – С. 122–127. 46. Хуттунен Т. Имажинист Мариенгоф : Денди. Монтаж. Циники – М. : НЛО, 2007. 53 47. Хуттунен Т. Оскар Уайльд из Пензы // Имажинисты: последние денди республики // История и повествование: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IX / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. – М., 2006. 48. Цивьян Т. В. Заметки к дешифровке «Поэмы без героя» // Ученые записки Тартуского университета. Труды по знаковым системам. – 1971. – Т. 5. – Вып. 284. – С. 255–277. 49. Эллман Р. Оскар Уайльд: Биография. – М. : КоЛибри, АзбукаАттикус, 2012. – 704 с. Интернет-ресурсы 50. Бройтман С. Н. М. Цветаева и А. Блок [Электронный ресурс] // Новый филологический вестник. – 2005. − №1. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/m-tsvetaeva-i-a-blok 51. Быстрова Т. А. Марина Цветаева и Италия: жизнь и творчество ресурс]. [Электронный – Режим доступа : http://sites.utoronto.ca/tsq/17/bystrova17.shtml#top 52. Валова О. М. Образ луны в «Саломее» Оскара Уайльда [Электронный ресурс] // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. – 2010. − №26. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/obraz-luny-v-salomee-oskara-uaylda 53. Вейконе М. А. На генеральной репетиции «Саломеи» в театре В. Ф. Комиссаржевской (27 октября 1908 г.) // Алконост : сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. СПб. : Передвижной театр П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской, 1911. Кн. 1. – Режим доступа : http://www.teatr-lib.ru/Library/Komissar/alk/#_Toc369508623 54. Гармаш Л. В. Образ la femme fatale в романе В. Я. Брюсова «Алтарь победы». Реа (танатологический аспект) [Электронный ресурс] // Литература в контексте культуры. – 2014. − №24. – Режим доступа : http://mirlit.dp.ua/index.php/LC/article/view/51/52 54 55. Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. искусствовед. наук. СПб. : 2007. – Режим доступа : http://www.sovpadenie.com/teksty/evreinov/avtoreferat 56. Дроздова Н. Г. Преломление христианских мотивов в духе традиций эстетизма (по страницам «Саломея») [Электронный В. Г. Белинского. – трагедии ресурс] 2010. – // №15 Известия (19). – Режим О. Уайльда ПГПУ им. доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/prelomlenie-hristianskih-motivov-v-duhetraditsiy-estetizma-po-stranitsam-tragedii-o-uaylda-salomeya 57. Киричук Е. В. Французская символистская драма : спор о Платоне и Аристотеле [Электронный ресурс] : Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2008. – №5. – Режим доступа : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/5/Kirichuk/ 58. Ковалева И. И. «Герменевтика мифа» : Мильтос Сахтурис. «Голова поэта» [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 61. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2003/61/kov.html 59. Костерева О. А. Феномен новаторства в «золотом веке» «Русского балета» С. Дягилева (1909-1914 гг.) [Электронный ресурс] // Новый исторический вестник. – 2001. − №5. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-novatorstva-v-zolotom-vekerusskogo-baleta-s-dyagileva-1909-1914-gg 60. Лысов А. Г. «Sub rosa dictum». Соборный образ в «Последней розе» Анны Ахматовой [Электронный ресурс] // Литература. – 2004. – №46 (2). – Режим доступа : http://www.literatura.flf.vu.lt/wp- content/uploads/2011/11/Lit_46_2_str41.pdf 61. Матич О. Покровы Саломеи : эрос, смерть и история [Электронный ресурс] // Эротизм без берегов : Сб. статей и материалов / Сост. М. М. Павлова. – М. : НЛО, 2004. – С. 90–121. – Режим доступа : http://ec-dejavu.ru/s/Salome.html 55 62. Матич О. Эротическая утопия : Новое религиозное сознание и fin de siècle в России [Электронный ресурс]. – М., 2008. – Режим доступа : http://royallib.com/book/matich_olga/eroticheskaya_utopiya_novoe_religioz noe_soznanie_i_fin_de_sicle_v_rossii.html 63. Минский Н. М. Толстой и реформация ; Идеи «Саломеи» [Электронный ресурс]. М. : Заря, 1910. Электронный фонд Российской Национальной библиотеки. – Режим доступа : http://leb.nlr.ru/edoc/363604/ 64. Панова Л. Г. «Уворованная» Соломинка : К литературным прототипам любовной лирики Осипа Мандельштама [Электронный ресурс] // Вопросы литературы. – М., 2009. – №5. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/voplit/2009/5/pa7.html 65. Хорольский В. В. Русская критика рубежа XIX-XX вв. об О. Уайльде [Электронный ресурс] // Питання лiтературознавства. – Черновцы, 1993. – №1. – С. 124–132. – Режим доступа : http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=U JRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pl_1993_1 _15.pdf 56