неолитические укрепления и их прототипы таежного приобья и
реклама
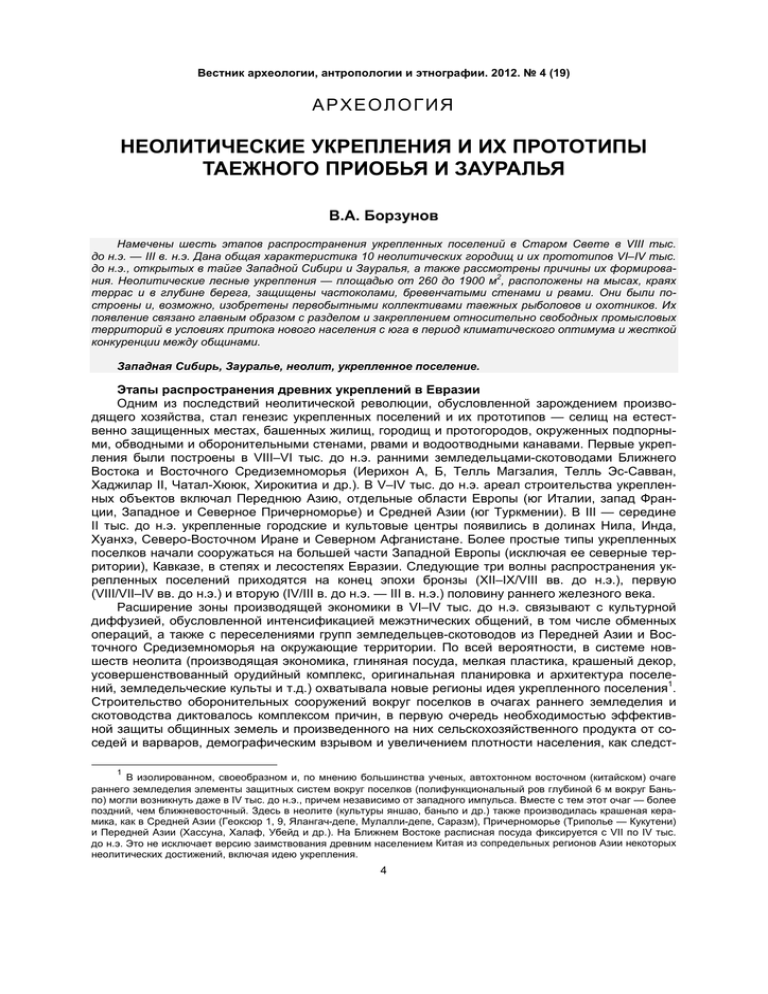
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) АРХЕОЛОГИЯ НЕОЛИТИЧЕСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ И ИХ ПРОТОТИПЫ ТАЕЖНОГО ПРИОБЬЯ И ЗАУРАЛЬЯ В.А. Борзунов Намечены шесть этапов распространения укрепленных поселений в Старом Свете в VIII тыс. до н.э. — III в. н.э. Дана общая характеристика 10 неолитических городищ и их прототипов VI–IV тыс. до н.э., открытых в тайге Западной Сибири и Зауралья, а также рассмотрены причины их формирования. Неолитические лесные укрепления — площадью от 260 до 1900 м2, расположены на мысах, краях террас и в глубине берега, защищены частоколами, бревенчатыми стенами и рвами. Они были построены и, возможно, изобретены первобытными коллективами таежных рыболовов и охотников. Их появление связано главным образом с разделом и закреплением относительно свободных промысловых территорий в условиях притока нового населения с юга в период климатического оптимума и жесткой конкуренции между общинами. Западная Сибирь, Зауралье, неолит, укрепленное поселение. Этапы распространения древних укреплений в Евразии Одним из последствий неолитической революции, обусловленной зарождением производящего хозяйства, стал генезис укрепленных поселений и их прототипов — селищ на естественно защищенных местах, башенных жилищ, городищ и протогородов, окруженных подпорными, обводными и оборонительными стенами, рвами и водоотводными канавами. Первые укрепления были построены в VIII–VI тыс. до н.э. ранними земледельцами-скотоводами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья (Иерихон А, Б, Телль Магзалия, Телль Эс-Савван, Хаджилар II, Чатал-Хююк, Хирокитиа и др.). В V–IV тыс. до н.э. ареал строительства укрепленных объектов включал Переднюю Азию, отдельные области Европы (юг Италии, запад Франции, Западное и Северное Причерноморье) и Средней Азии (юг Туркмении). В III — середине II тыс. до н.э. укрепленные городские и культовые центры появились в долинах Нила, Инда, Хуанхэ, Северо-Восточном Иране и Северном Афганистане. Более простые типы укрепленных поселков начали сооружаться на большей части Западной Европы (исключая ее северные территории), Кавказе, в степях и лесостепях Евразии. Следующие три волны распространения укрепленных поселений приходятся на конец эпохи бронзы (XII–IX/VIII вв. до н.э.), первую (VIII/VII–IV вв. до н.э.) и вторую (IV/III в. до н.э. — III в. н.э.) половину раннего железного века. Расширение зоны производящей экономики в VI–IV тыс. до н.э. связывают с культурной диффузией, обусловленной интенсификацией межэтнических общений, в том числе обменных операций, а также с переселениями групп земледельцев-скотоводов из Передней Азии и Восточного Средиземноморья на окружающие территории. По всей вероятности, в системе новшеств неолита (производящая экономика, глиняная посуда, мелкая пластика, крашеный декор, усовершенствованный орудийный комплекс, оригинальная планировка и архитектура поселений, земледельческие культы и т.д.) охватывала новые регионы идея укрепленного поселения1. Строительство оборонительных сооружений вокруг поселков в очагах раннего земледелия и скотоводства диктовалось комплексом причин, в первую очередь необходимостью эффективной защиты общинных земель и произведенного на них сельскохозяйственного продукта от соседей и варваров, демографическим взрывом и увеличением плотности населения, как следст1 В изолированном, своеобразном и, по мнению большинства ученых, автохтонном восточном (китайском) очаге раннего земледелия элементы защитных систем вокруг поселков (полифункциональный ров глубиной 6 м вокруг Баньпо) могли возникнуть даже в IV тыс. до н.э., причем независимо от западного импульса. Вместе с тем этот очаг — более поздний, чем ближневосточный. Здесь в неолите (культуры яншао, баньпо и др.) также производилась крашеная керамика, как в Средней Азии (Геоксюр 1, 9, Ялангач-депе, Мулалли-депе, Саразм), Причерноморье (Триполье — Кукутени) и Передней Азии (Хассуна, Халаф, Убейд и др.). На Ближнем Востоке расписная посуда фиксируется с VII по IV тыс. до н.э. Это не исключает версию заимствования древним населением Китая из сопредельных регионов Азии некоторых неолитических достижений, включая идею укрепления. 4 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья вие — резко возросшей военной активностью. Более мощная волна войн и строительства укреплений в конце III — середине II тыс. до н.э. была связана с массовыми миграциями скотоводов, начавшимися в Анатолии и Юго-Восточной Европе, охватившими на востоке евразийские степи от Причерноморья до Минусинской котловины. Рис. 1. Карта неолитических укрепленных поселений и их прототипов Западной Сибири и Зауралья: 1 — городище Амня I; 2 — городище Имнъеган 2.1; 3 — городище Каюково 2; 4 — поселение Быстрый Кульеган 66; 5 — поселение Бол. Умытья 9; 6 — поселение Бол. Умытья 57; 7 — поселение Микишкино 5; 8 — поселение Усть-Тара XXVIII; 9 — поселение Полуденка I; 10 — поселение Чэс-Тый-Яг. Условные обозначения: а — Северный полярный круг; б — границы современных природно-климатических зон (I — тундра; II — лесотундра; III — редколесье; IV — тайга; V — широколиственно-лесная; VI — лесостепь; VII — степь; VIII — горные районы); в — поселения с остатками фортификаций и дренажных систем; г — поселение на острове среди болот Крайние северные в Евразии неолитические городища, укрепленные жилища, их прототипы и естественно защищенные «островные» поселения открыты в таежном Приобье и горнолесном Зауралье. Их известно пока не более десятка, все они сосредоточены в полосе между 56º 40´ и 64º 14´ с.ш. (рис. 1, 2, 4–8). Первоначально эти памятники, даже самые ранние (Амня I, Каюково 2), на основании сравнительно-типологического анализа керамики и первых радиоуглеродных определений, были отнесены к позднему неолиту [Морозов, Стефанов, 1993, с. 168; Стефанов и др., 1999; Ивасько, Кондрашев, 2001, с. 3; Ивасько, Кардаш, 2002; Ивасько, 2002а, б]. Результаты последних радиокарбонных тестов [Косинцев и др., 2004] и разработка периодизации неолитических памятников севера Западной Сибири [Косинская, 2006, с. 22] внесли свои коррективы. Ныне древнейшие из интересующих нас объектов датированы ранним неолитом (VI–V тыс. до н.э.): городища Амня I, Каюково 2 (4 даты), поселение Микишкино 5 [Косинцев и др., 2004, табл. 5; Стефанов, Борзунов, 2008; Ивасько, 2003; 2008, с. 112–122] — и концом раннего неолита (около V тыс. до н.э.): поселения Бол. Умытья 9 [Погодин, 2010], Бол. Умытья 57 [Погодин, Миронов, 2009]; остальные — поздним неолитом (конец V — IV тыс. до н.э.): городище Каюково 2 (2 даты), поселения Быстрый Кульёган 66 [Косинцев и др., 2004, табл. 5, 6; Косинская, 2000; 2001; 2002в; 2004; 2006, с. 16–24; Поселение Быстрый Кульёган 66…, 2006], УстьТара XXVIII [Горбунова, Толпеко, 2002], Чэс-Тый-Яг [Чернецов, 1953, с. 12–14; Старков, 1969а; Васильев, 1985, 1987а, б, 2004], Полуденка I [Бадер, 1948а, б, 1949], городище Имнъёган 2.1 [Бессмертных, Карачаров, 1996; Перевалова, Карачаров, 2006, с. 46–47]. По климатической шкале 5 В.А. Борзунов эти памятники соответствуют атлантическому — началу суббореального периода голоцена. На других северных территориях Старого Света, тем более Америки, городищ каменного века не обнаружено. Формирование неолитических городищ в лесной полосе Западной Сибири и Зауралья тесно связано с особенностями происхождения неолитических культур в данных регионах, экстенсивным характером присваивающей экономики обитателей Севера и общим прогрессом древнего строительства в тайге. Генезис культур неолита в лесном Приобье и Зауралье Существуют две точки зрения на формирование неолитических культур в лесном Приобье и Зауралье: «миграционная» и «автохтонно-миграционная» («культурной диффузии»). Согласно первой, определяющее значение в культурогенезе на севере Западной Сибири в неолите и энеолите имели миграционные процессы [Васильев, 1987а, с. 13–14; Ковалева, 1989, с. 62; 1999, с. 25–27; Ковалева, Зырянова, 2008, с. 112]. При выделении культурных образований авторы этой гипотезы опирались в основном на характеристики керамических комплексов, а новые типы памятников соотносили с культурно-хронологической шкалой Среднего Зауралья и Нижнего Притоболья. С учетом этого решалась проблема генезиса таежных поселений, в том числе укрепленных. Появление керамики и долговременных поселков в западно-сибирской лесостепи и тайге, до этого заселенных полуоседлыми группами мезолитических охотников, рыболовов и собирателей, считалось результатом быстрых прямых и неоднократных миграций неолитического населения из Передней Азии, Юго-Восточной Европы, Прикаспия и Приаралья. Предпосылкой этих переселений стало потепление климата в конце бореального — начале атлантического периода голоцена [Васильев, 1991, с. 31–33; Ивасько, Кардаш, 2002, с. 41–42; Ивасько, 2002б, с. 23–24; 2008, с. 120–121; Зах, 2003, с. 15–16; 2005, с. 60–70; Зах, Исаев, 2010, с. 6, 8, 13]. В среднюю и северную тайгу южное население продвигалось через лесостепь по разветвленной системе рек обского бассейна. На р. Конду оно могло попасть также из Среднего Зауралья [Ковалева, Зырянова, 2008, с. 114]. В последнем регионе, по мнению В.Т. Ковалевой, имели место две линии развития. Автохтонная была представлена ранненеолитической козловской культурой и сменяющей ее поздненеолитической полуденковской, а пришлая — кошкинской и боборыкинской. Последние культуры сформировались в результате разновременных миграций. Кошкинская, датирующаяся V тыс. до н.э., была связана с культурами Нижнего Поволжья (джангарская, орловская), а более поздняя боборыкинская (рубеж V–IV — конец IV тыс. до н.э.) — с раннеземледельческим миром Каспийско-Причерноморского региона, Кавказа и Ближнего Востока. Роль боборыкинской культуры в культурогенезе Западной Сибири была незначительна и уступала влиянию кошкинской. Продвижение мигрантов в северные районы Зауралья происходило под давлением местного населения. Вступая с ним в контакты, пришельцы постепенно утрачивали свои этнические традиции [Ковалева, 1989, с. 14–16, 61–63; 1999, с. 25– 26; 2006, с. 55; Ковалева, Зырянова, 2008, с. 109, 112]. Впрочем, тюменские исследователи полагают, что боборыкинские памятники и сходные с ними северные культурные типы логичнее считать ранненеолитическими, а кошкинские — производными от них — поздненеолитическими [Зах, 1993, с. 60; 1995, с. 26, 27; 2003, с. 23–26; Зах, Исаев, 2010, с. 6, 13]. Происхождение древнейшего в Приобье и крайнего северного неолитического городища в мире Амня I и амнинской культуры некоторые уральские археологи первоначально связывали с продвижением в сибирскую тайгу из Зауралья населения боборыкинской культуры с прочерченнонакольчатой керамикой. Наличие гребенчато-ямочной посуды на этом памятнике считалось свидетельством контактов пришельцев с аборигенами [Морозов, Стефанов, 1993, с. 166, 168; Ковалева, 2006, с. 55]. В последней монографии В.Т. Ковалева и С.Ю. Зырянова уточнили, что боборыкинская культура сформировалась, по всей вероятности, в результате миграции населения из Кавказского Причерноморья (поселения Нижнее Шиловское, Одиши, Кистрик) и предположили ее генетическое родство с раннеземледельческим миром Передней Азии. Вместе с тем они отметили, что амнинский тип керамики и памятников, выделенный по городищу Амня I, скорее всего, не имеет никакого отношения к боборыкинской культуре. Более того, без аргументов авторы заявили, что население, оставившее памятники типа Амни I, представляло наиболее древних переселенцев из районов раннего земледелия, умевших не только изготавливать керамику, но и возводить укрепленные поселения [Ковалева, Зырянова, 2010, с. 22, 268, 288, 295]. 6 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья В качестве главного аргумента массовых переселений в лесном Приобье и Зауралье сторонники «теории миграций» приводят наличие здесь плоскодонной посуды с прочерченными и накольчатыми узорами. Ее связывают с южными мигрантами — праиндоевропейцами или древними индоевропейцами. Гребенчатая и ямочно-гребенчатая орнаментальные традиции считаются местными. Авторами первой могло быть праугорское или древнее финно-угорское население, а второй — прасамодийское. Последнее утверждение, правда, весьма спорно. Помимо керамики, переселенцы из степей принесли в лесную зону навыки строительства округлых в плане углубленных жилищ, геометрические микролиты, каменные наконечники стрел и «утюжки» — выпрямители древков стрел [Зах, Исаев, 2010, с. 5–8]. Еще одним доводом в пользу миграции ранних земледельцев-скотоводов вглубь тайги является сложная планировка городища Каюково 2. Его исследователи утверждают, что данный объект был построен по принципу арийской «мандалы» (вписанный в круг квадрат или многоугольник) и имеет прямые аналогии в круглоплановой архитектуре Древней Анатолии VII–III тыс. до н.э. (Чатал-Хююк, Хаджиляр 1, Демирчинуйюк) [Ивасько, Кардаш, 2002, с. 41–42]. В соответствии со второй гипотезой, «автохтонно-миграционной» или «культурной диффузии», культурные образования северного неолита Западной Сибири являются составной частью неолитической Урало-Западносибирской культурной общности (УЗС КО). Они формируются на местной основе («мезолитический субстрат») при участии мигрантов с юга и развиваются в условиях тесных связей с неолитическими обществами Приаралья, Прикаспия, Алтая и других регионов. В качестве источниковой базы исследования привлекаются керамические комплексы, каменный инвентарь, домостроительство, социально-экономические системы. Согласно этой гипотезе, восприятие неолитических новаций населением Сибири происходило не в результате массовых миграций земледельцев-скотоводов в тайгу, а в процессе инфильтрации степных неолитических групп в южную часть Урало-Западносибирского ареала. При этом переселенцы приспосабливались к местным природно-климатическим и социально-экономическим условиям постепенно, вступая в длительное и разностороннее взаимодействие с аборигенами края. Далее на север из лесостепи мигрировали смешанные коллективы, и действовал механизм «культурной диффузии» — культурных влияний-импульсов с юга. Одним из последствий этого является распространение в тайге — при посредничестве лесостепных групп — глиняной посуды. Иными словами, «продвижение керамики на север» рассматривают «…как результат культурной диффузии, т.е. как поэтапное заимствование готовой технологии все более северными группами населения УЗС КО — последнюю стадию процесса, начавшегося еще в период «неолитической революции» на Ближнем Востоке. Передающими звеньями этой культурной инновации из степей должны были служить культуры южной (лесостепной) части ее ареала» [Косинская, 2002а, с. 222]. В целом между культурами Западной Сибири и соседних южных территорий наблюдается сходство в прочерченно-накольчатой керамике при различии в каменном инвентаре и домостроительстве [Глушков, Собольникова, 1999, с. 108–122; Косинская, 1999а, с. 27–28; 1999б, с. 39–40; 2002б, с. 172–178; 2006, с. 21–23; 2010, с. 13–24]. В этом ключе, с некоторыми нюансами, на наш взгляд, следует решать и проблему происхождения древнейших крепостей в таежном Приобье. Все население данного региона, как и на большинстве территорий земного шара, является пришлым. Тем не менее вряд ли можно считать все неолитические и энеолитические коллективы Зауралья и Западной Сибири только выходцами из степей либо только потомками местных мезолитических групп. В процессе освоения севера Евразии имело место множество миграционных волн, характер, особенности и последствия которых были неодинаковы. Освоение Севера было сложным, долговременным и многоступенчатым процессом. Я и мои коллеги признаем миграции, их большую роль в истории Сибири, но считаем прямые и дальние переселения, особенно меридиональные «марш-броски», пересекающие в сжатое время несколько природно-климатических зон Урала, Западной Сибири и соседних регионов, явлением маловероятным [Косинская, 2002а, с. 215–223; 2006, с. 22–23; Корякова, 2009, с. 343–344]. Кроме того, крайне сомнительно, что с потеплением климата ранние земледельцы южных нагорий и степей в массе устремились в тайгу, в одночасье забыли навыки производящего хозяйства, отказались от привычного уклада жизни, сразу адаптировались к условиям Севера, его суровому климату, сильно разветвленной речной системе, бескрайним лесам и болотам, гнусу, дефициту каменного сырья и превратились в таежных, а затем — арктических охотников и рыболовов. В древности миграции происходили главным образом в широтном направлении, в пределах одной-двух 7 В.А. Борзунов природно-климатических зон, реже — в меридиональном, в рамках двух-трех соседних подзон. В периоды климатических оптимумов (неолит, начало — середина эпохи бронзы, вторая половина раннего железного века) степные группы осваивали южную лесостепь, жители лесостепи мигрировали на кромку лесных массивов, северные общины перемещались по тайге, заходили в лесотундру и тундру. В периоды похолодания и резкого увлажнения (энеолит, рубеж бронзового и железного веков) намечалось обратное движение, но также медленное и локальное. Великие миграции были редки. Я считаю вполне вероятными переселения в неолите небольших коллективов охотниковрыболовов с жарких и засушливых территорий Поволжья, Казахстана, Средней Азии, из предгорий Алтая вниз по Волге, Уралу, Тоболу, Ишиму, Иртышу, Оби и другим рекам в уралосибирскую лесостепь (возможно, вслед за мигрировавшими животными), их длительную адаптацию к местным природным условиям и иному социальному окружению, постепенное продвижение гетерогенного населения лесостепи на соседние таежные территории, занятые потомками мезолитических этносов. В процессе освоения северных районов Евразии формировались торгово-обменные пути и информационные коридоры, позволявшие некоторым новшествам юга проникать в тайгу без обязательного притока степного земледельческо-скотоводческого населения. Тенденция развития древних жилищ таежного Приобья Стационарные долговременные и сезонные поселки эпохи мезолита северо-запада таежного Приобья и бассейна Пура малочисленны: их известно не более 50 (для сравнения: в Среднем Зауралье таких — 140). Исследованные на них объекты — одно- и двухкамерные наземные постройки со слабо углубленными полами и без таковых [Погодин, 2006, с. 8–9]. В неолите стационарные жилища представлены в основном землянками и глубокими полуземлянками, в энеолите — полуземлянками, в начале бронзового века — высокими наземными домами с углубленными полами, в раннем железном веке — наземными сооружениями с неуглубленными или слегка углубленными полами [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 90–103, 176–202, 275–295]. С энеолита наблюдается тенденция постепенного выхода жилищ на поверхность. Аналогичное явление зафиксировано О.Н. Бадером для древних построек Прикамья. Такое изменение в домостроительстве обусловлено отнюдь не улучшением климата в Северной Евразии: на протяжении голоцена он менялся здесь циклически. Неолит характеризовался климатическим оптимумом: теплой и умеренно-влажной обстановкой, наступившей около 7,5–8 тыс. л.н. вслед за мезолитом — влажным и прохладным периодом (бореал — начало атлантика). В энеолите (III тыс. до н.э.) вновь отмечено похолодание, завершившееся новым оптимумом в начале — середине эпохи бронзы (конец III — середина II тыс. до н.э.). Очередное похолодание и резкое увлажнение пришлось на рубеж бронзового и железного веков (начало I тыс. до н.э.). Сооружение в лесной зоне самых глубоких жилищ именно в неолите объясняется, вероятно, тем, что переселенцы с южных территорий, не были первоначально приспособлены к суровым условиям Севера. Уходившие глубоко в грунт землянки должны были обеспечить сносное существование зимой их обитателям. Дальнейшие изменения обусловлены общим прогрессом в домостроительстве: переходом от каркасно-столбовых построек к более теплым и совершенным бревенчато-столбовым, затем — к монолитным бревенчатым домам с самонесущими стенами, в том числе срубными. Безусловно, на домостроительство (в частности, на размеры домов, их конструкцию, наличие одной, двух или нескольких камер), а также планировку и площадь поселения оказывали влияние численность, социальная структура и особенности хозяйственной деятельности каждой общины. Легкие наземные шалаши и чумы с каркасом из жердей, покрытые берестой и шкурами животных, возводились на стоянках и селищах Зауралья и Приобья как минимум с мезолита. Небольшие землянки, полуземлянки и домики на сваях сооружались также до современности, но обычно использовались в качестве узкоспециализированных объектов — погребов, хранилищ, производственных и культовых помещений. Неолитические лесные укрепления и их прототипы Неолитические укрепления таежного Приобья и Зауралья, а также их прототипы были небольшими: площадью 260–900 м2, реже — 1600–1900 м2. По сравнению с объектами предыдущих эпох, их планировка и архитектура вариабельнее, сложнее и совершеннее, не говоря уже о наличии не известных ранее оборонительных систем вокруг некоторых поселков или их частей. 8 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья В целом памятники довольно разнообразны. Первые девять представлены мысовыми одноплощадочными и, возможно, двухплощадочными городищами (Амня I, Имнъеган 2.1); одноплощадочными кольцевыми укреплениями на мысу (Бол. Умытья 9, Полуденка I) и гриве (Каюково 2); подпрямоугольного плана трехплощадочным укреплением на мысовидном выступе (Бол. Умытья 57); малыми укрепленными жилищами на стрелках мысов (Амня I — первый этап, Микишкино 5); предшественниками больших (360–400 м2) прямоугольных укрепленных жилищ на краю террасы (Быстрый Кульёган 66) и в глубине берега (Усть-Тара XXVIII). Десятый неолитический поселок — Чэс-Тый-Яг — самый большой в таежном Приобье, «островного» типа, не имел искусственных укреплений, но был защищен естественным образом. Его построили на мысу коренного песчаного останца, окруженного топкими болотами; из 19 выявленных на нем землянок все 5 раскопанных функционировали одновременно [Чернецов, 1953, с. 12–14; Старков, 1969а; Васильев, 1985, 1987а, б, 2004]. Количество жилищ на первых девяти поселениях варьируется от одного до трех (Амня I — первый, второй этапы, Быстрый Кульёган 66, Бол. Умытья 9, Бол. Умытья 57, Микишкино 5, Полуденка I, Усть-Тара XXVIII, возможно, Имнъеган — постройка № 7), реже — до пяти-семи (Каюково 2, Имнъёган 2.1 — вторая площадка, вероятно, Амня I — поздний этап). Стационарные постройки представлены землянками и полуземлянками каркасно-столбовой конструкции с квадратными и прямоугольными котлованами, укрепленными деревянной опалубкой. Полы помещений горизонтальные, покрыты охрой и частично — деревянным настилом. Жилища сгорели в древности, в их котлованах обнаружены остатки обугленных конструкций, очагов, хозяйственных ям, дренажных канавок и ямок от столбов. Наземная часть построек сооружалась из бревен, жердей и плах. Она четырехскатная, усеченно-пирамидальной формы, с наклоном стен от 30 до 45° и высотой от пола до 2,5 м (для предотвращения задымления помещения и пожара в нем). Крыша и верхняя часть стен жилища опирались на систему лаг, закрепленных на вертикальных столбах, установленных в котловане. Основание стен находилось за пределами котлована и было присыпано песком. Крыша плоская с отверстием для дымохода, закрывавшимся крышкой из жердей и берестяных полотнищ. Входы в землянки устраивались в одном из скатов перекрытия у края котлована, а в помещение можно было попасть по приставной лестнице. Некоторые полуземлянки имели выступавшие наружу крытые тамбуры. У стенок котлованов располагались деревянные нары-лежанки; заплечики котлованов использовались для хранения вещей, посуды и других предметов. Наземная часть жилища, покрытая мхом, корой, гумусом и песком, выглядела как невысокий (1,5–2,0 м) холм (рис. 2). Некоторые исследователи (Л.В. Ивасько, О.В. Кардаш) предполагают наличие построек с вертикальными стенами из колотых досок, установленными непосредственно в котлован. Жилища такой конструкции в Западной Сибири маловероятны: они легко затапливаются во время ливней и таяния снега. Постройки большей частью однокамерные; известны также двух- и многокамерные, выстроенные в линию (Быстрый Кульеган 66, Имнъеган 2.1 — вторая площадка) или концентрически (Каюково 2). В некоторых домах между двумя камерами предполагаются стены-переборки (Быстрый Кульеган 66). В теплое время года около жилищ возводили легкие строения и навесы, оборудовали очаги и хозяйственные ямы, места для обработки рыбы, шкур, камня и производства керамики. Наиболее сложной планировкой отличались городища Каюково 2, Имнъёган 2.1 и Амня I. В первом случае это были расставленные по кольцу шесть построек (№ 1–5, 7), соединенные между собой и с центральным домом (№ 6) короткими крытыми коридорами с углубленными полами. Во втором случае — большая землянка (№ 7) на оконечности мыса была оконтурена с напольной стороны рвом, а жилища на второй площадке выстроены в две линии, разделенные свободным пространством. При этом три постройки, сориентированные вдоль края мыса (№ 1– 3), были соединены короткими коридорами; вторая группа землянок (№ 4–6) располагалась вдоль вала, а две из них (№ 4, 5) имели крытый переход. На стрелке мыса городища Амня I находилась одна большая землянка (№ 1), огороженная с напольной стороны рвом; затем ров засыпали, на его месте были возведены две малые полуземлянки (№ 2, 3), защищенные с напольной стороны частоколом и новым рвом. За пределами этой «цитадели» построили большие землянки (№ 4, 8, 9) и летние объекты под навесами — очаги и места для обработки камня. К началу строительства внешней фортификации жилища № 8 и 9 были уже разрушены и руинированы. Их остатки частично были прорезаны третьей фортификацией. Возможно, вторую оборонительную линию не разобрали, и укрепление превратилось в двухплощадочное. На второй площадке, вероятно, были сооружены новые землянки (№ 5–7), близ внешнего вала обору9 В.А. Борзунов довано большое кострище, а центр площадки оставлен свободным (рис. 2). На других памятниках одиночные жилища находились в центре огороженной территории (Бол. Умытья 9 — сооружение № 1, Микишкино 5) или в одной из ее половин (Бол. Умытья 57 — восточная площадка, объект № 1). Двухкамерная постройка поселения Быстрый Кульёган 66 занимала почти всю площадку, ограниченную рвом, так же как предполагаемые три жилища Полуденки I, ориентированные торцами к центру. Рис. 2. Городище Амня I. Жилища 1 (А) и 4 (Б): А — раскопки В.М. Морозова, Б — раскопки В.М. Морозова и В.И. Стефанова. Реконструкция В.А. Борзунова Защитные стены укреплений — однорядные, обычно частокольные, присыпанные в основании песком. Их остатки — сохранившиеся под валами траншеи треугольного и подтрапециевидного профиля, шириной от 0,3 до 1,12 м, глубиной 0,4–1,2 м, заполненные углистой супесью (Амня I, Бол. Умытья 9, Бол. Умытья 57, Полуденка I). По-видимому, возводились также оборонительные стены горизонтальной кладки, в первую очередь на склонах мысовых городищ Амня I и Имнъеган 2.1: типа заплота или забора, укрепленного вертикальными столбами, либо стены«тургэ», опиравшейся на растущие и частично спиленные деревья. Я не исключаю наличие изгороди вдоль внутреннего края прерывистого ровика на поселении Быстрый Кульёган 66, остатками которой являлись ямки от столбов, хотя это отрицают авторы раскопок. На городище Каюково 2 предполагается два варианта защиты: частокол в узкой кольцевой канаве или соединенные между собой внешние стены построек, выстроенных по кольцу. Изнутри к оборонительным стенам пристраивались помосты для наблюдения и стрельбы из лука, снаружи — опоры-контрфорсы: следы одного из них выявлены у внешнего частокола Амни I. Выкопанные в песке рвы, шириной по верху от 1,2 до 5,0 м, глубиной от 0,6 до 1,5 м, в разрезе трапециевидные, с плоским дном, вертикальными или слегка отогнутыми стенками, укрепленными деревом. С внутренней стороны рва оставлялась узкая горизонтальная площадка — берма, замедлявшая быстрое осыпание песка из вала в ров. Напольные фортификации в глубине мысов и на гривах — 10 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья замкнутые кольцевые и прямоугольные, на стрелках мысов — прямые поперечные, слабоизогнутые и угловые. Тем не менее общая система оборонительных стен всегда была замкнутой. Проходы в стенах оборудовались воротами. Наиболее сложные входные коридорные устройства можно предположить на городище Каюково 2 и поселении Бол. Умытья 9. При поиске аналогов неолитическим укреплениям Севера можно обратиться к близким по времени обширным мысовым городищам с поперечными земляными валами и рвами, укрепленными камнем, и большим круглоплановым селищам с глинобитной архитектурой, выявленным в энеолитических культурах Триполье — Кукутени, датирующимся, согласно традиционной хронологии и некалиброванным радиоуглеродным датам, V–IV тыс. до н.э. На высоких мысах, в том числе защищенных со стороны поля глубокими рвами и высокими валами, сооружались поселения культур Зимно — Злота и воронковидных кубков IV — середины III тыс. до н.э. (Зимно, Винники). В культуре Зимно — Злота известны также площадки размерами 300×90 м, огороженные концентрическими рвами (Злота, Стжишов), которые считаются загонами для скота (см.: [Массон и др., 1982, с. 166–231, 256, 259–260, табл. LXIX, LXXIX]). Весьма просто и заманчиво объявить данные объекты прообразами сибирских городищ. Но это сходство скорее случайное, формально-типологическое, чем реальное. Ничего общего, кроме этого, у земледельцев-скотоводов обширного ареала культур крашеной керамики с рыболовами-охотниками тайги, производившими посуду с отступающе-накольчатым, гребенчатым и ямочным декором, нет. В Средней Азии и Китае, где также использовалась расписная глиняная посуда и возводились укрепления, мысовые и кольцевые городища в эпоху камня не известны. Можно предположить заимствование северными народами самой идеи укрепленного поселения у далеких племен Причерноморья и юга Средней Азии. Однако механизмы передачи данного новшества неясны. При современной источниковой базе более вероятен конвергентный генезис укреплений в тайге. Мысовые естественно и искусственно укрепленные поселки встречаются везде, где имеется соответствующий рельеф местности, достаточный уровень развития общества и существует необходимость в защитных сооружениях. То же можно сказать о береговых, островных, болотных и горных укреплениях. Кольцевые фортификации и круговая расстановка жилищ наиболее эффективны для защиты поселений, расположенных на равнинах. Более того, возведение построек по кругу соответствуют планировке ранних первобытных селищ: размещению жилищ и других объектов вокруг центральной площадки с очагом. Такие кольцевые поселения встречались в Старом и Новом Свете во все времена и эпохи. Вследствие этого привязывать мысовые городища и кольцевую планировку лесных укреплений только к архитектурным традициям Причерноморья и Ближнего Востока, по меньшей мере, неубедительно. Что же касается типов северных неолитических городищ и разновидностей их деревоземляных фортификаций, то они — явно местные. Бесспорным изобретением населения лесной зоны Западной Сибири являются оригинальные деревоземляные укрепленные жилища. Несмотря на то, что оборонные жилища (как правило, башенные каменные и глинобитные) широко распространены с древности до наших дней от Балеарских островов до Китая (см.: [Джандиери, 1981; Чебоксаров, Чебоксарова, 1984, с. 52– 56; Брей, Трамп, 1990, с. 40, 79, 123, 177, 239, 249]). Лесные укрепленные дома представлены двумя основными вариантами, независимо сформировавшимися в неолите — начале эпохи бронзы. Первый вариант: укрепления, состоящие из обычного жилища, окруженного оборонительной стеной, иногда — с дополнительным напольным рвом. Второй вариант: огражденные рвом высокие жилые сооружения внушительных размеров (для неолита — эпохи бронзы площадью 140–600 м2, со рвом — 210–1500 м2), внешние стены которых одновременно выполняли защитную функцию. Последние объекты развиваются из больших одиночных построек, распространенных в Приобье в неолите и энеолите. В эпоху бронзы и начале железного века такие дома дополняются оборонительной стеной: «комбинированный» вариант укрепленного жилища [Борзунов, 1999; Борзунов, Погодин, 2001; Борзунов и др., 2010, 2011]. Бревенчатые оборонительные стены и деревоземляная архитектура в целом наиболее оптимальны и распространены на территориях, богатых строевым лесом. Вряд ли их стоит искать в евразийских степях, пустынях Средней Азии, горных районах Юго-Восточной Европы и Передней Азии. Частоколы неолитических сибирских городищ, по-видимому, также являются местным изобретением. К их открытию лесные рыболовы и охотники могли прийти в процессе сооружения запорных устройств (запоры, заколы) на небольших реках для высокопроизводительной 11 В.А. Борзунов ловли рыбы, а также при постройке жилых, хозяйственных и культовых объектов (избушки на обожженных сваях в заболоченной пойме; амбарчики, помещавшиеся на столбах и спиленных деревьях для защиты от грызунов). Так же независимо палисады были изобретены в неолите — начале железного века при возведении свайных жилищ, плотин и запруд в Западной Европе (озерные и болотные поселки Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Британии, Ирландии, Дании) и других частях Старого Света. Попутно заметим, что частоколы вокруг поселков в целом встречаются довольно редко на Урале и в Западной Сибири вплоть до периода позднего средневековья. Все сказанное выше, при имеющихся у нас данных, свидетельствует скорее о местном генезисе неолитических укреплений таежного Приобья, чем о заимствовании идеи их строительства в других регионах Евразии. Судя по топографии, архитектуре и размерам поселков, их привязке к малым рекам, а также по собранным на них материалам (глиняная посуда, остеологические остатки, орудия, связанные с рыболовством, охотой, военными действиями, керамическим производством, обработкой камня, дерева, шкур и т.д.), западно-сибирские неолитические укрепления были явно полифункциональны. Кроме того, в них не обнаружено следов земледелия и скотоводства: все они сооружены таежными рыболовами, охотниками и собирателями. Это были центры общинных и, возможно, формирующихся племенных территорий, форпосты на новых освоенных землях, постоянные, а не временные убежища, круглогодичные селения, места сосредоточения производственной, хозяйственной и отчасти культовой деятельности. Убедительных данных, свидетельствующих о том, что это были только святилища, нет. Малые укрепления с однимтремя жилищами малого и среднего размера (20–60 м2) являлись местами постоянного обитания и жизнедеятельности одной или нескольких больших семей. На огороженной площадке проживала, возможно, лишь часть населения поселка. Находки неолитической керамики, ям, очагов и жилых объектов за пределами «цитадели» предполагают наличие обширной жилой и хозяйственно-бытовой зоны со стационарными круглогодичными и легкими сезонными строениями. Малые укрепления со временем могли трансформироваться в большие городища. Даже самые ранние неолитические памятники таежного Приобья, такие как Амня I, демонстрируют постоянное совершенствование оборонительных систем и развитие типа поселка — от малого однодворного укрепленного жилища к «цитадели» с тремя постройками и «посадом» и затем, возможно, к двухплощадочному городищу. Сходным образом могло развиваться городище Имнъеган 2.1. У двухплощадочного укрепления Бол. Умытья 57 со стороны оврага была сооружена дополнительная линия частокола, в результате чего поселение превратилось в подобие трехплощадочного. Такое могло происходить в условиях постоянной военной угрозы, роста численности общин и в процессе объединения нескольких коллективов в рамках одного, более высокого уровня. В свою очередь, население укрепленного центра должно было брать на себя обязательство защиты родственников, обитавших на соседних селищах и стоянках. Поселения в тайге периодически горели, но восстанавливались и даже расширялись. Отдельные постройки разрушались врагами, но чаще ветшали, приходили в негодность, погибали от бытовых и лесных пожаров, затем руинировались и возводились на новом месте. Тем не менее никто не говорит об их ритуальном уничтожении. Наоборот, среди коренного населения Западной Сибири распространен обычай сезонного оставления летних и зимних поселков, а также их сохранения при перемещении общины по своей промысловой территории. При переселениях помещения чистились, что объясняет небольшое количество остатков в них. Мусор выбрасывали за пределы поселка. Вокруг домов археологических материалов мало. Основная масса находок сосредоточена в жилищах, меньшая — в валах, рвах и летних объектах. Более того, территория разрушенного поселения для строительства новых домов использовалась крайне редко. Такие места считались священными, связанными с миром мертвых, а свободных мест в тайге при малой плотности населения было предостаточно. При раскопках установлено, что таежные неолитические святилища, поминальные и иные культовые места сооружались на руинах древних поселений из остатков их культурного слоя. Эти памятники многослойные, выглядят как холмы и курганы, чем отличаются от мест обычных поселений. В качестве примера можно привести известные неолитические «жертвенные» холмы Зауралья и Западной Сибири — Полуденский, Кокшаровский, Махтыльский, УстьВагильский, объект Чертова Гора (см.: [Старков, 1969б; Шорин, 2004; Баранов, 2008; Панина, 2008; Сладкова, 2008]). В целом же культовая практика органично входила в систему жизнедеятельности древнего населения и дополняла его основную производственно-бытовую сферу. 12 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья Тем не менее некоторые археологи объясняют разрушение исследованных ими неолитических укреплений (городище Каюково 2, поселение Микишкино 5) следствием ритуальных действий — намеренного сожжения жилищ после того, как жители покинули их и забрали все пригодные вещи, а сами памятники определяют в качестве «сооружений культового назначения» [Ивасько, Кардаш, 2002, с. 41–42; Ивасько, 2008, с. 112–113]. Это крайне спорно и маловероятно. Не только укрепления, но также их защитные системы были полифункциональными. «Функциональная недифференцированность» вообще является характерной чертой всех ранних фортификаций [Массон, 1981, с. 134]. Бревенчатые стены городищ не только служили для целей обороны, но и обозначали границы поселка, защищали его жителей от дикой фауны, наводнений, ветров, оползней, эрозии грунтов и т.д. Валы первобытных городищ — это не самостоятельные объекты, а только элементы фортификаций: они не сооружались без оборонительных стен. В западно-сибирской тайге валы крайне редко выступали подиумами для защитных стен, а в неолите вообще не использовались в таком качестве. Валообразные песчаные насыпи, фиксирующиеся вокруг лесных городищ, представляют собой остатки крепид оборонительных стен, обычно однорядных, а также забутовок двухрядных стен. Рвы в повседневной жизни выполняли чаще дренажную и водоотводную функцию, чем основную заградительную и сопутствующую — мест забора грунта для возведения насыпей. В них же иногда выбрасывали мусор из жилищ. Некоторые исследователи также полагают, что данные канавы могли использоваться и как противопожарные устройства. Вместе с тем для укреплений тайги, расположенных на песчаных террасах, это маловероятно. Дело в том, что стенки глубоких рвов практически всегда укреплялись деревом или дерном, точнее, пластами гумуса с лесной подстилкой. Высохшее дерево и хвойный опад легко воспламеняются и не препятствуют распространению низового пожара. Для защиты поселения от поджога и лесного пожара, устранения угрозы падения горящих сосен на фортификации и дома, а также для улучшения обзора местности перед городищем пространство за рвом обычно освобождалось от кустарников и больших деревьев на длину полета стрелы. Вырубка леса проходила одновременно с постройкой жилищ и оборонительных систем, для возведения которых требовалось много бревен, жердей, коры, бересты и других материалов. Неолитические укрепления были построены различными по происхождению и уровню развития первобытными коллективами рыболовов и охотников с керамикой амнинского, каюковского, сумпаньинского, быстринского, полуденского и других типов. Разнообразие ранних лесных фортификаций при малом их количестве отражает многочисленные попытки создания для каждой территории оптимального варианта обороны поселка. При этом поселка, защищенного не столько от диких животных, сколько от враждебного социального окружения. Для защиты от зверей достаточно костра и жилища. Главной целью строительства первых крепостей в тайге была защита богатых рыболовных и охотничьих угодий, а не просто охрана людей. Дело в том, что большинство общинников проживало в неукрепленных селищах и стойбищах, хотя для обитателей таких поселков жизнь была не менее ценна, чем для населения древних «городков». Достаточно мощные и совершенные по меркам Западной Сибири эпохи камня укрепления типа Амни I, Имнъёгана 2.1, Каюково 2, Бол. Умытьи 57 — это проявление и наглядная демонстрация силы, высокого технического уровня и социальной организации создавших их коллективов. Появление укреплений в тайге — результат раздела и закрепления относительно свободных лесных территорий в условиях притока населения с юга в период климатического оптимума и жесткой конкуренции между общинами мигрантов, аборигенов и гетерогенных коллективов. Это соответствует общей этнической, демографической, экономической и военной ситуации, сложившейся в неолите во время первого относительно массового освоения пространств западно-сибирской тайги. Судьбы неолитических укреплений севера Евразии Пути развития укрепленных поселений на севере и юге Западной Сибири после неолита неодинаковы. Энеолит в Зауралье и Западной Сибири (III тыс. до н.э.), совпавший с очередным плювиалом, был относительно мирным периодом экстенсивного освоения богатых биоресурсами (рыба, зверь, птица, ягоды, орехи и т.д.) глубинных лесных территорий. Помимо прочего, он отмечен увеличением числа селищ и стоянок, особенно на малых реках и озерах, перемещением стационарных поселков на высокие места, широким использованием приемов коллективной загонной охоты с помощью изгородей и ловчих ям, наряду с индивидуальным промыслом зве13 В.А. Борзунов ря, сочетанием сетевого и запорного рыболовства. В энеолите, вероятно, уменьшился приток мигрантов с юга. Городища в Сибири исчезли, но в приобской тайге изредка возводились малые укрепленные жилища типа Волвончи I (ранний горизонт). Первая половина и финал эпохи бронзы в Западной Сибири отмечены очередными периодами обострения военной напряженности и передела земель. В конце III — середине II тыс. до н.э. благодаря массовым миграциям скотоводческих племен городища распространились на громадных пространствах евразийских степей. В XVIII–XIV вв. до н.э. в западно-сибирской лесостепи и на южной кромке леса, явно при участии степных скотоводческих групп из Южного Урала, Казахстана и Верхнего Приобья, формируются гетерогенные общины с комплексным производящим и присваивающим хозяйством. Ими сооружаются здесь первые мысовые и береговые городища (Камышное II, Черноозерское VI, Инберень X, Черноозерское I, Сибсаргатка IV, возможно, Хутор-Бор-1 и Ямсыса VII — ранние рвы). В конце бронзового и начале железного века (начало — середина I тыс. до н.э.) оборонное зодчество развивается потомками этих коллективов (сузгунские, ирменские, красноозерские, карьковские, бархатовские, гамаюно-иткульские, иткульские, карагай-аульские, завьяловские городища). У охотников и рыболовов лесного Приобья и бассейна Пура в эпоху бронзы возводились только окруженные рвами мощные укрепленные дома, в том числе — с дополнительной оборонительной стеной. Городища — береговые, мысовые и в глубине террас — у них повторно появились только в конце бронзового и самом начале железного века (атлымские, барсовские, молчановские, белоярские, перегребнинские, кульминские, калинкинские укрепления). Преемственности между городищами эпох неолита и бронзы в Западной Сибири не наблюдается. В приобской тайге в бронзовом веке продолжается развитие только больших укрепленных жилищ. На рубеже бронзового и железного веков принципы их строительства с мигрантами из бассейнов Конды и Тавды (лозьвинская, гамаюнская культуры) были принесены в лесное Зауралье. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Бадер О.Н. Археологические исследования на Урале в 1946 г. // КСИИМК. 1948а. Вып. 20. С. 78–81. Бадер О.Н. Неолитическая стоянка на р. Полуденке близ г. Тагила // Первое УАС. Молотов: Изд-во ПГУ, 1948б. С. 37–40. Бадер О.Н. Новый тип неолитического поселения на Урале // СЭ. 1949. № 2. С. 144–150. Баранов М.Ю. К истории изучения Полуденских холмов в XIX — середине XX вв. // ВАУ. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. Вып. 25. С. 114–127. Бессмертных А.Н., Карачаров К.Г. Экспертные работы в Нижневартовском и Сургутском районах Тюменской области // АО 1995. М.: Наука, 1996. С. 314–315. Борзунов В.А. Новый ареал укрепленных жилищ на севере Евразии // РА. 1999. № 4. С. 5–23. Борзунов В.А., Бельтикова Г.В., Косинская Л.Л. и др. Раскопки поселения Барсова Гора II/22 в окрестностях Сургута (итоги работ 2007–2008 гг.) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 184–220. Борзунов В.А., Погодин А.А. Раскопки укрепленного жилища Быстрый Кульеган 38 // АО 2000. М.: Наука, 2001. С. 206–207. Борзунов В.А., Стефанов В.И., Глушков И.Г. Быстрый Кульёган-38 — укрепленное жилище эпохи бронзы в Сургутском Приобье // АЭАЭ. 2011. № 2 (46). С. 55–69. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь: Пер. с англ. с доп. М.: Прогресс. 368 с. Васильев Е.А. Исследования в Нижнем Приобье // АО 1983. М.: Наука, 1985. С. 193. Васильев Е.А. Миграционные процессы в таежной полосе Западной Сибири в энеолитическую эпоху (причина и динамика) // Смены культур и миграции в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1987а. С. 13–14. Васильев Е.А. Раскопки поселения Чэс-тый-яг // АО 1985. М.: Наука, 1987б. С. 228–229. Васильев Е.А. К проблеме среднеазиатско-западносибирских связей в неолитическую эпоху // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири: Тез. докл. Барнаул, 1991. С. 31–33. Васильев Е.А. Раскопки неолитического поселения Чэс-Тый-Яг на Приполярном Урале // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2004. Вып. 2. С. 296–301. Глушков И.Г., Собольникова Т.Н. Гончарные традиции низовьев Конды в эпоху неолита // Проблемы неолита — энеолита юга Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1999. С. 108–122. Горбунова Т.А., Толпеко И.В. Раскопки в Усть-Тарском археологическом микрорайоне // АО 2001. М.: Наука, 2002. С. 405–406. Джандиери М.И. Древнее башенное оборонное жилище // ВДИ. 1981. № 2. С. 118–155. 14 Неолитические укрепления и их прототипы таежного Приобья и Зауралья Зах В.А. Периодизация неолита Притоболья // Археологические культуры и культурно-хронологические общности Большого Урала. Екатеринбург: Изд-во ИИА УрО РАН: УрГУ, 1993. С. 59–60. Зах В.А. Боборыкинский комплекс поселения Юртобор 3 в Нижнем Притоболье // Древняя и современная культура народов Сибири. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1995. С. 60–70. Зах В.А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. 168 с. Зах В.А. К проблеме неолитизации Западной Сибири // AB OVO: Проблемы генезиса культуры. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. С. 60–70. Зах В.А., Исаев Д.Н. Ранняя керамика и формирование гребенчатой и гребенчато-ямочной орнаментальных традиций в неолите Тоболо-Ишимья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2010. № 2. С. 4–14. Ивасько Л.В. Неолитическое городище Каюково 2 в Среднем Приобье // Сев. археол. конгр.: Тез. докл. Екатеринбург, 2002а. С. 52–54. Ивасько Л.В. Укрепленное поселение каменного века Каюково 2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002б. С. 7–25. Ивасько Л.В. Раскопки укрепленного поселения каменного века Каюково II // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2003. Вып. 1. С. 228–229. Ивасько Л.В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: Древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 112–122. Ивасько Л., Кардаш О. По следам огня: Открытие нового городища каменного века // Родина. Спец. вып. М., 2002. С. 40–42. Ивасько Л., Кондрашев А. Укрепленное поселение каменного века городище Каюково 2 // Вестн. культуры. Ханты-Мансийск, 2001. № 21. С. 2–3. Ковалева В.Т. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. 80 с. Ковалева В.Т. К.В. Сальников и проблема изучения боборыкинской культуры // XIV УАС: Тез. докл. Челябинск, 1999. С. 25–27. Ковалева В.Т. О роли кошкинской и боборыкинской культур в культурогенезе северных районов Зауралья и Западной Сибири // II Сев. археол. конгр.: Тез. докл. Екатеринбург, 2006. С. 55–56. Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Историография и обзор основных памятников кошкинской культуры Среднего Зауралья // ВАУ. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. Вып. 25. С. 30–43. Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Неолит Среднего Зауралья: (Боборыкинская культура). Екатеринбург: Центр «Учеб. книга», 2010. Корякова Л.Н. Еще одно издание материалов Барсовой Горы (Барсова Гора: древности таежного Приобья / Отв. ред. А.Я. Труфанов. — Екатеринбург; Сургут: Уральское издательство, 2008) // ХантыМансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. Вып. 7. С. 342–344. Косинская Л.Л. Неолит севера Западной Сибири: Проблема южных связей // XIV УАС: Тез. докл. Челябинск, 1999а. С. 27–28. Косинская Л.Л. О схемах развития северного неолита // Обские угры. Тобольск; Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999б. С. 38–41. Косинская Л.Л. О некоторых традициях домостроительства на севере Западной Сибири // XV УАС: Тез. докл. Оренбург, 2000. С. 46–47. Косинская Л.Л. Памятники быстринского типа в Сургутском Приобье (эпоха неолита) // Материалы по археологии Обь-Иртышья. Сургут: РИО СурГПИ, 2001. С. 12–17. Косинская Л.Л. Неолит севера Западной Сибири: Генезис и связи // Твер. археол. сб. Тверь: Изд-во ТГОМ, 2002а. Вып. 5. С. 215–223. Косинская Л.Л. О некоторых проблемах неолитоведения Урала и Западной Сибири // Сев. археол. конгр.: Докл. Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2002б. С. 172–178. Косинская Л.Л. Работы Северотаежной экспедиции Уральского ГУ на севере Тюменской области // АО 2001. М.: Наука, 2002в. С. 431–433. Косинская Л.Л. Жилища поселения Быстрый Кульёган 66 // Западная Сибирь: Прошлое, настоящее, будущее. Сургут: Диорит, 2004. С. 226–241. Косинская Л.Л. Неолит таежной зоны Западной Сибири // Археологическое наследие Югры. ХантыМансийск; Екатеринбург: Чароид, 2006. С. 16–40. Косинская Л.Л. Сырьевая стратегия и камнеобработка как аспекты культурной адаптации (по материалам неолитических памятников севера Западной Сибири) // Урал. ист. вестн. Екатеринбург: ИИА УрО РАН, 2010. № 2 (27). С. 13–24. Косинцев П.А., Бобковская Н.Е., Беспрозванный Е.М. Радиоуглеродная хронология археологических памятников таежной зоны Западной Сибири // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2004. Вып. 2. С. 17–32. Массон В.М. Алтын-Депе: Раскопки города бронзового века в Южном Туркменистане. Л.: Наука, 1981. 176 с. (Тр. ЮТАКЭ; Т. 18). 15 В.А. Борзунов Массон В.М., Мерперт Н.Я., Мунчаев Р.М., Черныш Е.К. Энеолит СССР. М.: Наука, 1982. 360 с. (Археология СССР). Морозов В.М., Стефанов В.И. Амня I — древнейшее городище Северной Евразии? // ВАУ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. Вып. 21. С. 143–169. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1: Поселения и жилища. Кн. 1. Томск: Изд-во ТГУ, 1994. 490 с. Панина С.Н. Археологические исследования на Усть-Вагильском холме: (2005–2006 гг.) // ВАУ. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. Вып. 25. С. 137–146. Перевалова Е.В., Карачаров К.Г. Река Аган и ее обитатели. Екатеринбург; Нижневартовск: УрО РАН; Студия «Графо», 2006. 352 с. Погодин А.А. Каменный век на территории Западной Сибири // Археологическое наследие Югры. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Чароид, 2006. С. 5–15. Погодин А.А. Поселение Большая Умытья 9: Результаты полевых исследований 2007–2008 гг. в Советском районе ХМАО — Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; ХантыМансийск: Изд-во ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 146–183. Погодин А.А., Миронов П.В. Предварительные результаты аварийных раскопок поселения Большая Умытья 57 в Советском районе ХМАО — Югры (по материалам исследований 2007–2008 гг.) // ХантыМансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. Вып. 7. С. 132–167. Поселение Быстрый Кульёган 66: Памятник эпохи неолита Сургутского Приобья / Кол. моногр.; Под ред. Л.Л. Косинской и А.Я. Труфанова. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2006. 192 с. Сладкова Л.Н. Чертова Гора — неолитический памятник в бассейне Конды // ВАУ. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. Вып. 25. С. 147–158. Старков В.Ф. Работы Западносибирского отряда МГУ // АО 1968. М.: Наука, 1969а. С. 194–196. Старков В.Ф. О так называемых «богатых буграх» в лесном Зауралье // Вестн. МГУ. Сер. ист. М.: Изд-во МГУ, 1969б. № 5. С. 72–77. Стефанов В.И., Борзунов В.А. Неолитическое городище Амня I (по материалам раскопок 1993 и 2000 гг.) // Барсова Гора: Древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 93–111. Стефанов В.И., Борзунов В.А., Погодин А.А., Корочкова О.Н. Городище каменного века Амня I: Новые данные // XIV УАС. Челябинск, 1999. С. 43–44. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Экология и типы традиционного сельского жилища // Типология основных элементов традиционной культуры. М.: Наука, 1984. С. 34–64. Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. 1953. № 35. С. 7–71. Шорин А.Ф. Кокшаровский холм: Святилище на холме // Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2004. С. 87–94. Екатеринбург, Уральский федеральный университет borzunov@usu.ru; PNIAL@usu.ru The article outlines six expansion stages regarding fortified settlements of the Old World in VIII thous. B.C. — III c. A.D. It gives a general description of ten Neolithic fortified settlements and their prototypes of VI–IV thous. B.C., which were discovered in West Siberian and Trans Ural taiga, considering reasons of their formation. The Neolithic forest fortifications of 260 — 1900 м2 in area are located on capes, edges of terraces, in the shore recess, protected by palisades, log walls, and ditches. Those were built and probably invented by primitive groups of taiga fishermen and hunters. The main reason of their origin seems to be an allotment and assignment of relatively free game territories due to an influx of new population from the south during a period of climatic optimum, and a severe competition among the communities. West Siberia, Trans Urals, Neolithic Age, fortified settlement. 16 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) ПЕРИОДЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ТОБОЛО-ИШИМЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ1 В.А. Зах Рассматриваются некоторые аспекты основных «хронологических» переходных периодов: от мезолита к неолиту, от эпохи бронзы к раннему железному веку — и периода перехода от присваивающего хозяйства к производящему, в частности к скотоводству, в рамках эпохи бронзы в лесном ТоболоИшимье. Эти периоды соотносятся с крупными климатическими и ландшафтными перестройками, обусловливавшими в случае аридизации миграционные потоки населения в северном и восточном направлениях, при гумидизации — на юг и запад. С миграцией населения из экономически развитых южных и юго-западных районов на территории Западной Сибири осваиваются новые технологии — гончарное производство, металлургия и металлообработка, появляются скотоводство и зачатки земледелия. Миграции северного населения в гумидные климатические фазы приводят к возвращению в западносибирской лесостепи присваивающего хозяйства, забытых технологий каменного производства, в социальной сфере — к укреплению родовых отношений. Ассимиляционные процессы при взаимодействии автохтонных и пришлых групп населения обусловливают в течение достаточно короткого времени изменения в материальной культуре, что проявляется в быстрой смене этапов развития культур в эти периоды. Переходный период, миграция, неолитизация, гончарное производство, скотоводство, металлургия, металлообработка, ассимиляция. Начиная с раннего голоцена на территории Евразии наблюдаются ощутимые различия в развитии древних обществ. Прежде всего это выражается в появлении в южных областях (Ближний Восток) производящего хозяйства при сохранении присваивающей экономики на северных территориях. Отставание в экономическом и технологическом развитии севера Евразии постепенно нарастало, и практически до современности в таежной зоне и тундре сохраняются общества с традиционным хозяйством. В течение эпохи голоцена, охватывающей около 10 тысячелетий, в лесной части Западной Сибири, и в частности Тоболо-Ишимья, прослеживается не только плавное, поступательное, но и взрывное, скачкообразное, развитие обществ. Периоды таких, заметных и значимых, трансформаций культур, сопряженные, как правило, с глобальными климатическими перестройками, получили название переходных. На рассматриваемой территории отмечается три крупных периода, связанных с неолитизацией, становлением производящего хозяйства в эпоху бронзы и динамичными процессами хозяйственно-культурных изменений на рубеже бронзы — раннего железного века. В Западной Сибири, как и на территории всей Северной Евразии, около 13 тыс. лет назад начинается потепление. На смену тундровым и лесотундровым пространствам перигляциальной зоны, протянувшейся почти на 1500 км к югу от ледников, приходят лиственные и хвойные леса. Ареал представителей мамонтового комплекса постепенно сдвигается к северу, некоторые виды вымирают или деградируют. Пространство равнины постепенно занимают современные представители животного мира: лось, медведь, косуля, лисица, заяц, соболь и многие другие, ставшие для обществ с присваивающей экономикой основным источником пищи, одежды, а в местах с малым количеством камня — и материала (кость) для производства орудий. На мезолитических памятниках от Приисетья до Приобья (Сухрино 1, Камышное 1, Остров 2, Ташково 4, Звездный, Катенька и Черноозерье 6а) инвентарь изготовлен из различных пород камня, происходящих с Южного Урала и галечников Притоболья и Приишимья [Зах, Скочина, 2010]. Преобладает пластинчатая индустрия без геометрических микролитов и наконечников стрел. Отсутствие долговременных, углубленных в землю жилищ, каменная и костяная индустрия свидетельствуют о подвижном образе жизни как предшествующего, палеолитического, так 1 При финансовой поддержке гранта «Механизмы и содержание трансформаций и преемственного развития древних обществ Тоболо-Ишимья» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». 17 В.А. Зах и мезолитического населения Западной Сибири. Скорее всего, это были небольшие группы охотников, передвигающиеся за мигрирующими стадами диких животных в места их сезонного обитания. Лесостепные и южно-таежные мезолитические поселения Тоболо-Ишимья и Прииртышья, в каменных комплексах которых отсутствуют геометрические микролиты, можно объединить в самостоятельную тоболо-иртышскую культуру с локальными вариантами — притобольским и ишимо-иртышским [Зах, 2009]. Кардинальные изменения в развитии и заселении территории Западно-Сибирской равнины происходят на рубеже бореального и атлантического периодов голоцена, в неолитическую эпоху. Происхождение культур неолитического времени в Западной Сибири не может рассматриваться вне процессов становления неолита, и прежде всего гончарства. По мнению одних исследователей, неолитические культуры сформировались на местной мезолитической основе, керамическое производство в Западной Сибири появилось самостоятельно, а наиболее древняя местная керамика — с отступающе-накольчатой орнаментацией [Косарев, 1991; Молодин 1985, 1995; Старков, 1980; Ковалева, 1989]. С точки зрения других, умение делать керамику было заимствовано древними уральцами у южных соседей [Бадер, 1970, с. 159; Косинская, 2002, с. 222; Тимофеев, 2002, с. 210; Моргунова, 1995, с. 93; Вискалин, 2002]. О привнесении керамического производства в лесостепные и лесные районы Восточной Европы и Западной Сибири говорят многие исследователи, но по поводу механизма этого процесса их позиции различны. Предполагается появление гончарства путем диффузии через буферные двуязычные культуры либо в результате миграции населения. По нашему мнению, становление неолита в Западной Сибири — сложный и продолжительный процесс, начавшийся с аридизацией и вследствие этого прямыми миграциями населения с южных и юго-западных сопредельных территорий. Судя по всему, это было население, обладавшее навыками гончарного производства, технологиями изготовления геометрических микролитов (использовавшихся, вероятно, в качестве вкладышей), каменных наконечников стрел и тростниковых древков к ним. Скорее всего, толчком к миграции в северном и восточном направлениях послужило ухудшение экологической обстановки в связи с изменением климатических условий — сильной аридизацией в середине голоцена. Достаточно низкий уровень Каспийского моря (-50 м от уровня океана) и совпадающая с этим аридизация отмечаются в период мангышлакской регрессии, пик которой приходится на середину VII тыс. до н.э. Наиболее вероятно, что мигранты продвигались на север по долинам Тобола, Тургая и Ишима. Не исключаем и возможности проникновения их с юго-запада — вначале по долине Урала, а затем по Тоболу. Мы соотносим с этими группами комплексы боборыкинской культуры с отступающе-прочерченной орнаментацией, датируемые по материалам лесостепного и южно-таежного Притоболья в пределах начала VIII — середины VI тыс. до н.э. (некалиброванные радиоуглеродные даты). В пользу предположения о прямой миграции инородного населения на лесостепные и южно-таежные территории Тоболо-Ишимья могут свидетельствовать следующие факты. В период неолитизации в Тоболо-Ишимском регионе значительно увеличивается численность населения, вероятно как местного, так и пришлого: отмечается резкий рост числа поселений и жилищ в них. Появляются долговременные, углубленные в материк жилища (оседлость обеспечивается запорным рыболовством). О прямой миграции может говорить появление в лесостепи и южной тайге в пределах ареала боборыкинской культуры, наряду с керамикой, геометрических микролитов и выпрямителей древков стрел («утюжков») [Усачева, 2007]. Наиболее ранние из «утюжков» обнаружены на Ближнем Востоке в комплексах натуфийской культуры и докерамических слоях Загроса и Иерихона [Мелларт, 1982]. Подобные изделия встречаются в Тоболо-Ишимье в боборыкинских и кошкинских комплексах, редки в последующих неолитических культурах. Кроме отступающе-прочерченной, на территории Западной Сибири фиксируются новые — гребенчатая и гребенчато-ямочная орнаментальные традиции, что отражает, вероятно, взаимодействие местного (мезолитического) и мигрирующего населения [Васильев и др., 1993; Зах, 1995]. Очевидно, группы переселенцев были немногочисленны и экзогамны. Утратив привычные брачные связи с партнерами из метрополии, со временем мигранты стали вступать в брачные контакты с местным населением. Аборигены, не знавшие керамического производства, постепенно перенимали навыки изготовления глиняной посуды, но орнаментировали ее по-своему, возможно адаптируя к керамике известные им приемы. Могли имитировать на глиняных сосудах швы, которые получались при конструировании, например, емкостей из бересты. Подобный 18 Периоды трансформаций в истории древних обществ Тоболо-Ишимья в голоцене прием использовался в раннем железном веке на Алтае, где на глиняную посуду наносились линии раскроя и стежков, как при сшивании частей кожаных емкостей [Бородовский, 1983]. Предметы из бересты изготовляли не только в этнографическое время, но и в древности. Так, в бассейне р. Конды были найдены четырехугольные сосуды с невысокими стенками, относящиеся к позднему энеолиту [Кокшаров, 1991, с. 93−94, рис. 1, 24], орнамент на кромке которых в виде косых насечек напоминает линии стежков обшивки по кромке берестяного чумана [Федорова, 1994, с. 231]. На памятнике Чертова Гора обнаружены берестяные вместилища, близкие к этнографическим берестяным туесам. На стенках одного из туесов охрой нанесены горизонтальные параллельные полоски шириной 2−3 мм, на крышках и стенках следы (отверстия) швов. Жертвенное (?) место, откуда происходят эти предметы, связывается с носителями кошкинской орнаментальной традиции (6400±90 л.н., 6480±65 л.н., 6445±90 л.н.) [Сладкова, 2007]. Вероятно, ряд технологических решений, в частности наложение швов при изготовлении берестяной утвари, нашли впоследствии отражение в форме и орнаментации керамической посуды. При изготовлении берестяных емкостей округлость и прочность устья изделия достигалась вшиванием гибкого черемухового обруча или планки из другой породы. Обруч по устью оборачивался берестой, которая прошивалась сухожильными нитками [Федорова, 2000, с. 228– 229]. Стежки накладывались равномерно по всей окружности емкости, иногда группировались по два-три. Шов накладывался в большинстве случаев наклонно к краю изделия, но известны экземпляры со стежками, расположенными горизонтально. Швы или соединения на берестяной посуде и других изделиях (лодки) часто напоминают ряды «качалки» на керамике. Похожие технологии (сшивание) употреблялись и при изготовлении крупных изделий — лодок, покрывал, жилищ, а также посуды (куженек) чулымскими тюрками [Тюрки…, 1991, с. 68, рис. 10, 1, 3]. Наряду со швами для крепления берестяных лент, образующих емкости, обручей и дна существует множество замковых соединений, «рисунок» которых также мог иметь отношение к формированию орнаментальных мотивов на глиняной посуде («качалка», ряды наклонных и вертикальных линий, геометрические узоры). Уже в комплексах боборыкинской культуры появляются сосуды, украшенные оттисками гребенчатой «качалки», на кошкинском этапе процент керамики с гребенчатым орнаментом увеличивается, происходят изменения в форме сосудов. С внутренней стороны отмечается пока небольшой наплыв, с внешней — карнизик (видимо, имитация деревянного обруча, как правило, укрепляющего устья берестяных емкостей). В более позднее, козловское и полуденковское, время наплывы становятся крупнее, а гребенчатые орнаменты постепенно начинают доминировать. Вместе с керамическим производством мигранты принесли, как уже упоминалось, новые технологии: использование в качестве вкладышей геометрических микролитов, стрел с каменными наконечниками и древков из тростника и/или камыша. Наряду с инновациями, в каменных комплексах боборыкинской культуры отмечаются изделия, характерные для комплексов мезолитического времени [Дрябина, 1995; Зах, 1987]. Эти факты могут свидетельствовать об ассимиляции местного и пришлого населения и процессах трансформации старой и складывания новой традиции. Таким образом, происхождение керамического производства в лесостепном и южнотаежном Притоболье и Приишимье, на наш взгляд, связано с прямой миграцией групп населения, вероятно, из районов Приаралья и Прикаспия. В результате в процессе ассимиляции в керамическое производство вовлекается аборигенное население (женщины) и в Тоболо-Ишимье начинают формироваться местные орнаментальные традиции. Одним из местных приемов декорирования являются гребенчатые вдавления. В боборыкинских и кошкинских керамических комплексах гребенка составляет от 1,3 до 22,2 %, в козловских, полуденковских и кокуйских — до 50 % и более, в последующее время ее количество возрастает до 90 % (сосновостровские комплексы) и практически до 100 % (шапкульские и екатерининские). На ранних этапах в Тоболо-Ишимье отмечается использование горизонтальных или вертикальных рядов в основном гребенчатой «качалки», но впоследствии в Притоболье и Приишимье фиксируются две различные орнаментальные традиции — гребенчатая и гребенчато-ямочная соответственно. В первом случае развитие идет от боборыкинской культуры к козловским, полуденковским, сосновоостровским и шапкульским комплексам [Зах, 2005], во втором — следующая линия: боборыкинские, близкие к козловским, кокуйские, близкие к сосновостровским и далее екатерининские [Зах, 2004]. 19 В.А. Зах Второй период трансформаций, или переходный период, в частности от присваивающего хозяйства к производящему, в Западной Сибири отмечается в эпоху бронзы и охватывает конец III — первую половину II тыс. до н.э. С нарастанием аридизации на лесостепные и отчасти южнотаежные территории Тоболо-Ишимья начинает проникать скотоводческое население петровской и алакульской культур. В результате миграции скотоводы постепенно смешиваются с местными ташковскими коллективами с присваивающей экономикой, основанной на рыболовстве и охоте [Зах, 2009, с. 240; 2011]. Ассимиляционные процессы, скорее всего, на основе экзогамных брачных отношений между мигрантами — петровско-алакульскими группами и аборигенами — ташковцами приводят к сложению в Притоболье коптяковских, а на их основе — федоровских комплексов. Как любое культурное образование, коптяковская культура имеет свой ареал, истоки, внутреннюю периодизацию и хронологию [Зах, 2012]. В процессе формирования и развития коптяковского культурного комплекса можно выделить по крайней мере два этапа. На первом (раннем) этапе, при усилившейся интеграции ташковского и петровско-алакульского населения, появляются такие комплексы, как ЮАО 6, Чепкуль 5, Оськино Болото и Шайтанское Озеро 2. На посуде отмечаются черты, присущие как ташковской (желобки, ряды неглубоких ямок или вдавлений), так и алакульской (ребро при переходе к тулову, горизонтальные зигзаги, геометрические узоры) культуре. Металлические изделия относятся к сейминско-турбинскому, самусьско-кижировскому и евразийскому типам [Сериков и др., 2009]. Время формирования этого этапа коптяковской культуры определяется радиоуглеродными датами по углю, происходящему из средней и нижней части заполнения котлована жилища 1 поселения Чепкуль 20: 3510±45, 4140±85, 3700±45 л.н. (СОАН 5852, 5854, 5855) [Зах, Иванов, 2007; Зах и др., 2011]. Ко второму (позднему) этапу, на наш взгляд, относятся материалы памятника Коптяки 5, посуда с ковровым орнаментом поселения Чепкуль 20, погребения могильника Палатки 1 и два захоронения, исследованные на поселении Чепкуль 5 [Викторова, 2001; Зах, Илюшина, 2011]. Посуда позднего этапа по форме и орнаментации ближе к федоровским (Черемуховый Куст, Дуванское 17, Курья 1) комплексам Нижнего Притоболья, а бронзовые наконечники стрел из чепкульского погребения аналогичны изделиям из кургана 7 Смолинского могильника, Межовского и Садчиковского поселений [Сальников, 1967, рис. 52, 12, 13; Кузьмина, 1973, с. 163, рис. 4; Аванесова, 1991, рис. 39]. По Н.А. Аванесовой, данные типы (III, IV) наконечников стрел датируются в пределах XIV−VIII вв. до н.э. [1991, рис. 39]. Верхнюю границу позднего этапа с керамикой и металлом, сравнимыми с федоровскими, скорее всего, маркируют радиоуглеродные даты комплексов Черемухового Куста 3446±95, 3280±30, 3605± 53 л.н. (УПИ 560, 564, 569), поселения Курья 1 3390±40 л.н. (СОАН 5849), а также даты, полученные по углю из ямы 1 и верхней части котлована жилища 1 поселения Чепкуль 20 3240±50, 3190±90, 3285±75 л.н. (СОАН 5850, 5851, 5853). Пока достаточно сложно говорить о верхней границе этого переходного периода, это тема будущих исследований, но, видимо, его окончание можно связывать с формированием позднебронзовых культур — бархатовской, сузгунской, ирменской. Переходный период от эпохи бронзы к раннему железному веку протекал в совершенно иной климатической обстановке. С одной стороны, в лесостепи в начале I тыс. до н.э. в связи с увлажнением производящая экономика носителей ирменской (позднеирменской), сузгунской и бархатовской культур стала переживать глубокие кризисные изменения. В скотоводстве, попрежнему доминирующей отрасли, начинается кардинальная перестройка. В частности, заметно увеличивается доля лошади, что приводит к смене придомного скотоводства, с заготовкой кормов в пойме, отгонным, полукочевым скотоводством. Это сопровождается, на наш взгляд, сокращением численности населения, в том числе ввиду оттока части его на юг, в степи. С другой стороны, пойменные пространства Нижней Оби, в пределах ареала атлымской культуры, а возможно, и шире, испытывают длительные, иногда ежегодные, подтопления. В результате на этих территориях сокращаются популяции лося, снижается добыча рыбы, что вызывает в конечном счете миграцию части таежного населения на юг. Движение экзогамных групп мигрантов, носителей посуды с гребенчато-крестовой и струйчатой орнаментацией, происходило в основном по крупным водным артериям, протекающим в меридиональном направлении: Оби, Иртышу, Ишиму и Тоболу. В силу географических условий лесное Приобье, Прииртышье, Тоболо-Ишимье и Бараба в разной степени, как в количественном, так и в культурном отношении, подверглись экспансии 20 Периоды трансформаций в истории древних обществ Тоболо-Ишимья в голоцене северного населения, что определенным образом повлияло на ассимиляционные процессы, а в конечном счете — начальные сроки формирования культур раннего железного века, и в частности саргатской. На территориях с меридиональным направлением речных долин прослеживаются во многом сходные исторические процессы, в том числе сложение синкретичных культур. В Барабинской лесостепи, где реки текут в широтном направлении (Каргат, Чулым, впадающие в оз. Чаны, Омь — приток Иртыша), а на севере простираются труднопроходимые Васюганские болота, природные условия способствовали изоляции территории, и проникновение сюда инокультурного компонента было незначительным. Этот факт определял своеобразие историкокультурного развития региона, где, на наш взгляд, продолжался процесс эволюции позднеирменских комплексов. В Приобье сформировалась гибридная завьяловская культура с несколькими этапами развития [Троицкая и др., 1989]. С новыми элементами, проявившимися в культуре завьяловского населения (домостроение, хозяйство), в керамическом комплексе, особенно на раннем (линевском) этапе, прослеживаются черты позднебронзовой эпохи (позднеирменские) и присутствуют северные — в виде крестовой орнаментации, которые на последнем, большереченском (Ближние Елбаны 1) этапе практически исчезают. На смену завьяловской в VI−V вв. до н.э. приходит в основном посуда бийского этапа — баночной и горшковидной форм, украшенная одним рядом жемчужин, разделенных оттиском уголка палочки или коротким гребенчатым штампом [Троицкая, 1985]. В Приртышье и Приишимье пришельцы с севера — носители посуды с крестовой и гребенчатой орнаментацией смешивались с позднебронзовым населением сузгунской культуры [Полеводов, 2003]. В результате складывается красноозерская культура, развитие которой приводит к формированию журавлевских, а затем богочановских комплексов [Абрамова, Стефанов, 1985; Данченко, 1996]. Богочановская посуда горшковидной и баночной форм, орнамент занимает верхнюю часть сосуда, это жемчужины, разделенные оттисками гребенки или уголка заостренной палочки. В Притоболье происходит аналогичный процесс: в позднебронзовую среду — носителей бархатовской культуры проникают гамаюнские керамические традиции. В комплексах ранних этапов отмечаются находки гамаюнских сосудов совместно с бархатовскими, например на Красногорском городище [Матвеев, 1999, с. 111]. Впоследствии наблюдается смешение керамических традиций, что отмечается на городище Усть-Утяк 1, где наряду с бархатовскими и гамаюнскими сосудами встречается посуда с гибридным орнаментом [Кайдалов, Сечко, 2006]. Впоследствии ассимиляция позднебронзового населения пришельцами приводит к формированию иткульских (восточный вариант) комплексов. Пройдя ряд этапов развития, иткульские, в свою очередь, послужили основой для сложения баитовских, с посудой, орнаментированной одним рядом жемчужин, уголковыми вдавлениями или оттисками гребенки [Зимина, 2006; Зах, 2007]. По мнению некоторых исследователей, миграция с севера в одних регионах была полномасштабной и продолжительной [Труфанов, 1994], другие считают ее кратковременной и малочисленной [Троицкая, 1985; Бородовский, 1983]. На наш взгляд, в количественном отношении мигрировавшее с севера население распределялось пропорционально проживавшим в Притоболье, Приишимье, Прииртышье и Приобье аборигенам. Наибольшее количество поселений (более 150) сосредоточено в Среднем Зауралье и Притоболье, около 50 открыто в Приишимье и Прииртышье, единичные — в Барабе и Приобье [Труфанов, 1994]. Подобное распределение миграционного потока объясняется тем, что наиболее прямые пути на юг идут по Иртышу, Тоболу и Ишиму, а также тем, что эти территории в самом конце позднебронзового времени были наиболее заселенными: это немаловажное обстоятельство для экзогамных северных коллективов. Однако, по самым грубым подсчетам, с учетом того, что в среднем в керамических комплексах переходного времени посуда с крестовым орнаментом насчитывает около 15−20 %, численность инокультурного населения могла составлять 1/3 и более населения региона. Все рассматриваемые культуры прошли несколько этапов развития, закончившегося появлением очень схожих керамических комплексов: в Приобье — бийского этапа, в Барабе — берликских, в Прииртышье и Приишимье — богочановских и баитовских. Правда, необходимо отметить, что на территориях, где отмечается непосредственное проникновение северного населения, ассимиляционные процессы происходили до VI — начала V в. до н.э., около IV−III вв. до н.э. бийские, богочановские и баитовские комплексы сменяются комплексами березовского этапа в Приобье и саргатскими в Прииртышье, Приишимье и Притоболье. В Барабинской же лесостепи ассимиляция пришлого населения заканчивается примерно на два-три столетия 21 В.А. Зах раньше и около VII в. до н.э. начинают складываться комплексы саргатской культуры [Полосьмак, 1987]. Таким образом, в Барабе, в силу незначительного притока мигрантов, имеет место главным образом развитие позднеирменских комплексов и сравнительно раннее формирование саргатской культуры. Некоторые особенности наблюдаются и в развитии культур других регионов. Так, в лесостепи Прииртышья и Приишимья отток на юг населения позднебронзового времени был менее выражен в количественном отношении, чем в Приобье и Притоболье, поскольку сузгунское население, в отличие от ирменского и бархатовского, вело комплексное хозяйство, которое менее зависело от климатических изменений, чем скотоводческое. Наиболее явно процессы трансформации в данный период отражены в материалах Нижнего Притоболья. Проникавшие сюда отдельные гамаюнские коллективы занимали привычную для себя экологическую нишу — подтаежные районы, которые пригодны для обитания оседлых рыболовов и охотников. Пути миграций гамаюнского населения в Нижнее Притоболье, скорее всего, пролегали по рекам Исети, Туре, Пышме, берущим начало в Уральских горах. О контактах гамаюнского и бархатовского населения свидетельствует посуда c крестовым штампом в бархатовских комплексах Красногорского городища, поселений Щетково 2, Заводоуковское 9, а о слиянии двух традиций — материалы городищ Миасское 1 и Усть-Утяк 1. Сосуды с синкретичными бархатовско-гамаюнскими чертами в большинстве случаев имеют профилировку, характерную для бархатовской посуды, орнамент представлен гребенчатыми оттисками, присутствуют ямки в шахматном порядке, иногда они сочетаются с жемчужинами. Часть керамики, украшенной оттисками креста, гладкого штампа и ямок, с дуговидными шейками, находит аналоги в ишимо-иртышских памятниках красноозерской культуры. Единичные фрагменты, орнаментированные двойными рядами жемчужин и жемчужинами, разделенными вертикальными насечками или уголками, близки позднеирменской керамике [Кайдалов, Сечко, 2004, с. 73; 2006, с. 78−80]. В комплексе городища Усть-Утяк 1 имеются сосуды с орнаментальными композициями, напоминающими композиции на керамике иткульской культуры. По-видимому, развитие контактов между носителями бархатовской и гамаюнской культур привело к сложению нового образования — иткульской культуры. В рамках иткульской культуры, выделенной К.В. Сальниковым по материалам Южного Зауралья [1961, с. 50], Г.В. Бельтикова охарактеризовала два типа посуды. Первый тип — это сосуды с прямыми вертикальными или отогнутыми, дугообразно отогнутыми или вогнутыми шейками, имеющими одинаковую толщину с туловом. Второй тип — сосуды с прямыми вертикальными, отогнутыми или дугообразно отогнутыми шейками, имеющими значительное утолщение горла в точке перегиба. В качестве примеси к тесту почти всегда использовался тальк, у сосудов второго типа тальк и слюда добавлялись не так обильно. Для орнаментации чаще использовался гребенчатый штамп, реже резная техника, насечки и гладкий штамп. Сосуды украшались наклонными или горизонтальными линиями, столбиками, взаимопроникающими фигурами, горизонтальной елочкой, иногда — зигзагом, ромбической сеткой, «шагающей» гребенкой. Орнаментальная зона на шейке у сосудов первого типа почти всегда завершалась ломаной линией, рядом треугольных вдавлений или ямок, у сосудов второго типа — чаще всего двумя рядами ямок в шахматном порядке — типичным элементом орнамента гамаюнской посуды [Бельтикова, 1977, с. 120−124]. Иткульская посуда первого типа не распространена восточнее среднего течения Туры, Пышмы и Исети. В лесостепной части Притоболья на памятниках Рафайловский «городок», Онуфриевский борок 4, 5, и других иткульская посуда II типа встречалась в незначительном количестве. В рамках начального этапа раннего железного века на территории Тоболо-Ишимской лесостепи она рассматривалась как подражание «крестовой» [Матвеева, 1989, с. 98]. Открытие на Тапе в долине Тобола, а затем в системе Андреевских озер обширных городищ с кольцевой планировкой позволило говорить о своеобразии культурно-исторических процессов на этих территориях и выделить эти материалы в восточный локальный вариант иткульской культуры [Зах, Зимина, 2004]. На основе материалов памятников на Тапе, Туре и территории Андреевской озерной системы были выделены три этапа в развитии восточного варианта иткульской культуры — иткульский, карагай-аульский и вак-куровский, а с учетом динамики опорных поселений, немногочисленного датирующего инвентаря, хронологии предшествующих и последующих культур, радиоуглеродных определений обоснована датировка культуры: с конца VIII — начала VII до конца VI в. до н.э. 22 Периоды трансформаций в истории древних обществ Тоболо-Ишимья в голоцене Керамика иткульского этапа обнаружена на 46 памятниках, из которых 15 укрепленных, они распространены от среднего течения Тобола до р. Тавды. Памятники значительно удалены от современных водоемов и расположены в глубине первой — второй надпойменных террас на участках с относительно низкими гипсометрическими отметками. Поселения имеют в плане овальную или округлую форму. Площади их варьируются в пределах от 1000 до 8000 м2 (округлые) и от 15 000 до 64 000 м2 (овальные). Площадки поселений укреплены валом и рвом, внутри зафиксировано от 4 до 39 сооружений. Центр поселений преимущественно свободен от построек. Жилища наземного типа без котлованов, окружены ямами-карьерами, чаще всего расположены по периметру укреплений. Инвентарь поселений представлен медной петельчатой бляшкой-пуговицей, скребками, ножами, наконечниками стрел из кремня и кремнистых пород и керамическими скребками для обработки шкур. О бронзолитейном производстве свидетельствуют находки тиглей и обломки глиняных форм. Сосуды с приземистым туловом, широкими горловинами, выпуклыми плечиками, округлыми или небольшими уплощенными днищами. Орнаментированы шейка, переходная зона и плечико. Для нанесения орнамента чаще всего использовался гребенчатый штамп, реже — волнистый (струйчатый), единичны случаи применения гладкого штампа и оттисков в виде уголка. Орнамент представляет собой взаимопроникающие фигуры, наклонные линии, ряды горизонтальных линий, зигзаги. Встречаются сетка, заштрихованные ленты, ряды каплевидных вдавлений, треугольники вершинами вниз, узор в виде лесенки и меандр. Из сооружений и конструкции в основании вала на городище Карагай Аул 4 по образцам угля были получены радиоуглеродные даты (сооружение 1 — 2785±25; 2750±45; 2630±30 л.н., сооружение 2 — 2595±30 л.н., вал — 2625±75 л.н.). С учетом этих данных иткульский этап отнесен к концу VIII — первой половине VII в. до н.э. [Зимина, Зах, 2009]. На карагай-аульском этапе, который датирован второй половиной VII в до н.э., продолжают развиваться традиции домостроительства и планировки, существовавшие на предыдущем, иткульском этапе. Постройки внутри огражденной площади расположены по периметру укреплений. Основным типом построек являются наземные сооружения без котлована, площадью 60−70 м2, окруженные ямами-карьерами. Комплекс площадки А городища Карагай Аул 1 представлен посудой иткульского облика. В то же время, в отличие от керамики предыдущего этапа, некоторые сосуды имеют прямые, без утолщения, шейки либо слабопрофилированную верхнюю часть. Отсутствуют сосуды с небольшими уплощенными днищами. На керамике Карагай Аула 4 преобладают гребенчатые штампы, а на посуде Карагай Аула 1/А выше удельный вес волнистых узоров и каплевидных вдавлений. На одном сосуде с типично иткульской орнаментацией под срезом венчика, над рядом сдвоенных ямок, нанесены жемчужины, не характерные для иткульских комплексов. Появляются сосуды с обедненной орнаментацией. Утрачивается традиция добавления в керамическое тесто толченого талька [Зимина, Мыльникова, 2006]. На площадке Б Карагай Аула 1 представлен комплекс с иной керамической традицией. По формам сосуды в целом близки к иткульским: это довольно приземистые и широкогорлые горшки, однако более тонкостенные, примерно с одинаковой толщиной по всему сосуду. Орнамент разреженный, нанесен преимущественно гребенчатым штампом, иногда волнистым (мелкоструйчатым) или в виде уголка. В орнаментации посуды Карагай Аула 1/Б преобладают жемчужины (80 %) — как известно, доминирующий элемент узора на керамике бархатовских комплексов позднего (красногорского) этапа [Матвеев, Аношко, 2001, с. 31]. Скорее всего, площадки городища Карагай Аул 1 функционировали в одно время, а обитатели их активно взаимодействовали. Радиоуглеродные даты из сооружения 1 на площадке Б Карагай Аула 1 и сооружения 2 на площадке А Карагай Аула 1 практически совпадают — соответственно 2830±25 и 2840±25 л.н. [Зимина, Зах, 2009]. Материалы карагай-аульского этапа явно отражают двухкомпонентность восточного варианта иткульской культуры. На поселении с двухчастной структурой сосуществуют и взаимодействуют потомки носителей бархатовских и гамаюнских керамических традиций. Вак-куровский этап, датируемый VI в. до н.э.,— завершающий в развитии иткульской культуры в Нижнем Притоболье. К нему отнесены материалы 18 памятников, обнаруженных преимущественно в междуречьях Тобола и Тапа, Туры и Пышмы, на озерах Ипкуль и Байрык, в долине Исети. Памятники расположены преимущественно в подтаежной зоне Притоболья. На вак-куровском этапе сохраняется традиция сооружения слабоукрепленных круглых и овальных кольцевых поселений, одно из них — двухплощадочное, с примыкающими друг к другу площадками (Вак-Кур 2), повторяет конфигурацию поселков предыдущих этапов. Площади городищ 23 В.А. Зах варьируются от 2500 до 12 000 м2. Системы в расположении построек на укрепленных площадках уже не прослеживается. Значительное количество сооружений вынесено за пределы укреплений. Появляется множество неукрепленных поселков, состоящих также из построек наземного типа. На вак-куровском этапе продолжают сооружать жилища наземного типа каркасностолбовой конструкции без котлованов. На городище Вак-Кур 2 исследованы три таких постройки площадью от 30 до 70 м2, окруженные ямами-карьерами, с наземными очагами в виде пятен слабо прокаленной супеси. В инвентаре вак-куровского этапа — большое количество керамических скребков на обломках посуды, применявшихся для обработки шкур и дерева, немногочисленные пряслица. Обнаружены также вещи, подражающие изделиям, широко распространенным в среде населения скифо-сибирского мира: бронзовые наконечники стрел, гривна, глиняный жертвенник на ножках и блюдо, створка формы для отливки колоколовидного изделия. Основная часть посуды обнаруживает большое сходство с керамикой Карагай Аула 1/Б. Ваккуровская керамика, так же как и карагай-аульская, тонкостенная, с небольшим содержанием песка. Сосуды хорошо и слабо профилированные, с достаточно низкой или средней высоты шейкой, круглодонные. Крупные экземпляры имеют несколько зауженные пропорции придонной части. В среднем до 30 % сосудов в комплексах орнаментированы только ямками или жемчужинами по шейке и рядом оттисков уголка или одним-тремя рядами вдавлений, часто аморфной формы, на плечике. На остальных сосудах узор составляют сочетания ямок или жемчужин и рядов наклонных оттисков гребенчатого штампа на шейке и один-два ряда разнонаклонных оттисков гребенчатого штампа на плечике. На вак-куровской посуде на горловину чаще наносились ямки, чем жемчужины, зафиксировано их чередование, на карагай-аульской посуде не отмеченное. При близких морфологических характеристиках керамики, сосуды с дуговидно выгнутыми шейками встречены лишь в вак-куровском комплексе, и только в постройках за пределами укрепленной площадки [Зимина, Зах, 2009]. В дальнейшем на территории Притоболья исчезают слабо укрепленные обширные кольцевые городища. Жилища наземного типа сменяются углубленными в грунт постройками, складывается баитовский керамический комплекс. Однако, полагаем, переходный период продолжается. В его рамках рассматриваем, скорее всего, генетически преемственные вак-куровским баитовские комплексы, на основе которых впоследствии, видимо, формируются гороховские. Переходное время в Нижнем Притоболье заканчивается, на наш взгляд, с появлением в конце V — IV в. до н.э. комплексов гороховской и саргатской культур, например на городище Калачик 1 [Зах В.А., Зах Е.М., 1993]. Таким образом, очевидно, что периоды трансформаций, или переходные периоды, соотносятся с глобальными климатическими изменениями, в рассмотренных случаях — с аридными и гумидными фазами голоцена. Климатическая и ландшафтная перестройка в пределах лесостепной полосы Северной Евразии провоцировала при аридизации миграционные потоки населения в северном и восточном направлениях, на неподверженные еще засухам территории, а при гумидизации — на юг и запад. С миграцией населения из экономически развитых районов в Западную Сибирь приносились гончарное производство, металлургия и металлообработка, скотоводство и зачатки земледелия. Миграции северного населения в гумидные климатические фазы приводили к возвращению присваивающего хозяйства, забытых в лесостепи технологий каменного производства, в социальной сфере — к укреплению родовых отношений. Миграции вели к смешению, гибридизации населения и культур, механизм которых заложен в экзогамии. В связи с ассимиляционными процессами в течение достаточно короткого времени происходили изменения в материальной культуре, что проявлялось в быстрой смене этапов развития культур в переходные периоды. Это хорошо прослеживается в материалах боборыкинской, коптяковской и иткульской культур. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Абрамова М.Б., Стефанов В.И. Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в районе новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 103−130. Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. Ташкент: Изд-во «Фан» УзССР, 1991. 200 с. Бадер О.Н. Уральский неолит // МИА. 1970. № 166. С. 157−171. Бельтикова Г.В. Иткульские поселения // Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1977. С. 119–133. 24 Периоды трансформаций в истории древних обществ Тоболо-Ишимья в голоцене Бородовский А.П. К вопросу о керамике, имитирующей швы кожаной посуды (по материалам курганной группы Быстровка 1) // Археологические памятники лесостепной полосы Западной Сибири. Новосибирск: НГПИ: МП РСФСР, 1983. С. 51–56. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Горащук И.В., Зайберт В.Ф. Поселение Ук 6 и проблемы боборыкинской культуры // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург, 1993. С. 22−23. Викторова В.Д. Погребальные комплексы на острове Каменные палатки // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. Вып. 4. С. 95–107. Вискалин А.В. Пути неолитизации Волго-Камья (к постановке вопроса) // Твер. археол. сб. Тверь: Издво ТГОМ, 2002. Вып. 5. С. 274–283. Данченко Е.М. Южнотаежное Прииртышье в середине — второй половине I тыс. до н.э. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1996. 212 с. Дрябина Л.А. Каменная индустрия поселения Мергень 5 // Древняя и современная культура народов Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1995. С. 3−11. Зах В.А. К вопросу о боборыкинской культуре // Роль Тобольска в освоении Сибири. Тобольск, 1987. С. 11−13. Зах В.А. Неолит лесостепной полосы Западной Сибири // Аборигены Сибири: Проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 19–20. Зах В.А. Развитие общности культур с гребенчато-ямочной керамикой // Вестн. археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2004. № 5. С. 4–12. Зах В.А. К проблеме неолитизации Западной Сибири // AB OVO: Проблемы генезиса культуры. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. С. 60−70. Зах В.А. К вопросу о формировании баитовских комплексов в Притоболье // Вестн. археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2007. № 8. С. 55–63. Зах В.А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с. Зах В.А. О формировании федоровской культуры (по материалам Нижнего Притоболья) // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. СПб.; М.; Вел. Новгород, 2011. Т. 1. С. 220‒222. Зах В.А. Коптяковская культура в Нижнем Притоболье // Вестн. археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2012. № 2 (17). С. 29–40. Зах В.А., Зах Е.М. О культурно-исторической ситуации в Нижнем Притоболье на рубеже бронзового и раннего железного веков // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург, 1993. С. 61−62. Зах В.А., Зимина О.Ю. Об ареале иткульской культуры // Проблемы взаимодействия человека и природной среды. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2004. Вып. 5. С. 103–106. Зах В.А., Зимина О.Ю., Рябогина Н.Е. Радиоуглеродные даты археологических и природных комплексов Тоболо-Ишимья (по материалам Тоболо-Ишимской экспедиции ИПОС СО РАН) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. № 1 (14). С. 219‒233. Зах В.А., Иванов С.Н. Комплекс эпохи бронзы многослойного поселения Чепкуль 20 на севере Андреевской озерной системы керамикой // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2007. № 7. С. 12–21. Зах В.А., Илюшина В.В. Позднебронзовый могильник Чепкуль 5 в Нижнем Прито-болье // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. № 1 (14). С. 20–29. Зах В.А., Скочина С.Н. Каменное сырье комплексов Тоболо-Ишимья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2010. № 2 (13). С. 4−11. Зимина О.Ю. Иткульская культура в Нижнем Притоболье (восточный локальный вариант): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2006. 22 с. Зимина О.Ю., Зах В.А. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков. Новосибирск: Наука, 2009. 232 с. Зимина О.Ю., Мыльникова Л.Н. Керамика восточного варианта иткульской культуры (по материалам памятников Юртоборовского археологического микрорайона в Нижнем Притоболье) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. № 4 (28). С. 96−114. Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Комплекс поздней бронзы и перехода к раннему железному веку городища Усть-Утяк 1 (по материалам исследований 2002−2003 г.) // Этнические взаимодействия на Южном Урале: Материалы II Регион. науч.-практ. конф. Челябинск, 2004. С. 73−76. Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Материалы переходного времени от бронзы к железу городища Усть-Утяк 1 (по результатам исследований 2002–2004 гг.) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2006. № 7. С. 76−86. Ковалева В.Т. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. 80 с. Кокшаров С.Ф. Хронология памятников бронзового века р. Конды // ВАУ. 1991. Вып. 20. Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: Человек и природная среда. М.: Наука, 1991. Косинская Л.Л. Неолит севера Западной Сибири: Генезис и связи // Твер. археол. сб. Тверь: Изд-во ТГОМ, 2002. Вып. 5. С. 215−223. 25 В.А. Зах Кузьмина Е.Е. Могильник Туктубаево и вопрос о хронологии памятников федоровского типа на Урале // Проблемы археологии Урала и Сибири. М.: Наука, 1973. С. 153−164. Матвеев А.В. Зауралье в конце бронзового века и распад андроновского единства // Наука в Тюмени на рубеже веков. Новосибирск: Наука, 1999. С. 93−124. Матвеев А.В., Аношко О.М. К проблеме хронологической дифференциации бархатовских древностей // Проблемы взаимодействия человека и природной среды. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. Вып . 2. С. 29−32. Матвеева Н.П. Начальный этап раннего железного века в Тоболо-Ишимской лесостепи // Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1989. С. 77–102. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: Наука, 1982. 150 с. Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 200 с. Молодин В.И. Этногенез // История и культура хантов. Томск: Изд-во ТГУ, 1995. С. 3−44. Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. Оренбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 222 с. Полеводов А.В. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2003. 22 с. Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск, 1987. 144 с. Сальников К.В. Основные итоги и проблемы археологического изучения Южного Урала // ВАУ. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1961. Вып. 1. С. 48–52. Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с. Сериков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьминых С.В., Стефанов В.И. Шайтанское Озеро 2: Новые сюжеты в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2. С. 67–78. Сладкова Л.Н. Предварительные итоги полевых исследований 1988, 2003, 2004 гг. на Чертовой Горе в Кондинскои районе ХМАО — Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2007. Вып. 4. С. 153–161. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.: Наука, 1980. 220 с. Тимофеев В.И. Некоторые проблемы неолитизации Восточной Европы // Твер. археол. сб. Тверь: Изд-во ТГОМ, 2002. Вып 5. С. 209−214. Троицкая Т.Н. Завьяловская культура и ее место среди культур Западной Сибири // Западная Сибирь в древности и средневековье. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1985. С. 54–68. Троицкая Т.Н., Зах В.А., Сидоров Е.А. Новое о завьяловской культуре // Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков. Тюмень, 1989. С. 103−116. Труфанов А.Я. О специфике миграционных процессов в пределах гамаюно-молчановской общности // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 84−87. Тюрки таежного Причулымья: Популяция и этнос / Э.Л. Львова, В.А. Дремов, Р.М. Бирюкович и др. Томск: ТГУ, 1991. 246 с. Усачева И.В. «Утюжки» Евразии как исторический источник: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2007. 23 с. Федорова Е.Г. Берестяная утварь народов Сибири: Конец XIX — первая половина XX века // Памятники материальной культуры народов Сибири. СПб.: Наука, 1994. С. 231. Федорова Е.Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: Проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб.: Европейский Дом, 2000. 365 с. Тюмень, ИПОС СО РАН viczakh@mail.ru The paper considers some aspects of main «chronological» transition periods: from the Mesolithic to Neolithic Age, and from the Bronze to Early Iron Age, as well as a transition from an appropriating economy to a productive one, in particular, to cattle breeding in the forest Low Tobol area. What happened during these periods was a climatic and landscape modification, provoking in the case of aridization, migration streams of the population to the north and east directions, while in the case of humidization — to the south and west. In the transition time, alongside with migration of the population there were new technologies — pottery industry, metallurgy, and metalworking cattle breeding and early stages of farming — that were brought from the economically developed territories into West Siberian areas. In its turn, migrations of the northern population into humid climatic phases brought back an appropriating economy and technologies of stone industry forgotten in the forest steppe, while in the social sphere it was accompanied by strengthening of tribal relations. Due to assimilation processes certain changes took place in the material culture within quite a short period of time, which manifested in a quick change of cultural development stages during those periods. Transition period, migration, neolitization, pottery industry, cattle breeding, metallurgy, metalworking, assimilation. 26 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) ПЕРВЫЙ МЕТАЛЛ КОНДЫ С.Ф. Кокшаров Рассмотрены предметы из металла, обнаруженные на ранних и поздних поселениях полымьятского типа в бассейне таежной р. Конды. Взятые вместе с технологической керамикой они отражают начальный этап бронзового века на севере Западной Сибири и маркируют сложение местного металлообрабатывающего очага в районе, лишенном собственного рудного сырья. Морфологические особенности изделий и состав примесей позволяют наметить происхождение и возможные пути поступления металла на север обозначенного региона, а также наметить прямые и опосредованные связи кондинского населения со своими соседями в досейминское время. Стратиграфия, облик керамической посуды и сопутствующего инвентаря, 14С-даты, остатки металлопроизводства ранних и поздних полымьятских памятников Конды позволяют установить их хронологическую позицию в типологохронологической схеме энеолита — позднего бронзового века Конды. Разработанная шкала не согласуется с концепцией сейминско-турбинских (СТ) миграций на север региона и исключает культуртрегерскую роль СТ популяций в становлении местного металлопроизводства. Бассейн р. Конды, ранние и поздние поселения полымьятского типа, бронза, медь, олово, мышьяк, серебро, нож, подвеска-лунница, шило, гаринско-борские поселения, одиновско-крохалевская керамика, керамика варпаульского типа, абашевская культура и общность, синташтинская культура, петровская культура, сейминско-турбинский металл, Галичский клад. Введение Река Конда — крупный левый приток Нижнего Иртыша — имеет протяженность ~1200 км [Боч, 1937, с. 96] при площади водосбора почти 70 000 км2 [Козловский, 1933, с. 179]. Лишь 15 % этой территории представляют участки суши, остальные 85 % — озера и болота на поверхностях пойменных террас [Боч, 1937, с. 103]. Обилие проточных и глухих (бессточных) озер позволило сравнить Кондинский край со страной тысячи озер — Финляндией [Шульц, 1926, с. 21]. Бассейн реки расположен в Приуральской части Западной Сибири, в северной части Кондинской низменности, и занимает срединное положение по отношению к рр. Северной Сосьве, Тавде, Туре, Нижней Оби и Иртышу. Северная часть бассейна, где расположены истоки Конды и ее левые притоки рр. Мулымья, Бол. Тап и Юконда, лежит в области моренных флювиогляциальных отложений [Козловский, 1933, с. 179] на южных склонах Северососьвинской возвышенности. В среднем и нижнем течении Конды рельеф более спокойный. Это обширная аллювиальная или озерно-аллювиальная равнина, сложенная слоистыми песчаными и глинистыми отложениями, которая нарушается местами невысокими гривами водно-эррозионного происхождения. Территория входит в самую большую по площади природную зону Западной Сибири — лесоболотную. Если истоки и устье реки находятся в подзоне средней тайги, то среднее течение — в южно-таежной подзоне. К настоящему времени Кондинский край неплохо изучен в археологическом отношении и примечателен тем, что здесь обнаружены наиболее ранние следы металлопроизводства на северо-западе Сибири. Они связаны с поселениями полымьятского типа и включают технологическую керамику (тигли, литейные формы, сопло), ошлакованные фрагменты бытовой посуды и небольшое число металлических предметов. Эти материалы отражают прямые и опосредованные связи, установившиеся в бронзовом веке между кондинским населением и его соседями, которыми оставлены металлоносные культуры по обе стороны от Уральских гор. В предлагаемом исследовании рассмотрены предметы из металла, найденные на ранних и поздних полымьятских памятниках. Источники Интересующие нас артефакты (изделия, обломки, капли) обнаружены при раскопках верхнекондинских поселений — Геологическое III и XVI1, расположенных в ~1 км друг от друга, на 1 Перечень можно было бы дополнить каплями металла, обнаруженными Г.П. Визгаловым при изучении раннего полымьятского поселения Лева VIII (см.: [Визгалов, 1986, с. 29, 31]), но информация о составе найденного металла не публиковалась. 27 С.Ф. Кокшаров правом берегу р. Эсс, в Советском районе ХМАО — Югры Тюменской области [Кокшаров, 2009, с. 31–32, 59]. С Геологического III происходят 6 находок, распределенных на памятнике следующим образом: раскоп I — 1 экз., раскоп III — 2 и раскоп IV — 3. С поздним полымьятским жилищем, исследованным в раскопе I, связан обломок бронзового двулезвийного ножа [Морозов, 1986, с. 26] (рис. 1, 4). Его длина 71 мм, максимальная ширина 22 мм, толщина 4 мм. На одной из плоскостей отчетливо видно ребро, правда, небольшой его участок (~5 мм) раскован в месте максимального расширения клинка. Возможно, подработка обеспечивала более надежное крепление изделия в рукояти. Рис. 1. Металлические предметы с поселений Геологическое III (2, 4–5, 7) и XVI (остальное) Из раскопа III происходят пластина и раскованный стержень из меди [Кокшаров, 1987, с. 13]. Пластина (рис. 1, 7) обнаружена на полу раннеполымьятского жилища 4. Она имеет прямоугольную форму, ее размер 33×23–28×3 мм. Россыпь мелких кусочков раскованного стержня собрана на уч. Н/10 (ур. -27 см) в межжилищном пространстве раскопа III. Учитывая данное обстоятельство, предмет можно соотнести как с жилищем 4, так и с жилищем 6, с которым связан комплекс поздней полымьятской керамики. В раннем полымьятском жилище, изученном в раскопе IV, найдены украшение, шило и раскованная капля меди [Кокшаров, 1987, с. 15, 18; 2011б, с. 75, 87]. Украшение в виде подвески-лунницы (рис. 1, 2) обнаружено при разборке очага-кострища жилища. Изделие имеет серповидную форму, снабжено отверстием, просеченным пластинчатым пробойником (ножом?). С внешней стороны серпа, почти над отверстием, находится небольшой прямоугольный выступ. Размер поделки 27(?)×6×1 мм. 28 Первый металл Конды Шило (рис. 1, 5) представляет собой стержень длиной 89 мм. Круглое в сечении острие имеет диаметр 2 мм, а насаду, обработанному ковкой, придана прямоугольная форма, его размер 45×25 мм. Раскованная капля в коллекции находок отсутствует, но из табл. 1 можно получить представление о химическом составе пролитого металла2. В раскопе I раннеполымьятского поселения Геологическое XVI найдены пронизка и две небольшие пластинки [Кокшаров, 2002, с. 16, рис. 37, 1–3]. Пронизка лежала в яме III среди скопления керамических грузил для сети в виде палочек кругло-овального сечения. Возможно, здесь была брошена мережа, к которой крепился металлический предмет. Он представляет собой трубочку из свернутой пластинки металла размером 12×3,5–4×1 мм (рис. 1, 1). Обе пластинки обработаны ковкой. У одной из них «рваные» края и прямоугольное поперечное сечение. Ее размер 16×12×3 мм (рис. 1, 3). Другая, подтреугольной формы, имеет клиновидное поперечное сечение, ее размер 21×10×3,5 мм (рис. 1, 6). Не исключено, что это обломки более крупных орудий. Обсуждение материалов Из перечисленных находок повышенный интерес могут представлять обломок ножа и украшение. Морфологическое своеобразие последних позволяет наметить параллели среди древностей сопредельных и весьма отдаленных территорий. Что касается пронизки и шила, то они относятся к массовому материалу, характерному для памятников эпохи раннего металла. Вместе с тем независимо от типологической выраженности и сохранности находок состав микропримесей, содержащихся в металле, позволяет наметить его возможное происхождение. Рассмотрим предметы более детально. Нож. О его первоначальной форме судить сложно. Нельзя сказать ничего определенного о черешке (разумеется, если таковой имелся) и оформлении перехода от лезвия к насаду. Между тем эти детали весьма существенны для определения типа и относительного возраста орудия. Нож с Геологического III отличает такая морфологическая особенность, как асимметричность, проявляющаяся в наличии продольного ребра жесткости на одной из сторон лезвия. Ребро указывает на особенности изготовления предмета, в частности на отливку орудия в односторонней форме, имевшей, вероятно, плоскую крышку. В результате лезвие приобрело треугольное поперечное сечение, а не ромбическое, как, например, у абашевских (баланбашских) и срубно-андроновских ножей, образующих представительные серии [Черных, 1970а, рис. 56– 58; 1978, с. 75, рис. 10, 8, 34, 49, 52 и др.; Черных, Кузьминых, 1989, с. 95]. Если мы имеем дело не с локальным своеобразием, то морфологическая особенность изделия с Геологического позволяет рассматривать его в качестве орудия переходного типа от ножей с пластинчатым и линзовидным сечением клинка к таковым с ромбическим сечением лезвия. Не исключено, что по мере накопления источников эта деталь будет рассматриваться в качестве хронологически значимого признака. В поиске параллелей публикуемой находке пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие детальных описаний находок и низкое качество рисунков, приводимых в археологических публикациях. Последнее проявляется в небрежности прорисовки поперечных профилей клинков или полном отсутствии таковых. Проведенная работа все же дала результаты. Выяснилось, что асимметричные ножи присутствуют на ряде памятников синташтинской культуры. Двулезвийный нож с игловидным черешком и односторонним ребром по лезвию, имеющему в поперечном сечении треугольную форму, найден в большом Синташтинском грунтовом могильнике. А.Д. Дегтярева отнесла его к ножам первого типа [2010, с. 103, рис. 46, 7], хотя в первой публикации находка атрибутирована как наконечник дротика [Генинг и др., 1992, с. 219, рис. 105, 7]. Бронзовый двулезвийный нож с намечающимся перекрестием и ромбической пяткой черенка, с продольным ребром на одной из плоскостей лезвия происходит из погребения 17 кургана 7 могильника Танаберген II [Ткачев, 2007, с. 22, рис. 5, 1]. В.В. Ткачев отнес его к типу 1-1 [Там 2 Спектральный анализ металла проведен в лаборатории естественно-научных методов ИА РАН к.и.н. С.В. Кузьминых, которому я благодарен за переданные сведения. 29 С.Ф. Кокшаров же, с. 182, 184, рис. 54, 2]. Он же приводит рисунок еще одного двулезвийного ножа, из погребения 6 кургана 1 могильника Жаман-Каргала I. Орудие имеет удлиненное острое лезвие и асимметричную форму из-за одностороннего ребра. В поперечном сечении клинок треугольной формы [Там же, с. 56, рис. 26, 5]. Предмет отнесен к ножам типа 3-2 [Там же, с. 184, рис. 54, 4]. Разночтения возникают при выяснении морфологических деталей бронзового ножа из могилы 12 кургана 2 могильника Каменный Амбар-5. А.Д. Дегтярева сочла возможным отнести его к пятому типу ножей синташтинской культуры, подчеркнув наличие у изделия продольного ребра, проходящего от черенка до кончика лезвия [2010, с. 106, рис. 48, 6]. Однако в прорисовке автора раскопок А.В. Епимахова поперечное сечение лезвия и черешка — линзовидные [2005, с. ил. 42, 1]. А.Д. Дегтярева приводит рисунок двулезвийного ножа с односторонним ребром из погребения 6 кургана 10 могильника Кривое Озеро [2010, с. 101, рис. 43, 7]. Орудие снабжено выделенной прямой рукоятью и получено из полосы-заготовки в процессе формообразующей ковки. При этом была произведена вытяжка, заострение рабочей части и плющение рукояти. Предмет отнесен к двулезвийным ножам с прямой рукоятью и клинком листовидной формы. Правда, из описания остается неясной причина появления ребра жесткости: возникло оно в процессе ковки или было оформлено при литье в соответствующей матрице. Химический состав металла, использованного при изготовлении ножа с Геологического III, также не противоречит намеченным параллелям в синташтинской культуре. Это трехкомпонентный сплав на основе меди с такими легирующими добавками, как Sn и As (табл. 1). Они относятся специалистами к оловянно-мышьяковым бронзам, в которых второй компонент всегда уступает первому [Черных, Кузьминых, 1989, с. 167]. Таблица 1 Результаты спектрального анализа металла с поселения Геологическое III 1 Шифр образца 37191 2 37192 3 38343 4 38344 5 38345 6 38346 7 38347 8 38348 9 38349 10 38350 11 38351 12 38352 № Предмет Cu Sn Pb Zn Обломок ножа (раскоп I, жил. 1) Пластина (раскоп III, жил. 3) Раскованная капля (раскоп IV, жил. 1) Cтержень (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Обломок стержня (раскоп III, уч. И/10) Лунница (раскоп IV, жил. 1) Шило (раскоп IV, жил. 1) Осн. 1,5 0,002 — 0,0005 0,29 0,021 0,24 Осн. 0,0007 0,0007 — 0,0005 0,13 Осн. 0,016 Bi Ag Sb — As Fe Ni Co Au 0,0005 0,001 — 0,002 0,0005 0,0003 — 0,001– 0,003 — 0,013 0,0046 0,0003 0,13 0,073 0,0079 0,0062 0,0039 0,0017 0,0006 Осн. 0,0072 0,002 0,0012 — 0,23 — 0,0017 0,0016 0,0021 0,0011 0,0064 Осн. 0,0026 0,0047 0,0009 — 0,43 — 0,0021 0,0037 0,0007 0,0011 Осн. 0,0055 0,0002 0,001 — 0,27 — 0,0011 0,0006 0,0016 0,0014 0,0058 Осн. 0,0009 0,0002 0,0008 — 0,27 — 0,0017 0,0023 0,0004 0,0011 0,0064 Осн. 0,0004 0,0012 0,0009 — 0,35 — 0,0021 0,046 0,0006 0,0014 0,0058 Осн. 0,0011 0,0002 0,001 — 0,27 — 0,0017 0,0012 0,0017 0,0011 0,0053 Осн. 0,0003 0,0007 0,0009 — 0,27 — 0,0021 0,12 0,0007 0,0011 0,0053 0,073 0,0021 0,01 0,0003 0,0011 0,0022 Осн. 0,0055 0,15 0,001 0,0003 1,6 Осн. 0,001 0,0007 0,002 0,0003 0,058 0,017 0,0017 0,012 0,0016 0,0011 0,007 — В зависимости от количества олова и мышьяка в медных соединениях специалисты различают низко-, средне- и высоколегированные сплавы. Так, например, в качестве нижнего порога среднелегированных оловянных бронз рассматриваются сплавы, в которых доля олова не превышает 3,6 % [Дегтярева, Кузьминых, 2011, с. 37, 42]. Говоря о мышьяке, А.Д. Дегтярева относит к низколегированным соединениям такие, в которых его примесь не более 1,5 % [2010, с. 83, 87–88]. Вместе с тем концентрации мышьяка > 0,20–0,25 % статистически определяются в качестве нижнего порога оловянно-мышьяковых сплавов [Дегтярева, Кузьминых, 2011, с. 39]. А.Д. Дегтярева, изучившая 95 предметов из синташтинских могильников Синташта II, Кривое 30 Первый металл Конды Озеро, Каменный Амбар 5 и Герасимовка 2, установила, что группа оловянно-мышьяковых бронз в ней весьма невелика и представлена четырьмя предметами: ножом, двумя браслетами и иглой (4,2 % от общего числа). Судя по приведенным данным, концентрация Sn варьируется в интервале 0,4–6,5 %, а As — 0,12–2,2 % [Дегтярева, 2010, с. 87 и табл. 10]. По содержанию олова и мышьяка — 1,5 и 0,24 % соответственно — кондинский нож укладывается в обозначенный диапазон. Вместе с тем оловянно-мышьяковые бронзы присутствуют не только в синташтинских, но и в петровских и сейминско-турбинских (далее — СТ) коллекциях. При обработке 65 предметов с поселения петровского (или петровско-алакульского) типа Кулевчи 3 установлено, что комплексные оловянно-мышьяковые сплавы здесь также немногочисленны и занимают подчиненное положение. Они представлены четырьмя изделиями (6,2 %), что объясняется специалистами ориентацией металлургов на южно-уральские, северо- или центрально-казахстанские источники сырья. Концентрации олова в соединениях варьируются от 2,2 до 6 %, мышьяка — от 0,6 до 1,5 %, при обязательном условии, что примесь последнего > 0,2 % [Дегтярева и др., 2001, с. 24, 34, табл. 7]. Металл, использованный для ножа с Геологического III, содержит меньшую примесь олова, но, с другой стороны, по нижнему порогу мышьяка почти сопоставим с кулевчинским. Несмотря на неполное соответствие по составу металла, выстраиваемая параллель с петровскими древностями представляется перспективной. Дело в том, что с Кулевчей 3 происходит один любопытный предмет — тесло с продольным ребром жесткости на одной из плоскостей. Специалисты особо отмечают его асимметричность, приданную изделию не литьем, а ковкой. С одной стороны, эта деталь выделяет орудие в большой серии евразийских тесел эпохи раннего металла [Дегтярева и др., 2001, с. 27, рис. 2, 13], а с другой, несомненно, сближает с рассмотренными ножами синташтинской культуры и публикуемой находкой с Геологического III. Характеризуя СТ металлопроизводство, Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых предложили рассматривать Cu + Sn + As и Сu + Sn бронзы в ряде случаев как родственные, противостоящие иным сплавам, в которых характер легирующих примесей (искусственный или естественный) до конца не ясен [1989, с. 170]. Из 353 образцов СТ металла к оловянно-мышьяковым сплавам отнесены 83 (или 23,5 %) находки [Там же, с. 166, табл. 9, рис. 90]. Однако представительность последних не является достаточным основанием для отнесения кондинского ножа к СТ вещам. Дело в том, что в опубликованных сводках СТ ножей и кинжалов нет ни одного изделия с асимметричным лезвием [Там же, рис. 51, 53–58, 60–68]. Впрочем, если придерживаться культурологической модели СТ феномена, предложенной Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, этот факт не должен удивлять. Стремительно продвигавшееся СТ население — носитель передовых для своего времени технологий в производстве металлических орудий и оружия — не могло столь быстро утратить своего мастерства и отказаться от выработанных стереотипов, перейдя к изготовлению более простых и примитивных изделий, подобных кондинскому. Замечу, наконец, что С.В. Кузьминых, проводивший спектроаналитическое исследование ножа с Конды, допускает как алтайское, так и центрально-казахстанское происхождение металла [Кокшаров, 2011б, с. 88]. Несмотря на значительную удаленность поселения Геологическое III от Южного Урала и Северного Казахстана, правомерность выстраиваемых синташтинско-петровских параллелей подкрепляется неожиданно еще одной категорией археологического материала — керамической посудой. Обломок ножа найден в жилище, изученном в раскопе I, откуда происходят 17 сосудов позднего полымьятского облика. Среди них выделяются две емкости, сформованные по необычной для этих мест технологии — на шаблонах в виде опрокинутых горшков, т.е. по схеме, популярной прежде всего среди синташтинских и петровских гончаров [Зданович, 1983, с. 61, 65; Кузьмина, 1994, с. 108; Гутков, 1995, с. 139, 140, рис. 2, 1, 2 и др.]. Примечательно, что подобный способ лепки керамики совпадает в бассейне Конды с бытованием поздних полымьятских памятников [Кокшаров, 2011а, с. 178]. Он не отмечен на архаичной полымьятской посуде, а также позднее, в варпаульских комплексах сейминско-андроновского времени (Ленино I, Сатыга XVI). Для позднего полымьятского комплекса Геологического III получена 14С-дата по костям северного оленя — 3510±110 л.н. Ее калиброванные значения составляют 1980–1690 ВС (68,2 %) и 2150–1500 BC (95,4 %) (Le-8039). Эти данные также не противоречат полученным выводам и позволяют синхронизировать поздний полымьятский комплекс Геологического III и связанный с 31 С.Ф. Кокшаров ним бронзовый нож с синташтинско-аркаимскими и петровскими памятниками. Таким образом, правомерно отнесение кондинских древностей к начальной фазе позднего бронзового века (ПБВ-1) [Кокшаров, 2011б, с. 88]. Подвеска-лунница (рис. 1, 2) имеет очень условное сходство с предметами, найденными на гаринско-борских3, волосовских и катакомбных памятниках (рис. 2, 2–5, 7). Однако в типологическом отношении она ближе всего к подвескам из Галичского клада. Правда, и в этом случае не приходится говорить о полном тождестве сравниваемых изделий. Коллекция металлических предметов, известная под собирательным названием «Галичский клад», найдена у с. Туровское Костромской области. А.А. Спицын и В.А. Городцов первыми обратили внимание на присутствие среди вещей больших ланцетов с двумя изогнутыми остриями (рис. 2, 6, 8). Впоследствии С.В. Студзицкая и С.В. Кузьминых отнесли их к подвескамлунницам [2001, с. 128, рис. 2, 1; 4, 15]. Нетрудно заметить, что находки Галича и Конды объединяют серповидная форма, наличие отверстий для крепления и симметрично размещенные выступы. Правда, на кондинской луннице выступ прямоугольный и расположен по внешнему контуру «серпа», тогда как на галичских изделиях выступы подтреугольные в виде язычков, помещенные между опущенными концами-лопастями. Наконец, сибирский предмет в разы меньше галичских, длина которых достигает 155–160 мм. Рис. 2. Металлические лунницы с памятников Западной Сибири и Восточной Европы: 1 — поселение Геологическое III, раскоп IV, жилище № 1; 2, 5 — поселения Усть-Паль и Старушка [Бадер, 1964, рис. 122, 11, 12]; 3 — поселение Выстелишна [Бадер, 1961а, рис. 45, 1]; 4 — могильник Чограй II [Chernykh, 1992, fig. 44, 12]; 6, 8 — Галичский клад [Студзицкая, Кузьминых, 2001, рис. 2, 1; 4, 15] Проблема культурной принадлежности Галичского клада, тесно связанная с определением его возраста, неоднократно поднималась в археологической литературе и до сих пор остается нерешенной. Одни археологи настаивают на абашевском облике галичского металла [Сальников, 1967, с. 45–46; Пряхин, Халиков, 1987, с. 128], другие говорят о многокомпонентности коллекции, включающей материалы нескольких культур (абашевской, баланбашской, турбинские древности) [Бадер, 1964, с. 142–143]. Второй взгляд разделял Е.Н. Черных, опиравшийся на результаты спектрального анализа металла. Им определен химический состав шести предметов, отнесенных к группам МП и ТК. По заключению исследователя, металл обеих групп харак3 Нахождение пластинчатых металлических лунниц в Прикамье и на Конде рассматривалось ранее как свидетельство связей восточно-европейского и сибирского населения (см.: [Кокшаров, 1992, с. 15–16]). 32 Первый металл Конды терен исключительно для баланбашской, абашевской культур и отчасти для Турбинского могильника [Черных, 1970а, с. 110–111, табл. XII, ан. 406, 643–647]. Примечательно, что в совместных работах Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, вышедших позднее, клад не фигурирует в списке СТ памятников, а упоминается лишь в связи с распространением единичных изделий СТ типа. К ним отнесен, например, кинжал, рукоять которого украшает голова змеи с открытой пастью [Черных, Кузьминых, 1987, карта 14; 1989, с. 108, 110, 297–298, рис. 62, 3]. В свое время А.А. Спицын указывал на желтый цвет некоторых галичских вещей, в том числе одной лунницы. По предположению С.В. Кузьминых, они могли быть изготовлены из «оловянных и/или оловянно-мышьяковых бронз… восходящих к рудным источникам Алтая или Восточного Казахстана» [Студзицкая, Кузьминых, 2001, с. 138]. Приведенное допущение позволило исследователю дистанцироваться от прежнего взгляда на галичскую коллекцию. По его мнению, присутствие упомянутого кинжала — ярчайшего атрибута воинской элиты, дополненное спектроаналитическим изучением образцов металла, является достаточным основанием для отнесения всего клада к ритуально-культовому комплексу, который «самым естественным образом “вписывается” в воинскую культуру СТ популяций» [Там же, с. 138, 155–156]. В следующей работе галичская коллекция уже интерпретируется как погребение шамана или кенотаф, включающий вещи из шаманского комплекта [Кузьминых, Дегтярева, 2006, с. 233, 237]. В связи с обращением специалистов к химическому составу металла замечу, что кинжал изучался ими дважды и имеет место значительное расхождение полученных данных. Так, например, при повторном исследовании выявлено пониженное содержание в металле таких примесей, как Sn, Pb, Fe, Au, и, напротив, повышенная концентрация As (4 % против 0,85 %) и Ag (0,2 % против 0,03 %) [Черных, 1970а, табл. XII, с. 164, 167, № анализа 643; Черных, Кузьминых, 1989, с. 297, 298, № анализа 35091]. Разумеется, версия С.В. Кузьминых о СТ принадлежности Галичской коллекции и соотнесение последней с шаманской атрибутикой заслуживает внимания. Однако вряд ли она должна рассматриваться как единственная и безальтернативная. Нам никогда не удастся выяснить истинных обстоятельств возникновения уникального «клада». Вместе с тем если допустить, что он включает предметы разных археологических культур, то не исключено его длительное формирование (не одно, а несколько столетий) и присутствие в собрании разновременных вещей. В этом случае он может интерпретироваться, скорее, не как ритуально-культовый комплекс, оставленный сибирскими мигрантами, на чем настаивает С.В. Кузьминых, а в качестве долговременного периодически пополняемого святилища восточно-европейских аборигенов. Для убедительности высказанного тезиса уместно привести пример из сибирской этнографии. Несочетаемое на первый взгляд собрание вещей предстало перед Л.Р. Шульцем, изучавшим в начале XX в. культуру хантов р. Салым (Среднее Приобье). Здесь функционировало святилище, куда приносились разнообразные атрибуты и дары покровителю аборигенов — громовержцу Тохтан ика. В арсенал небожителя попали бронзовый однолезвийный нож с литой рукоятью (почему бы и не СТ или карасукского облика? — С. К.), железный двулезвийный кинжал с долами — желобками для стока крови (похоже, сарматского времени. — С. К.) и русский бердыш XVII в. [Кокшаров, 2000, с. 42–43, рис. 1]. Грудь духа защищал «доспех» в виде оловянного блюда (или таза), а голову покрывали три шапки — нижняя войлочная и верхняя — детский суконный картуз. Почитатели оставляли на святилище отрезы тканей, русские монеты, жертвовали животных [Шульц, 1924, с. 193–195]. Археологизация подобного объекта и последующие раскопки в месте его расположения при отсутствии информаторов, несомненно, затруднили бы интерпретацию памятника. Приведенный факт позволяет допускать разновременность вещей Галичского собрания и усомниться в гипотезе С.В. Кузьминых о СТ принадлежности археологического памятника. С другой стороны, возникает необходимость решения другой сложной задачи — установления возраста отдельных категорий находок. В полной мере это касается датировки галичских лунниц. Вместе с тем подвеска с Геологического III, имеющая типологическую близость с последними, ни в коем случае не может быть соотнесена и синхронизирована с СТ древностями. На возраст кондинского украшения указывают материалы раскопа IV. Выше отмечалось, что изделие лежало в заполнении очага раннеполымьятского жилища 1. Западная часть последнего разрушена ямой, в которой находился сосуд позднего полымьятского облика. Примечательно, что он изготовлен на горшке-шаблоне [Кокшаров, 2011б, с. 79, рис. 2, 10], т.е. по тех33 С.Ф. Кокшаров нологии, распространенной среди синташтинских и петровских мастеров. Прослеженная стратиграфия исключает отнесение подвески-лунницы к позднеполымьятскому керамическому комплексу поселения Геологическое III, который должен быть синхронен аркаимо-синташтинским и петровским памятникам. С другой стороны, возраст раннеполымьятских объектов р. Конды устанавливается по неоднократным случаям перекрывания ими слоев с керамикой волвончинского типа позднего энеолита, присутствию в ранних полымьятских коллекциях сосудов с псевдотекстильными отпечатками, что сближает их с одиновско-крохалевскими материалами, и одной дате по 14C — 4080±90 л.н. (Le-7104), полученной по костям животных с поселения Геологическое XVI. Таким образом, раннеполымьятские керамические комплексы и связанную с ними лунницу следует датировать началом бронзового века по региональной периодизации и синхронизировать с памятниками средней бронзы Восточной Европы [Кокшаров, 2006, с. 49; 2011б, с. 86]. С этим выводом согласуется химический состав металла подвески, в котором отмечено повышенное содержание серебра (1,6 %)4. Сейчас сложно судить о том, является ли это соединение естественным, т.е. обусловленным изначально высоким содержанием в медной руде благородного металла (на это, правда, может указывать также сопутствующий ему Pb), или искусственным сплавом — бронзой, полученной древним литейщиком путем соединения двух исходных компонентов — меди и серебра. Вероятно, подобные соединения имеют в виду Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, когда ведут речь о сплавах с неясным характером легирующих примесей [1989, с. 170]. По причине исключительной редкости медно-серебряных и серебряных изделий на археологических памятниках бронзового века севера Западной Сибири следует обратиться к материалам сопредельных территорий, на которых они известны с древности. Медно-серебряные сплавы производили металлурги, которые в равной степени были знакомы с месторождениями меди и серебра. В археологической литературе неоднократно указывалось на присутствие серебра в некоторых медных месторождениях Урала и происхождение Cu + Ag и Ag + Cu сплавов связывалось с Уральской горно-металлургической областью [Тихонов, 1960, с. 8–10; Черных, Кузьминых, 1987, с. 95]. По мнению Е.Н. Черных, близкие характеристики серебра, входящего в состав турбинского и абашевского металла, могут указывать на единый источник сырья у носителей обеих культур [1970б, с. 161]. В этой связи он и его коллеги акцентируют внимание на уникальном месторождении Никольское с высоким, нехарактерным для уральских руд, содержанием серебра. Допускается также, что древние горняки могли разрабатывать в Никольском самородный металл или так называемые «серебросодержащие жилы», из которых выплавлялось серебро с высоким содержанием меди, находимое на баланбашских, абашевских памятниках и Турбинском могильнике [Черных, 1970а, с. 42; 2009, с. 280; Кузьминых, Агапов, 1989, с. 194; Черных, Кузьминых, 1989, с. 172]. Говоря о производстве биллонов, серебра и мышьяковистой меди, специалисты указывают на зауральский абашевский металлургический очаг [Черных, Кузьминых, 1989, с. 172, 220; Студзицкая, Кузьминых, 2001, 4 Иного взгляда на подвеску с Геологического III придерживаются О.Н. Корочкова и В.И. Стефанов, аппелирующие к мнению С.В. Кузьминых. С их слов, московский археолог будто бы не исключает, что медная пластина с посеребрением отнесена к бронзовому веку по недоразумению (см.: [Корочкова, Стефанов, 2011, с. 66]). Приведенная оценка (разумеется, если она не искажена по каким-то причинам О.Н. Корочковой и В.И. Стефановым) действительно выглядит довольно странной и требующей пояснений. Во-первых, заключение о посеребрении должно основываться на металлографическом микроструктурном исследовании предмета, но такой анализ, насколько мне известно, не проводился. Если бы он и состоялся, то вряд ли удалось бы получить искомый результат. Дело в том, что снаружи изделие просто «съедено» зеленью окислов и от поверхностного покрытия серебром — будь оно на самом деле — не осталось бы никаких следов. Во-вторых, вызывает сомнение, что С.В. Кузьминых, проводивший спектральный анализ металла, отнес бы к медным изделие, включающее 1,6 % серебра. В этой связи укажу на еще один сходный по содержанию благородного металла предмет, найденный на поселении Пяку-то I, расположенном почти в 600 км северо-восточнее Геологического III. Это подвеска в 1,5 оборота из медно-серебряного сплава (Ag 2 %), определенного С.В. Кузьминых как бронза (см.: [Косинская, 2010, с. 59, рис. 41, 10]). В-третьих, складывается впечатление, что О.Н. Корочкова и В.И. Стефанов, разделяющие концепцию о культуртрегерской миссии СТ металлургов в распространении металлообработки на севере Сибири, пытаются снизить источниковую значимость найденного предмета, переведя его в разряд второстепенных или спорных в хронологическом отношении. Парадоксальность ситуации придает факт личного участия В.И. Стефанова в раскопках Геологического III в 1986 г., когда была найдена лунница. На тот момент у него отсутствовали какие-либо возражения по поводу составленной мною отчетной документации (см.: [Кокшаров, 1987, с. 18, рис. 51]). 34 Первый металл Конды с. 137]. При таком подходе было бы логично рассматривать медно-серебряную подвеску, найденную на сибирском поселении Геологическое III, в качестве абашевского импорта. Вместе с тем в работах Е.Н. Черныха, опирающегося на 14С-даты, конструируется обширная абашево-синташтинская общность, относимая к первой фазе ПБВ [Черных и др., 2002, рис. 16; Черных, 2007, с. 75, 78, 86, рис. 5.10; 2009, с. 278–279]. Говоря о деятельности мастеров абашево-синташтинских производственных центров, он подразумевает синхронную эксплуатацию ими Никольского рудника и расположенного в 1,5 км от него Таш-Казганского месторождения, руда которого отличается повышенным содержанием мышьяка [Черных, 2007, с. 78, 81, 83–84]. Идея существования данной общности поддержана С.В. Кузьминых, указывающим на абашевосейминское или абашево-синташтинское происхождение металла с повышенным содержанием Ag, из которого выполнена пякутинская подвеска в 1,5 оборота [Косинская, 2010, с. 59]. Правда, в рассуждениях обоих московских археологов не конкретизировано одно очень важное обстоятельство: ведут ли они речь о полной или частичной синхронизации абашева и синташты. Совершенно очевидно их желание рассматривать обе культуры в рамках первой фазы позднего бронзового века, хотя продолжительность или, напротив, скоротечность ПБВ-1 опять-таки не оговаривается. Данный подход представляется излишне прямолинейным, не учитывающим некоторые существенные нюансы. Дело в том, что многие специалисты отводят синташтинским памятникам достаточно узкий временной диапазон [Генинг и др., 1992, с. 376; Горбунов В.С., Горбунов Ю.В., 2010, с. 29; Епимахов, 2010, с. 51; Мочалов, 2010, с. 79; Виноградов, 2011, с. 93–94, 147 и др.], тогда как ситуация с абашевской культурой выглядит диаметрально противоположной [Тихонов, 1978, с. 89– 90; Пряхин, 1980, с. 19–23; Пряхин, Халиков, 1987, с. 125; Ткачев, 2007, с. 245; Кузьмина, 2010, с. 57–58 и др.]. На самом деле хронологическое соотношение абашевских и синташтинских древностей является нерешенной проблемой, поскольку сходство материалов обеих культур оценивается двояко: либо как результат происхождения синташтинских традиций из абашевских, либо как свидетельство их синхронности [Епимахов и др., 2005, с. 93; Виноградов, 2011, с. 7]. Эта тема поднималась и широко обсуждалась на круглом столе, проведенном в 2005 г. в г. Челябинске [Происхождение и хронология…, 2010, с. 133–184]. Один из участников дискуссии, М.В. Халяпин, подготовил соответствующий историографический очерк, в котором изложил основные взгляды по данному вопросу. Речь идет о полной синхронизации памятников (по крайней мере, уральского абашева), либо абсолютном хронологическом приоритете первых над вторыми, либо частичной синхронизации поздних абашевских и синташтинских памятников. Он склоняется к двум последним позициям, подкрепляя свои рассуждения материалами могильника у горы Березовой, где абашевская ограда прорезана синташтинскими могилами [Халяпин, 2010, с. 107–108]. Наблюдения М.В. Халяпина на южно-уральском памятнике, указывающие на разновременность абашевских и синташтинских объектов, получают неожиданное подтверждение в материалах поселения Геологическое III. Если верен вывод об абашевской принадлежности лунницы из Cu + Ag сплава, происходящей из раннего полымьятского жилища в раскопе IV, то факт его прорезания ямой с сосудом позднего полымьятского облика, изготовленным на горшкешаблоне, дает основания для синхронизации поздних полымьятских слоев с синташтинскопетровскими древностями. Выше отмечалось, что данное заключение согласуется также с морфологическими особенностями и химическим составом ножа из позднего полымьятского жилища, изученного в раскопе I поселения Геологическое III. Условия залегания лунницы с Геологического III и особенности состава металла дают основания для отнесения находки к среднему бронзовому веку и очень редкому для данной территории абашевскому импорту. При этом карта распространения абашевского металла в Западной Сибири резко контрастирует с той картиной, которая вырисовывается в Восточной Европе [Пряхин, Халиков, 1987, с. 124]. Изделие из верховьев р. Конды указывает на существование опосредованных трансуральских связей в досинташтинское время, благодаря которым металл и вещи, произведенные абашевскими металлургами и литейщиками, могли поступать даже на север Западной Сибири. В качестве посредников, распространявших эту продукцию, могло выступать население как горно-лесного Урала, с которым связаны объекты карасьеозерского типа [Чаиркина, 2005, с. 297–298, рис. 33; 2011, с. 153–154, рис. 12], так и Прикамья, оставившее гаринско-борские памятники. 35 С.Ф. Кокшаров Пронизка (рис. 1, 1) с Геологического XVI по форме ничем не выделяется среди подобных изделий на многочисленных памятниках бронзового века [Сорокин, 1962, с. 56, табл. XXXVII, 26, XLI, 13–15; Черных, 1970а, с. 73, рис. 62, 29; Потемкина, 1985, с. 227–228, рис. 88, 7; Молодин, 1985, с. 67, рис. рис. 33, 5–6; Матющенко, Синицына, 1988, с. 81, рис. 7, 12; Матвеев, 1998, с. 250–251, рис. 51, 8, 10, 12; 54, 21; Ткачев, 2007, с. 195, 298, рис. 58, 17; Грушин и др., 2009, с. 115, рис. 20, 12–15; Дегтярева, 2010, с. 42, рис. 13, 16–19; и др.]. Вместе с тем значимость данной находки повышается, если принять во внимание ее принадлежность к раннему полымьятскому комплексу поселения, а также состав примесей в металле. Пронизка отличалась от медных пластинок, найденных в том же раскопе, желтым цветом и твердостью. Скорее всего, ее облик и прочность были обусловлены присутствием мышьяка (0,1 %) (табл. 2). Таблица 2 Результаты атомно-эмиссионного спектрометрического анализа металла поселения Геологическое XVI5 № Предмет Cu Sn Pb 1 Пронизка (раскоп I, уч. М/61) Осн. < 0,003 0,06 Bi 0,003 Ag Zn 0,12 0,07 2 Пластина (раскоп I, уч. Л/64) Осн. < 0,003 0,001 < 0,0002 0,1 As 0,1 Sb Fe < 0,005 0,04 Ni 0,01 Co Au < 0,0004 < 0,0001 0,08 < 0,001 < 0,005 0,04 < 0,0002 < 0,0004 < 0,0001 3 Пластина (раскоп I, уч. М/64) Осн. 0,007 0,009 < 0,0002 0,007 0,13 < 0,001 < 0,005 0,005 < 0,0002 < 0,0004 < 0,0001 Е.Н. Черных относит сплавы меди с мышьяком (0,04–2,5 %) — или мышьяковистую медь — к группе ТК и рассматривает их как естественные. По его мнению, сырье для получения этого металла добывалось населением уральской абашевской (баланбашской) культуры на южноуральском месторождении Таш-Казган. Он полагает, что эксплуатация рудника могла прекратиться с концом бытования данной культуры [Черных, 1970а, с. 26, 92, 109–110]. Позже Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых скорректировали взгляд на Cu + As сплавы группы ТК, отнеся их к мышьяковой меди или условным мышьяковым бронзам [Черных, Кузьминых, 1987, с. 93; 1989, с. 172; Черных, 2007, с. 82], и связали эксплуатацию Таш-Казгана с населением абашево-синташтинской общности. В 2010 г. к проблеме атрибуции мышьяковых бронз обратилась А.Д. Дегтярева. Проанализировав существующие мнения, она приняла в качестве нижнего порога легирования As условную величину > 0,1 %, а к низколегированным соединениям отнесла такие, в которых примесь мышьяка не превышает 1,5 % [Дегтярева, 2010, с. 83, 87–88]. Следуя ее выводам, пронизку c Геологического III следует отнести к изделиям из меди с естественным повышенным содержанием мышьяка. Связь предмета с архаичным полымьятским комплексом может являться еще одним свидетельством распространения на северо-западе Сибири металла, произведенного абашевскими металлургами. Пронизка могла попасть сюда теми же путями, что и лунница. Шило (рис. 1, 5) не обладает морфологическими особенностями, выделяющими его среди подобных изделий бронзового века сопредельных территорий [Черных, 1970а, рис. 60, 1–34; Дегтярева, 2010, рис. 58, 1–36, 38–41]. Предмет изготовлен из металлургически «чистой» меди. Для нее обычны микропримеси от сотых до десятитысячных долей и «характерно отсутствие явных признаков легирования посторонними примесями; присутствие химических элементов, чье происхождение в меди должно быть связано либо с их переходом в металл из руд (специалистами предложено обозначение — Cu), либо за счет примешивания к чистой меди некоторого количества бронзового лома» или скрапа (Cu*) [Черных, Кузьминых, 1989, с. 166; Черных, 2007, с. 80; Дегтярева, 2010, с. 27]. Происхождение такого металла установить достаточно сложно, поскольку исходным сырьем для него могла быть руда из различных месторождений. В этой связи обращают на себя внимание окисленные руды с широко распространенными малахитом, азуритом, купритом и даже самородной медью в верхних горизонтах почти всех восточноуральских месторождений Среднего и Южного Урала [Дегтярева, 2010, с. 20–23, рис. 6]. В свое время Е.Н. Черных локализовал к востоку от хребта немногочисленную группу меди без значительных примесей, определенную как ЗаУ (зауральская) [1970а, с. 34, рис. 31; 2007, с. 82]. Однако он отмечал, что разработка зауральских месторождений началась несколько 5 Изучение металла проведено в Институте неорганической химии СО РАН при деятельном участии к.и.н. А.Д. Дегтяревой. Я глубоко признателен ей за предоставленную информацию. 36 Первый металл Конды позже, чем приуральских, приуроченных к многочисленным медистым песчаникам, дававшим «чистую» медь группы МП [Черных, 1970а, с. 122]. На добычу именно этого сырья было ориентировано прикамское население, оставившее памятники гаринско-борской культуры [Там же, с. 34, 108, табл. 5]. Согласно опубликованным данным, с территории Камско-Вятского междуречья происходит ~60 % учтенных находок из металла, из которых 45 % связано с гаринскими объектами, что в разы больше по сравнению с коллекциями с карельских (22 %), волго-окских (15 %) и зауральских памятников [Черных и др., 2011, с. 29, табл. 1]. Не случайно специалисты связывают распространение металла в безрудные районы Восточной Европы с функционированием именно камских мастерских [Там же, с. 29]. Наконец, происхождение металла группы МП может быть напрямую связано с деятельностью ямных горняков, приступивших к разработке южно-уральского Каргалинского месторождения [Черных, 2007, с. 80, рис. 5.6.; Дегтярева, 2010, с. 20–21, 27–28]. Исследования показали, что преобладание меди МП характерно для ранней стадии развития древнеуральской металлургии [Черных, 1970а, с. 122; Кузьминых, 1983, с. 27; Кузьминых, Агапов, 1989, с. 178–197]. В более позднее время ее использование постепенно идет на убыль, но не прекращается совсем [Черных, Кузьминых, 1989, табл. 9]. Так, например, Е.Н. Черных отмечает преобладание песчаниковой меди группы МП на памятниках абашевской культуры (или абашево-синташтинской общности) Поволжья и Приуралья [1970а, с. 34, рис. 26, табл. 5; 2007, с. 82, рис. 5.6.; 2009, с. 251], хотя до сих пор следы деятельности абашевцев на Каргалинском рудном поле не выявлены [Черных, 2007, с. 84]. Результаты атомно-эмиссионного спектрометрического и спектрального анализов металла свидетельствуют, что мастера абашевской и синташтинской культур изготавливали шилья из меди с повышенными концентрациями As [Черных, 1970а, табл. VIII, № 471, 478; Дегтярева, 2010, табл. 10, № 275, 276, 38507, 288, 292, 293, 116, 117, 122, 140, 143, 149, c. 117]. «Чистая» же медь использовалась для производства шильев населением ямной и гаринско-борской культур [Дегтярева, 2010, с. 45, 63, табл. 4, № 042, 050-051, 310, 053, 065; табл. 6, № 305, 27868; Черных, 1970а, табл. XI, № 1493, 1497, 1511, 4583]. Однако из этого вовсе не следует, что изделие с Геологического III имеет ямное происхождение. Выше отмечалось, что раннее полымьятское жилище в раскопе IV, где найдено шило и рассмотренная лунница, должно быть синхронно абашевским древностям досинташтинского времени. Напротив, очень реалистичным выглядит проникновение в бассейн Конды прикамского металла группы МП и изделий из него, произведенных гаринско-борским населением. Во-первых, это обусловлено территориальной близостью рр. Вишеры и Эсса (~200 км), являющихся северными притоками Камы и Конды. Во-вторых, гаринско-борские древности датируются в широком хронологическом диапазоне, о чем свидетельствует серия 14C-дат: 4000–1100 (68,2 %) и 4400– 1000 (92,4 %) гг. до н.э. [Черных и др., 2011, с. 34, рис. 6]. В-третьих, пористая керамика, необычайно близкая по облику к гаринской, обнаружена в одном культурном слое с псевдотекстильной посудой одиновско-крохалевского облика на притобольском поселении Верхняя Алабуга [Потемкина, 1985, с. 277, рис. 66, 4, 6; 67, 1, 4, 6–8, 10–12]. Данный факт представляется существенным, поскольку последняя рассматривается в качестве своеобразного хронологического маркера для древностей, существование которых укладывается в интервал между энеолитическими и самусьско-сейминскими комплексами [Косарев, 1987, с. 264; 1993, с. 70–71, 73–75]. И.Г. Глушков, уделивший пристальное внимание псевдотекстильной керамике, предложил объединить памятники, где она была найдена, в особый, одиновско-крохалевский культурнохронологи-ческий горизонт [2005, с. 42, 44]. Примечательно, что посуда с «текстильными» отпечатками имеется в ранних полымьятских объектах и слоях поселений Геологическое III и XVI [Кокшаров, 2012, с. 142]. Таким образом, имеющиеся данные могут указывать на прикамское происхождение медного шила с Геологичеcкого III. Заключение носит предварительный характер и обусловлено слабой изученностью археологических памятников Среднего и Северного Урала. Исследуя химический состав металла с поселения Геологическое III, С.В. Кузьминых обратил внимание на такую его особенность, как повышенное содержание серебра — 0,13–0,43 % (табл. 1). В письме, сопровождающем таблицу с результатами анализов, он указал на уральское происхождение металла, затруднившись, правда, с локализацией месторождений. Позднее примесь Ag, достигающая десятых долей, была зафиксирована и в двух образцах с поселения Геологическое XVI (табл. 2). 37 С.Ф. Кокшаров «Чистая» медь с включениями благородного металла в 0,15 % уже привлекала внимание археологов. В частности, в работе С.В. Богданова она определена как «серебристая» и связана с медистыми песчаниками Нижнекамского металлургического района, которые разрабатывались населением волосово-гаринской общности. По его мнению, из этого металла изготовлено тесло и шило, найденные в позднеямном комплексе кургана 1 Утевского I могильника [Богданов, 2006, с. 351; Кореневский, 1977, с. 52, с. 52–53, табл. 3; рис. 1, 2, 5]. Однако медь с десятыми долями Ag могла быть получена не только из медистых песчаников Нижнего Прикамья, но и из других рудопроявлений Урало-Поволжья. Присутствие Ag отмечено в металле группы МП средневолжской абашевской культуры [Черных, 1970а, табл. VIII, № 194, 206, 207, 213, 214, 216, 217, 476, 477, 480], изделиях гаринско-борских мастеров [Там же, табл. XI, № 1495, 1498, 1499, 1501, 1502, 1504, 1509, 1511, 1513, 4575, 4576, 4615], образцах группы ЗаУ [Там же, табл. X, № 6511; табл. XII, № 3292, 4796], случайных находках из Поволжья и Приуралья [Там же, табл. XII, № 406, 644, 4646, 4661, 4665, 4667, 4847, 4858], ямном металле Болдыревского I могильника [Орловская, 1994, с. 112–113, табл. 3; Дегтярева, 2010, с. 45, табл. 4, № 35738, 35740, 35741, 35743, 35744], предметах балановской и фатьяновской культур [Черных, 1963, с. 364, табл. на с. 366; Пестрикова, 1979, с. 108–109, табл. I] и других находках Урало-Поволжья (см., напр.: [Кузьминых, Черных, 1976, с. 53]). Приведенные факты и наблюдения позволяют признать мнение С.В. Кузьминых по вопросу происхождения «серебристой» меди как наиболее взвешенное и корректное. Вместе с тем приведу еще одну точку зрения, объясняющую присутствие Ag в гаринско-борском металле. Она высказана пермским геологом Ю.А. Нечаевым и приведена в монографии О.Н. Бадера: «Образцы… в которых много серебра, но нет других элементов, представляют собой переплавленную (переочищенную) медь, все остальные элементы которой удалены в шлак или ушли с газами» [Бадер, 1961б, с. 260, табл. 40]. Заключение Рассмотренные в работе предметы из меди и бронзы, а также остатки литейного производства с полымьятских поселений свидетельствуют о том, что отсутствие рудной базы лишь на какое-то время задержало начало бронзового века в Кондинском бассейне. Вступление в новую эпоху было отмечено появлением собственного металлообрабатывающего очага [Кокшаров, Погодин, 2005, с. 112], возникшего благодаря двум взаимосвязанным факторам. Один из них — близость Урала и Прикамья, население которых уже в IV тыс. до н.э. приступило к разработке медных месторождений и владело навыками металлургии и металлообработки [Черных и др., 2011, с. 35]. С другой стороны, распространение в Приуральской части Западной Сибири уралокамского металла, изделий из него и технологий обработки нового материала облегчалось сохранением широтных и меридиональных связей аборигенов Урала и Западной Сибири, которые сложились в энеолите в пределах восточно-уральской историко-культурной области [Кокшаров, 2009, с. 247, 250, 258]. Специалисты в области древних производств подчеркивают значительную роль новоильинских и гаринских производственных центров Камского региона в становлении энеолитической металлургии и металлообработки в горно-лесной зоне Урала и к востоку от него [Кузьминых, Дегтярева, 2006, с. 212]. Несмотря на немногочисленность, имеющиеся материалы свидетельствуют о несостоятельности утверждений об отсутствии условий для возникновения собственного металлопроизводства у сибирских аборигенов в досейминское время [Корочкова, 2010б, с. 100–101]. Слабо представляя материалы северных памятников и недооценивая коммуникативные возможности лесных сообществ Евразии, некоторые археологи предпочитают не выходить за рамки очень привлекательной культурологической модели более чем 20-летней давности, согласно которой становление литейного дела на севере Западной Сибири явилось следствием внешнего влияния — миграций СТ коневодов и литейщиков [Корочкова, Стефанов, 2011, с. 68]. Отрицая связи между таежными коллективами, коллеги не дают вразумительного объяснения появлению на севере Сибири вещей абашевского и синташтинско-петровского облика. Подобный подход противоречит также типолого-хронологической схеме, разработанной для памятников эпохи раннего металла бассейна р. Конды. Согласно ей, начало бронзового века (средняя бронза по общей периодизации) совпадает с появлением ранних полымьятских поселений [Кокшаров, 2006, с. 48–53]. Кроме Геологического III и XVI они включают производственную площадку поселения Лева VIII (Средняя Конда), где было налажено литье заготовок38 Первый металл Конды полуфабрикатов двух типов. Работавшие здесь мастера использовали привозной металл и следовали технологиям, получившим распространение на позднем этапе ЦМП [Кокшаров, Погодин, 2005, с. 109, 112; Кокшаров, 2011в]. Учитывая многочисленность местонахождений ранней полымьятской керамики, можно предполагать, что производственная площадка Левы VIII была не единственной в Кондинском бассейне. Если принять во внимание стратиграфические наблюдения, облик керамики и сопроводительного инвентаря, 14C-даты, то выясняется, что ранние полымьятские слои моложе объектов с керамикой волвончинского типа позднего энеолита. Ранняя полымьятская керамика обнаруживает вполне определенные параллели в памятниках одиновско-крохалевского хронологического горизонта начала бронзового века юга Западной Сибири. Принимая же во внимание характеристики металла и облик односторонних матриц, кондинские поселения можно синхронизировать с определенной частью гаринско-борских и абашевских древностей среднего бронзового века. В поздних полымьятских комплексах также имеются достаточно выразительные находки (керамика, формованная на шаблонах, асимметричный нож из Sn + As + Cu сплава, литейные формы и сердечники для отливки кельтов), обнаруживающие отчетливые параллели в свите древностей начала позднего бронзового века. Речь идет о синташтинско-петровских и кротовско-елунинско-ташковско-степановских памятниках, входящих в следующий хронологический пласт, сменяющий одиновско-крохалевский. Поздние полымьятские поселения р. Конды имеют хронологический приоритет по отношению комплексам сейминского (андроновского) времени, которые в последние годы все чаще попадают в поле зрения археологов. Речь идет о памятниках с керамикой варпаульского облика (поселение Ленино I, могильник Сатыга XVI, Сайгатино VI, Тов-курт-лор 3), открытых на территории таежного Обь-Иртышья (см.: [Кокшаров, 2006, с. 51–52]). Если в Западной Сибири они укладываются в один хронологический горизонт с черноозерско-томскими объектами [Там же, с. 52–53], то на территории Урала им должен быть синхронен комплекс Шайтанского озера II [Сериков и др., 2009], а в Приуралье — поселения типа Заосиново VII, Непряха VII и Партизаны IV [Денисов и др., 2011], которые содержат керамику коптяковского облика и выраженный сейминско-турбинский инвентарь. Примечательно, что сторонники концепции СТ миграций не имеют единого мнения по поводу возраста полымьятских поселений. Во-первых, они не акцентируют внимание на их разновременности или не видят тому оснований. Во-вторых, полымьятские древности датируются ими периодом так называемого квазиэнеолита [Кузьминых, 1993, с. 117–118], сейминским горизонтом [Корочкова, 2010а, с. 86; Корочкова, Стефанов, 2011, с. 85] и самусьско-кижировским временем [Черных, Кузьминых, 1989, с. 148, 152, рис. 75, 3, 5; 77, 6], т.е. в широком хронологическом диапазоне от пережиточного неолита до ПБВ-3. Причины такой разноголосицы обычно не комментируются, а находки, противоречащие модели СТ феномена, объявляются «проблемными», как, например, в случае с лунницей Геологического III. В заключение отмечу, что в изучении бронзового века Урала и Западной Сибири вновь назрела необходимость согласования локальных и региональных культурно-хронологических схем. Причем особое значение в этой работе должно принадлежать археологическим материалам северных памятников, которые, как выясняется, достаточно восприимчивы к внешним воздействиям. Они свидетельствуют о том, что любые, даже самые эффектные интерпретации, не подкрепленные выверенными в хронологическом отношении археологическими источниками, могут представлять исторические модели, весьма далекие от действительности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье // МИА. 1961а. № 99. 199 с. Бадер О.Н. Поселения у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы // Отчеты Камской (Воткинской) археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР. М.: Главиздат МК РСФСР, 1961б. Вып. 2. С. 110–271. Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М.: Наука, 1964. 176 с. Богданов С.В. Генезис позднеямных памятников степного Приуралья // Современные проблемы археологии России. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 1. С. 350–352. Боч С.Г. Стоянки в бассейне Сев. Сосьвы и Конды // Тр. по изучению четвертичного периода. М.: Издво АН СССР, 1937. Т. 5. С. 149–162. 39 С.Ф. Кокшаров Визгалов Г.П. Отчет о раскопках поселений Леуши XIX и Лева VIII в Кондинском районе ХантыМансийского национального округа Тюменской области в 1985 г. Тобольск, 1986 // Архив ИА РАН. Р-I. № 15630. Виноградов Н.Б. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н.э.: (Памятники синташтинского и петровского типа). Челябинск: Абрис, 2011. 176 с. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1992. 408 с. Глушков И.Г. Характеристика текстильной керамики Чилимского микрорайона (низовья Конды) // Источники по археологии Западной Сибири. Сургут: РИО СурГПУ, 2005. С. 34–44. Горбунов В.С., Горбунов Ю.В. О некоторых проблемах культурогенеза населения Южного Урала в эпоху бронзы // Аркаим — Синташта: Древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Г.Б. Здановича. Челябинск: Изд-во Чел. ун-та, 2010. Ч. 2. С. 21–31. Грушин С.П., Папин Д.В., Позднякова О.А. и др. Алтай в системе металлургических провинций энеолита и бронзового века. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. 160 с. Гутков А.И. Техника и технология изготовления керамики поселения Аркаим // Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск: Каменный пояс, 1995. С. 135–146. Дегтярева А.Д. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 2010. 162 с. Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В., Орловская Л.Б. Металлопроизводство петровских племен // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. Вып. 3. С. 23–54. Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В. Результаты аналитического изучения металлических изделий // Сатыга XVI: Сейминско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Сибири. Екатеринбург: Урал. рабочий, 2011. С. 37–44. Денисов В.П., Мельничук А.Ф., Митряков А.Е. Малоизученный хронологический горизонт Зосиново VII — Непряха VII — Партизаны IV эпохи бронзы Среднего Прикамья // Шестые Берсовские чтения: Сб. статей Всерос. археол. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2011. С. 107–116. Епимахов А.В. Ранние комплексные общества Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Челябинск: Чел. дом печати, 2005. Кн. 5. 192 с. Епимахов А.В. Синташтинская радиокарбонная хронология // Аркаим — Синташта: Древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Г.Б. Здановича. Челябинск: Изд-во Чел. ун-та, 2010. Ч. 2. С. 49–51. Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья // РА. 2005. № 4. С. 92–102. Зданович Г.Б. Основные характеристики петровских комплексов Урало-Казахстанских степей: (К вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Изд-во БашГУ, 1983. С. 48–68. Козловский К.А. Очерк р. Конды и ее бассейна // Водные ресурсы Урала. М.: Сов. Азия, 1933. Т. 1. С. 179–205. Кокшаров С.Ф. Отчет о раскопках поселения Геологическое III и археологической разведке в окрестностях пос. Комсомольского в Советском районе Тюменской области, проведенных летом 1986 г. Свердловск, 1987 // АКА УрГУ. Ф. II. Д. 431. Кокшаров С.Ф. Социально-экономическая модель кондинского общества в позднем энеолите — бронзовом веке // Модель в культурологи Сибири и Севера. Екатеринбург: УрО РАН, 1992. С. 15–16. Кокшаров С.Ф. Громовержцы обских угров // Историческая наука на рубеже веков: (Статьи и материалы конференции, посвященной 60-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького). Екатеринбург: Волот, 2000. С. 40–56. Кокшаров С.Ф. Отчет о НИР: Раскопки археологических памятников в Советском районе ХМАО Тюменской области, проведенные в 2001 г. Екатеринбург, 2002 // Архив ИИА УрО РАН. Ф. II. Д. 86. Кокшаров С.Ф. Север Западной Сибири в эпоху раннего металла // Археологическое наследие Югры: Пленарный доклад II Сев. археол. конгр. 24–30 сентября 2006 г., Ханты-Мансийск. Екатеринбург; ХантыМансийск, 2006. С. 41–67. Кокшаров С.Ф. Памятники энеолита севера Западной Сибири. Екатеринбург: Волот, 2009. 272 с. Кокшаров С.Ф. Использование шаблона в керамическом производстве (по материалам бронзового века Урала и Западной Сибири) // Вестн. НГУ. Сер. История, филология. 2011а. Т. 10, вып. 5: Археология и этнография. С. 175–182. Кокшаров С.Ф. Керамика полымьятского типа поселения Геологическое III (материалы раскопа IV) // Шестые Берсовские чтения: Сб. статей Всерос. археол. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2011б. С. 75–90. Кокшаров С.Ф. Металлообрабатывающий комплекс досейминского времени со Средней Конды // Урал. ист. вестн. 2011в. № 1 (30). С. 122–130. Кокшаров С.Ф. «Текстильная» керамика Конды // Человек и Север: Антропология, археология, экология: Материалы всерос. конф., г. Тюмень, 26–30 марта 2012 г. Тюмень, 2012. Вып. 2. С. 142–145. Кокшаров С.Ф., Погодин А.А. Мастерская бронзового века на р. Ендырь // Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 2 (22). С. 100–113. 40 Первый металл Конды Кореневский С.Н. О древнем металле бассейна р. Самары // Средневолжская археологическая экспедиция. Куйбышев: Изд-во КуйбГУ, 1977. С. 44–65. Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности ТоболоИртышья). Екатеринбург: УралЮрИздат, 2010а. 104 с. Корочкова О.Н. Первый металл в культуре таежных аборигенов Западной Сибири // III Сев. археол. конгр.: Тез. докл. 8–13 ноября 2010 г., Ханты-Мансийск. Екатеринбург, 2010б. С. 100–102. Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Сатыга XVI в системе культур эпохи бронзы Зауралья и Западной Сибири // Сатыга XVI: Сейминско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Сибири. Екатеринбург: Урал. рабочий, 2011. С. 60–85. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в переходное время от неолита к бронзовому веку // Эпоха бронзы лесной полосы. М.: Наука, 1987. С. 252–267. (Археология СССР). Косарев М.Ф. Из древней истории Западной Сибири: Общая историко-культурная концепция // Российский этнограф. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1993. Вып. № 4. 284 с. Косинская Л.Л. Энеолит и эпоха бронзы // История Ямала: В 2 т. Т. 1: Ямал традиционный. Кн. 1: Древние культуры и коренные народы. Екатеринбург: Баско, 2010. С. 47–60. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?. М.: Произв.-издат. комбинат ВИНИТИ, 1994. 463 с. Кузьмина О.В. Абашевская культура в Самарском Поволжье // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краевед. зап. Самара: Офорт, 2010. Вып. 15. С. 56–63. Кузьминых С.В. Приуральские медистые песчаники и их использование в древности // Использование методов естественных и точных наук для изучения древней истории Западной Сибири. Барнаул: Изд-во ИИФиФ: АлтГУ, 1983. С. 26–28. Кузьминых С.В. Квазиэнеолитические культуры Северной Евразии: Проблема периодизации // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург: Полиграфист, 1993. С. 116–119. Кузьминых С.В., Агапов С.А. Медистые песчаники Приуралья и их использование в древности // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. Свердловск: УрО РАН, 1989. С. 178–197. Кузьминых С.В., Дегтярева А.Д. Поздний бронзовый век // Археология: Учебн. М.: Изд-во МГУ, 2006. С. 219–270. Кузьминых С.В., Черных Е.Н. Анализы меди и бронз с поселений Нижнего Прикамья эпохи раннего металла // Из истории Волго-Камья. Казань: ИЯЛИ КФАН СССР, 1976. С. 47–54. Матвеев А.В. Первые андроновцы Зауралья. Новосибирск: Наука, 1998. 417 с. Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовки вблизи Омска. Омск: Изд-во ТГУ, 1988. 136 с. Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 200 с. Морозов В.М. Отчет об исследовании памятников в районе дер. Низямы в Октябрьском районе и в верховьях р. Эсс в Советском районе Тюменской области. Свердловск, 1986 // АКА УрГУ. Ф. II, д. 422. Мочалов О.Д. Дискуссионные вопросы происхождения керамических традиций синташтинских памятников // Аркаим — Синташта: Древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Г.Б. Здановича. Челябинск, 2010. Ч. 2. С. 78–89. Орловская Л.Б. Цветной металл Болдыревского I могильника // Приложение 1 к кн.: Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург: Наука, 1994. С. 112–115. Пестрикова В.И. Фатьяновский могильник на севере Саратовской области // Древняя истории Поволжья. Куйбышев: Изд-во КуйбГПИ, 1979. С. 99–110. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука, 1985. 376 с. Происхождение и хронология синташтинской культуры: (Материалы заседания круглого стола, г. Челябинск, сент. 2005 г.) // Аркаим — Синташта: Древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Г.Б. Здановича. Челябинск: Изд-во Чел. ун-та, 2010. Ч. 2. С. 133–184. Пряхин А.Д. Абашевская культурно-историческая общность эпохи бронзы и лесостепь // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. С. 7–32. Пряхин А.Д., Халиков А.Х. Абашевская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 124–131. (Археология СССР). Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с. Сериков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьминых С.В., Стефанов В.И. Шайтанское озеро II: Новые сюжеты в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2 (38). С. 67–78. Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак 1 в Западном Казахстане // МИА. 1962. № 120. 207 с. Студзицкая С.В., Кузьминых С.В. Галичский «клад»: (К проблеме становления шаманизма в бронзовом веке Северной Евразии) // Мировоззрение древнего населения Евразии. М.: Старый сад, 2001. С. 123– 165. Тихонов Б.Г. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье // МИА. 1960. № 90. С. 5–115. Тихонов Б.Г. Металлургия лесостепных племен междуречья Волги и Дона // Проблемы советской археологии. М.: Наука, 1978. С. 86–93. 41 С.Ф. Кокшаров Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. 384 с. Халяпин М.В. К вопросу о хронологическом соотношении абашевских и синташтинских памятников (историографический аспект) // Аркаим — Синташта: Древнее наследие Южного Урала: К 70-летию Г.Б. Здановича. Челябинск: Изд-во Чел. ун-та, 2010. С. 106–111. Чаиркина Н.М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 313 с. Чаиркина Н.М. Археологическое исследование стоянки VI Разрез Горбуновского торфяника // Древности Горбуновского торфяника. Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. Вып. 6. С. 134–156. Черных Е.Н. Спектральные исследования медных изделий из могильников балановского и фатьяновского типов // Приложение к кн.: Бадер О.Н. Балановский могильник. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 363–369. Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья // МИА. 1970а. № 172. 180 с. Черных Е.Н. Спектроаналитическое изучение металла Сеймы и Турбина // Приложение к кн.: Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.: Наука, 1970б. С. 155–173. Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА. 1978. № 4. С. 53–82. Черных Е.Н. Каргалы. Т. 5: Каргалы: феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М.: Языки слав. культуры, 2007. 200 с. Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукоп. памятники Древней Руси, 2009. 624 с. Черных Е.Н., Авилова Л.И., Орловская Л.Б., Кузьминых С.В. Металлургия в Циркумпонтийском ареале: От единства к распаду // РА. 2002. № 1. С. 5–23. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 84–105. (Археология СССР). Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. М.: Наука, 1989. 320 с. Черных Е.Н., Кузьминых С.В., Орловская Л.Б. Металлоносные культуры лесной полосы вне системы Циркумпонтийской провинции: Проблемы радиоуглеродной хронологии IV–III тысячелетий до н.э. // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. М.: ИА РАН, 2011. Вып. 2. С. 24–62. Шульц Л.Р. Салымские остяки (из материалов к этнографии южных остяков) // Зап. Тюм. о-ва науч. изучения местного края. Тюмень, 1924. Вып. 1. С. 166–200. Шульц Л.Р. Очерк Кондинского района // Урал: Технико-эконом. сб. Вып. 8: Уральский Север. Ч. 2. Свердловск, 1926. С. 19–58. Chernykh E.N. Ancient Metallurgy in the USSR. Cambridge: Univ. press, 1992. 335 p. Екатеринбург, ИИА УрО РАН uniz@mail.ru The article considers metal articles obtained from early and late settlements of the Polymjat type in the basin of the taiga Konda river. Together with a technological pottery, they reflect the initial stage of the Bronze Age in the North of West Siberia, marking the development of a local metal working centre in the area lacking its own crude ore. Morphological features of the articles and composition of the admixtures make it possible to outline the origin and possible routes of the metal entrance into the north of the denoted region, аs well as to trace direct and indirect relations of the Konda population with its neighbours in the pre-Seyima time. A stratigraphy and a look of the pottery and accompanying inventory, 14С datings, and remnants of metal working regarding the early and late Polymjat Konda sites allow to identify their chronological position in a typological and chronological scheme of the Eneolithic — the Late Bronze Age of the Konda. The elaborated scale does not accord with a concept of ST (Seyima-Turbino) migrations to the north of the region, excluding a role of the ST populations as a cultural carrier in development of the local metal industry. Basin of the Konda river, early and late settlements of the Polymjat type, bronze, copper, tin, arsenic, silver, knife, the moon-like pendant, pricker, the Garino and Bor settlements, the Odino and Krokhalyovka pottery, pottery of the Varpaul type, the Abashevo culture and community, the Sintashta culture, the Petrovka culture, the Seyima-Turbino metal, the Galich treasure. 42 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) К ВОПРОСУ О ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ОБРЯДНОСТИ В НЕОЛИТЕ НИЖНЕГО ПРИИШИМЬЯ (по материалам поселения Мергень 6) Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах Рассмотрены признаки домостроительной обрядности в культуре неолитического населения Нижнего Приишимья. По материалам поселения Мергень 6 выявлено большое количество фактов, которые могут расцениваться как свидетельство существования ритуалов, сопутствующих подготовке места под новое жилье, постройке и использованию жилищ. Нижнее Приишимье, поселение, Мергень 6, поселок, жилище, ритуал, обряд, погребение, строительная жертва. Исследование духовной культуры древних обществ является едва ли не самым сложным и дискуссионным направлением в археологии. Особенно проблематичными представляются реконструкции ритуалов в домостроительной, хозяйственной, промысловой практике древнего населения. Сам объект изучения — комплекс сакральных актов, связанных с функционированием жилой среды и коллектива людей в ней, четко не определен и не дифференцирован. Степень информативности источников, с которыми работают археологи, не позволяет однозначно трактовать те или иные факты. Вместе с тем накопленные к настоящему времени материалы по данной проблематике вынуждают использовать достаточно широкое понятие — поселенческая обрядность, объединяющее весь набор ритуальных действий, относящихся к функционированию жилой среды. На протяжении тысячелетий люди осваивали территории на обширных пространствах Евразии. Этот процесс предполагал не только физическое приспособление к новым окружающим условиям, но и духовное — возведение нового места в ранг своего мира, в котором действуют законы, правила и обычаи, обеспечивающие существование общества. Центром и отправной точкой в освоении этого нового и небезопасного мира становилось жилище — один из ключевых символов культуры [Байбурин, 1983, с. 3]. С понятием «дом» в той или иной мере соотносились все важнейшие категории картины мира у человека. Поэтому, скорее всего, одним из первых, а возможно, и основных действий, связанных с освоением территорий, являлся процесс доместикации нового жилого пространства при помощи определенных ритуалов, затрагивающих все стороны функционирования поселения, которое выступает в качестве сложной системы взаимосвязанных функций, направленных на поддержание жизнедеятельности коллектива, занимающего данное пространство. В традиционной культуре многих народов домостроительная обрядность является одной из основных составных частей поселенческого культа, призванного преобразовать хаос первозданной природной материи в упорядоченное космизированное пространство предметного мира культуры. По мнению исследователей, именно в этих актах заложена священная технологическая (операциональная) программа всякого рода производственно-экономической (хозяйственной) деятельности человека (строительство дома, храма, корабля, производство кузнечных, гончарных и прочих изделий и т.д.) [Байбурин, 1983; Теребихин, 2002, с. 83]. Рассматривая момент создания жилища, многие авторы отмечают в практике различных народов обряды, предшествующие этому процессу или сопровождающие его. В частности, А.К. Байбурин, исследуя домостроительную обрядность восточных славян, указывал на то, что ритуал, совершаемый при закладке дома (положение монет, ладана, шерсти, зерна и т.д. под углы дома), во многом тождественен обрядам народов Западной Европы [1983, с. 62–63]. Подобную же практику исследователи фиксируют у коренных народов Сибири [Шорин, Баранов, 2002; Кардаш, 2009; и др.]. Н.М. Теребихин отмечает, что краеугольным камнем ритуального процесса строительства нового дома, например, у пермских народов являлась жертва и жертвоприношение. Мотив жертвенности, вписывающий ритм строительной технологии в мифологические схемы космогенеза, по мнению исследователя, пронизывает все этапы ритуального процесса: от 43 Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах обрядовых процедур выбора материала, места и времени строительства нового жилища до его освоения — освящения в серии переходных ритуалов [Теребихин, 2002, с. 83]. По словам М. Элиаде, строительная жертва, практикуемая у многих народов, «суть не что иное, как имитация, часто символическая, первого жертвоприношения, давшего рождение миру» [1994, с. 42]. Подобные выводы о большом значении строительной обрядности в целом и строительной жертвы в частности в ритуальной практике различных народов сделаны в основном по этнографическим или этноархеологическим материалам [Байбурин, 1983; Гемуев, 1990; Шорин, Баранов, 2002; Теребихин, 2002; Визгалов, Пархимович, 2008; Кардаш, 2009]. Собственно археологические комплексы чаще всего не позволяют однозначно трактовать те или иные факты как свидетельства домостроительного культа. Однако, по словам А.К. Байбурина, ритуал, сопутствующий процессу создания дома и сопровождающийся различного рода подношениями (пища, орудия труда, фигурки животных, растения и т.д.), бытовавший и фиксируемый до сих пор у некоторых народов Евразии, можно рассматривать как бескровный вариант строительной жертвы, имевший широкое распространение в древности [1983, с. 62]. По нашему мнению, чаще всего на поселениях фиксируются следы именно обряда строительной жертвы, в силу залегания предметов, наделенных сакральным смыслом, в особых, «закрытых» местах (ямах, под полом и т.д.). Скорее всего, с подобными актами связывались функции сохранения/охраны занимаемого жилого пространства и, возможно, обеспечения благоденствия коллектива в более широком смысле. То есть, обряд строительной жертвы мог включать акты или быть частью обрядности, относящейся не только к домостроительству, но и к сфере хозяйства/промысла. Несмотря на известную ограниченность археологических материалов, четко указывающих на существование поселенческой обрядности и ритуала строительной жертвы в ней, известна достаточно представительная серия соответствующих свидетельств в культуре ранних земледельцев и скотоводов Евразии [Формозов, 1984]. Для территории Западной Сибири такие факты отмечены главным образом при исследовании памятников доандроновской и поздней бронзы Присалаирья и Тоболо-Ишимья. К культовым, например, можно отнести захоронение двух быков на поселении Кокуй 2 в Приишимье [Крижевская, 1977], козы под полом федоровского жилища на поселении Куделька [Зах, 1997], захоронения животных в жилищах поселения Оськино Болото (исследования А.А. Ткачева). Причиной частой фиксации фактов строительной обрядности в культурах этого времени является достаточно четко выраженная связь культа с производящим хозяйством. Его маркерами выступают захоронения частей и целых туш домашних животных (коров, овец, коз, лошадей, собак), а также сосудов с пищей под полом в углах или у входа в жилища (см., напр.: [Формозов, 1984]). Фактически такой жертвенный набор сложно оставить без внимания. Гораздо сложнее, на наш взгляд, обстоит дело с культурами более ранних эпох, хозяйство которых носило присваивающий характер. Наибольшей ценностью здесь, по всей видимости, являлись орудия охоты, рыболовства, гончарства, ткачества и т.д. Следовательно, жертвенный набор мог состоять в первую очередь из вещей именно этих категорий и глиняных орнаментированных сосудов (или их фрагментов) как символов культурной идентичности, а также, вероятно, частей тел основных промысловых животных, рыб и птиц. Но основное значение, скорее всего, придавалось рукотворным предметам, посредством которых обеспечивалось благосостояние жителей поселка или отдельного дома, а также их защита от физических и потусторонних опасностей. Исследование археологическими методами древних поселений не всегда позволяет вычленить из общего массива находок предметы, наделенные особым смыслом. Чаще всего они представляют собой обычные рядовые вещи, составляющие поселенческий инвентарь. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что эти рядовые хозяйственные орудия могли иметь не только утилитарное, но и сакральное значение. «Двойная природа» вещей — хорошо известная особенность оперирования вещами в человеческом обществе. Речь идет о том, что любой предмет можно использовать и как собственно вещь, и как знак, символ, причем вторая, символическая ипостась может пониматься различным образом. В культуре традиционного типа о каждом предмете, помимо ограниченных сведений, касающихся его физического назначения, существовало иное знание: знание его символического смысла [Байбурин, 1983, с. 8]. Исследователи отмечают, что особенно на ранних этапах развития человеческой культуры грань между ритуальной вещью и бытовой фактически отсутствовала. Так, по словам М.С. Кагана, именно для ранних этапов первобытности действительно характерна полифункциональ44 К вопросу о поселенческой обрядности в неолите Нижнего Приишимья… ность вещи, когда ее физическое бытие дополнялось духовным, реально-практическое — символическим. «Значения, которыми обрастала вещь в первобытной культуре, порождались мифологическими представлениями ее создателей, стремившихся освящать едва ли не каждую рукотворную вещь, чтобы она хорошо работала. Однако постепенно шел процесс дифференциации практических и символических свойств вещей, который привел к обособлению двух классов вещей — производственных и ритуальных, наделенных особым культовым значением» [Каган, 1996, с. 206–207]. По мнению В.Т. Ковалевой и С.Ю. Зыряновой, анализ функционирования вещи в культуре убеждает нас в том, сколь относительны границы между материальным и духовным. Вместе с тем особенность предметов духовного производства состоит в том, что материальная форма их воплощения приобретает знаковый характер [Ковалева, Зырянова, 2010, с. 255]. Иными словами, особое, сакральное назначение конкретных вещей чаще всего было зафиксировано в знании, возможно мифологии, языке, и лишь в редких случаях в морфологических особенностях. Таким образом, единственным общедоступным методом выявления сакральных предметов, связанных с поселенческой обрядностью, является детальный анализ места и условий расположения вещей на поселениях и в жилищах. Для территории Западной Сибири, и Тоболо-Ишимья в частности, применительно к более ранним эпохам, нежели бронзовый век, уже имеется опыт выявления элементов обрядности, относящихся к функционированию жилой среды. По мнению И.В. Усачевой, материальные остатки особых актов, совершаемых энеолитическим населением Западной Сибири, связанных с доместикацией жизненного пространства, прослежены на памятниках Сазык IX и Звездный I (Тюменское Притоболье). Здесь было зафиксировано маркирование речным песком, керамикой и изделиями из камня очага, пола, потолка жилища, а также входа-порога и конструктивных деталей построек. Предполагается, что все это может указывать на существование в древности у населения, оставившего данные постройки, такого ритуала, как «…освящение и кодирование собственного дома во время его закладки и строительства, что было призвано придать жилищу усиленный статус своего (как бы свое в своем) и дополнительно оградить дом от чужого (по принципу апотропеев)» [Усачева, 2007, с. 238]. Что касается эпохи неолита, то, при том что исследования на указанной территории ведутся уже не один десяток лет, представления о мировоззрении проживавшего здесь населения более чем общие. Известно лишь небольшое количество погребений в могильниках Тюменского Притоболья (Большой Андреевский Остров) [Зах и др., 1991], Среднего Прииртышья (Окуневский могильник) [Матющенко, 2003] и Барабы (Усть-Куренга и Сопка 2) [Молодин, 2000, 2001], фактов же, иллюстрирующих поселенческую обрядность неолитического населения, в литературе практически не отражено. В связи с этим особый интерес представляют материалы, полученные в результате работ 2009–2011 гг. на поселении Мергень 6, расположенном в Ишимском районе Тюменской области (Нижнее Приишимье) на берегу одноименного озера. При исследовании памятника получены уникальные материалы, иллюстрирующие процесс освоения прибрежной зоны оз. Мергень носителями боборыкинской культуры на ее кошкинской стадии. Поселение существовало в начале V тыс. до н.э.: по керамическому материалу получена дата 6870±90 л.н. (Кі-15908), или 1σ 5840–5820, 5810–5660 BC, 2σ 5920–5620 BC. Поселок имел следующую структуру. Значительные по площади жилища, вероятно, были окружены малыми хозяйственными строениями, а в периферийной части располагались два объекта, предварительно интерпретируемые как фрагменты двух рвов, каждый из которых был шириной около 0,8 м и глубиной от уровня материка 0,2–1 м (рис. 1). В результате изучения остатков семи сооружений (полуземлянок и слабо углубленных построек), различных по конструктивным особенностям, накоплен значительный материал, характеризующий особенности домостроительства неолитического населения. Во время раскопок уделялось пристальное внимание местам нахождения вещей, расположению их относительно элементов жилища (входа, пола, очажной зоны, рвов и т.д.) и друг друга. Результатом такого подхода стало, на наш взгляд, многократное фиксирование следов обрядности, связанной со строительством поселка и его функционированием. Древние поселенцы удачно выбрали место для основания поселка: мыс, образованный протокой Мергенькой, берущей начало здесь же из озера Мергень, особенно с точки зрения их основного занятия — рыболовства. Кроме того, можно предположить, что водная артерия, опоясывающая поселение в направлении с юго-запада на северо-восток, могла выполнять и функцию естественного ограждения, в том числе от потустороннего мира. Исследователями давно уже отмечено, что вода в культуре многих народов выступала в роли разграничителя 45 Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах мира живых и мира мертвых. Многие могильники располагались таким образом, чтобы быть окруженными водой со всех сторон (на островах) либо отделенными от поселений водной преградой. Получается, что поселение как бы ограничено водой с юга, запада и севера. Как отмечалось выше, в восточной его части, исследованной раскопками в последние годы, фиксировались объекты, которые могли быть рвами. Сооружение рвов прослежено на неолитических поселениях Амня I, Каюково 2, Бол. Умытья 9, 57, Быстрый Кульеган 66 и др. [Морозов, Стефанов, 1993; Ивасько, 2003; Погодин, Миронов, 2009; Погодин, 2010; Косинская, 2004]. На поселении Мергень 6, располагаясь относительно параллельно друг другу, они предположительно могут охватывать поселок с востока. Рис. 1. План поселения Мергень 6 Археологами уже отмечалось значение рвов в поселенческой обрядности. Следы жертвоприношений во рвах зафиксированы на поселениях андроновского времени. А.А. Формозов находит возможным усмотреть подобие андроновских жертвоприношений во рвах и описанного Плутархом «этрусского обряда» при основании Рима: была вырыта круглая яма, куда положили «первины всего, что люди признали полезным для себя. Затем каждый бросил туда горсть земли, принесенной из тех краев откуда он пришел, и эту землю перемешали». Исследователь предполагает, что в том и в другом случае имел место обряд строительной жертвы, который совершался при основании нового поселка [Формозов, 1984, с. 240]. Рвы, выявленные на поселении Мергень 6, были маркированы развалами кошкинских сосудов. Таким образом, можно предположить, что место для поселка выбиралось с расчетом, чтобы он оказался окружен защитным барьером в физическом и сакральном плане. Развалы сосудов, отмеченные во рвах, могут интерпретироваться как следы строительной жертвы, сопутствующей возведению поселка в целом. С подобными же актами, на наш взгляд, могут быть связаны еще три ямы, выявленные в ходе работ. Одна из них (№ 1) расположена в восточной части исследованной площади памятника рядом со рвами (кв. Щ2–Э2/13–14) (рис. 1). Ее размеры 0,9×2,1 м, глубина от уровня материка 0,75 м. Она была заполнена костями крупных животных (рог, позвонки и тазовые кости лося, челюсть собаки) и рыб, в ней обнаружены развал керамического сосуда, заготовки и обломки костяных орудий, кремневое сверло и отщепы, а также человеческая челюсть. 46 К вопросу о поселенческой обрядности в неолите Нижнего Приишимья… Другая яма (№ 2), размерами 1,7×1,7 м и глубиной 0,57 м, отмечена в северной части поселка (кв. Г–Д/3–5) (рис. 1). Она также содержала человеческую челюсть, а вместе с ней волчьи зубы. Третий объект — яма (№ 3), соотносимая нами с культовым маркером, находилась рядом с предполагаемым условным центром поселения (кв. Т2–Х2/18–19) (рис. 1; 2, 3). Ее размеры 2×2,5 м, глубина от уровня материка 0,95 м. Яма ориентирована длинной осью по линии СЗ–ЮВ. В ней обнаружены два черепа лося и нога, причем характер расположения костей свидетельствует о том, что они были помещены в яму сразу либо через небольшой промежуток времени после отделения от туш. Как уже отмечалось, исследованная раскопками площадь памятника позволяет предполагать, с известной долей условности, что поселение имело круговую или приближенную к кругу планировку (рис. 1). В поселке выделяются периферийная и центральная части. По всей видимости, упорядочение занимаемого пространства в соответствии с мировоззренческими представлениями являлось неотъемлемой частью доместикации осваиваемой территории. В свою очередь, по мнению некоторых исследователей (А.А. Байбурин, В.Н. Топоров, В.В. Иванов и др.), на основе постоянно возрастающего количества археологических и этнографических данных можно судить о структурном подобии жилища и поселения, особенно в связи с круглой формой последних, с центром, в котором мог поддерживаться ритуальный огонь и «который, вероятно, использовался для совершения ритуалов общего характера и сходок взрослого мужского населения» [Байбурин, 1983, с. 11]. По всей видимости, в центре поселения Мергень 6 находились два достаточно больших жилища — № 14 и 21 (около 100 м2 каждое), соединенных между собой тамбурообразным переходом и отличающихся от окружающих построек размерами, конструктивными особенностями, внутренним устройством, а также наполненностью следами совершавшихся здесь ритуалов. На последнем остановимся более подробно. Сама внутренняя структура этих жилищ тяготеет к концентричности, в частности зафиксированы четко выраженные достаточно глубокие рвы, опоясывающие пол жилища вдоль стен котлована и имеющие выступы в ниши, выходящие за его пределы. Ширина этих рвов колеблется в пределах 0,2–0,5 м, глубина от уровня пола котлована 0,3–0,5 м. Они интерпретируются как полифункциональные (дренаж, вентиляция, отопление), однако это не исключает и сакрального их значения. Тем более что края рва в жилище № 14 в районе выступов, выходящих за пределы котлована, маркировались воткнутыми в материк костяными орудиями — шпателем (рис. 2, 12), наконечником стрелы, костяными пластинами. Эти находки в основном фиксировались по обеим сторонам выступов (западная и восточная стенка котлована) (рис. 1). Во время функционирования жилища эти предметы находились под настилом, покрывавшим пол жилища, следы которого удалось зафиксировать в процессе работ. В заполнении самого рва был также обнаружен орнаментированный шпатель (южная часть, кв. Ю/16) (рис. 1). Еще одним свидетельством строительной жертвы, на наш взгляд, может быть яма у северной стенки котлована (кв. Ю–Я/6–7), в которой был обнаружен целый скелет рыбы (аналогичная находка сделана в 1990 г. в одной из ям жилища 1). Яма эта также располагалась в полу котлована под предполагаемым настилом. Ее размеры 0,5×0,25×0,2 м, ориентация — запад — восток. Также рядом с одной из столбовых ям в центре котлована была обнаружена воткнутая в материк орнаментированная костяная пластина (кв. Ю/11) (рис. 1). Таким образом, выявленная ситуация позволяет предполагать, что в процессе сооружения данного жилища выполнялся ряд действий, связанных с обрядом строительной жертвы: маркирование отдельных элементов внутреннего устройства котлована и каркасно-столбовой конструкции специально положенными предметами. Еще более интересная картина зафиксирована в ходе исследования жилища № 21. Здесь также выявлен ров, аналогичный прослеженному в сооружении № 14. При выборке его заполнения было установлено, что один из опорных столбов несущей конструкции каркаса жилища опустили прямо в данный ров (кв. Р2/17, южная часть). В основании столба положили керамический сосуд и массивный костяной струг. Во рву (кв. М2/13), в районе тамбурообразного перехода в жилище № 14 (северная часть котлована жилища № 21), был обнаружен орнаментированный шпатель (рис. 2, 15). В этом сооружении выявлены также два погребения (рис. 1). Погребение 1. Находилось в северном углу котлована (кв. К2/13–14) (рис. 2, 1). Могильная яма подовальной формы, размерами 0,55×0,25 м, углублена в пол котлована на 0,1 м. Ориентирована длинной осью по линии север — юг. Погребенный младенец лежал на спине с вытянутыми вдоль туловища руками, головой на север, левая нога была заброшена на правую и неестественно вывернута. Кости скелета хорошей сохранности. Погребальный инвентарь отсутствовал. 47 Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах Рис. 2. Материалы поселения Мергень 6: 1 — погребение 1 жилища № 21; 2 — погребение 2 жилища № 21; 3 — яма с костями лося; 4 — яма с охрой и инвентарем; 5, 14 — орнаментированные вкладышевые оправы; 6 — кочедык; 7 — наконечник копья; 8 — игловидный наконечник стрелы; 9 — гарпун; 10 — крючок; 11 — роговая пластина; 12, 15 — шпатели; 13 — орнаментированная скульптурка птички Погребение 2. Обнаружено в центре котлована жилища (кв. П2−С2/13−14) под прокалом (рис. 2, 2). Могильная яма подовальной формы, размерами 2,4×0,5 м, глубиной 0,4 м от уровня пола, ориентирована по линии запад — восток. Характер расположения и отсутствие многих костей свидетельствуют, вероятно, о вторичном обряде захоронения. К тому же в связи с тем, что погребение периодически оказывалось во влажной среде при поднятии уровня грунтовых вод, сохранность черепа и крупных костей не удовлетворительна. Вместе с тем общее их расположение позволяет предполагать, что в могиле останкам умершего пытались придать положение на боку, головой на восток. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. Состояние зубов говорит о весьма преклонном возрасте погребенного. Данные погребения, безусловно, носят культовый характер. Особое их значение, по нашему мнению, проявилось в следующем: 48 К вопросу о поселенческой обрядности в неолите Нижнего Приишимья… — четкая противоположная ориентация по сторонам света (восток — запад и север — юг); — ярко выраженная возрастная разница — старость и младенчество; — четко выраженная разница в расположении погребений — центр жилища и периферия по линии восток — запад; — расположение центрального погребения под очагом (рис. 1). Традиция погребения умерших в пределах поселенческого пространства отмечена на памятниках еще палеолитического времени [Позднепалеолитическое поселение..., 1998]. Под очагом неолитического времени было обнаружено погребение мужчины, лежавшего в скорченном положении, на поселении Давлеканово на Южном Урале [Матюшин, 1976, с. 82]. На территории Южного Урала и Западной Сибири данная практика наиболее часто фиксируется на памятниках эпохи бронзы. Так, практически во всех поселенческих петровских комплексах в жилищах под полом в овальных ямах, ориентированных по линии запад — восток, находились захоронения детей в младенческом возрасте [Зданович, 1988, с. 133]. Погребения в жилищах также часто фиксируются на памятниках поздней бронзы и переходного времени (поселение Березовая Лука, Линево 1, Ново-Шадрино VII, Черноозерье VI, Чича I и др.). О.И. Новикова отмечает, что применительно к данному хронологическому пласту погребения на территории поселений скорее носят экстраординарный характер, нежели являются традиционными. В качестве причин совершения таких погребений исследователь выделяет: — особый социальный статус умершего (в том числе принадлежность к маргинальной возрастной группе — младенцы, старики); — жертвоприношение; — особые обстоятельства смерти [Новикова, 2011, с. 262]. Говоря о возможных человеческих жертвоприношениях, совершавшихся на поселениях, автор предполагает, что наиболее распространенной их формой могли выступать строительные жертвы, хотя и не исключает других вариантов [Новикова, 2011]. А.А. Формозов отмечал, что погребения под полами жилищ, известные в ряде раннеземледельческих культур, могут отражать древний этап в развитии строительной жертвы, позднее это были статуэтки, захоронения животных, затем части их туш или растительная пища [1984, с. 240]. По мнению С.Н. Шилова и Д.Н. Маслюженко, жертвенный характер носит и сосновоостровское погребение на поселении Гладунино 3, расположенном в Белозерском районе Курганской области. Исследователи склонны считать данное погребение неординарным и соотносят его расположение на поселении с особым социальным статусом усопшего — вождя-шамана. На это может указывать навершие булавы в сопроводительном инвентаре. Вместе с тем авторы отмечают, что элитность не до конца объясняет приуроченность некоторых погребений доандроновского времени Зауралья к поселениям или пещерам. По их мнению, эти погребения можно интерпретировать как своеобразные жертвенные комплексы, расположенные на территории локальных святилищпоселений [Шилов, Маслюженко, 2000, с. 145]. Таким образом, большинство погребений на поселениях археологи склонны сопоставлять с обрядом жертвоприношения. Однако нельзя не согласиться с О.И. Новиковой в том, что достаточно сложно установить факт именно насильственного умерщвления с целью жертвоприношения. По ее мнению, в пользу такового могут свидетельствовать местоположение захоронения и нестандартная поза погребенного. Рассматривая в таком ракурсе погребения с поселения Мергень 6, можно говорить об особом месте расположения погребений, особом социальном статусе погребенных, однако трудно судить о жертвенном характере (специальном умерщвлении). Вместе с тем, на наш взгляд, наделение усопших жертвенным символизмом не всегда предполагало специальное умерщвление. Таким образом, погребения в жилище № 21 на поселении Мергень 6 могут являться отражением пласта ритуалов, включающих в себя и обряд строительной жертвы, и культ предков, и представления о структуре мира. Более чем вероятно, что ритуал захоронения людей в полу жилища иллюстрирует процесс освоения (в сакральном смысле) нового жилого пространства. Необходимо также отметить, что тщательный анализ стратиграфии и планиграфии заполнения котлована указанного жилища подтверждает, что погребения были сделаны, скорее всего, в процессе его возведения. Ритуальный комплекс жилища № 21 имеет еще одну составляющую. В 1 м к северо-востоку от погребения 2 (кв. Р2–С2/12) находилась яма, заполненная охрой (рис. 2, 4). На ее дне был обнаружен набор инвентаря, представленный изделиями из кости как целыми, так и ломаными: гарпун, рыболовный крюк, игловидный наконечник стрелы, наконечник копья, ломаный костяной 49 Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах нож, массивная роговая пластина с отверстием (рис. 2, 7–11). Помимо костяных орудий в яме присутствовали массивные кремневые скребки и нуклевидные сколы. Поверх описанных вещей лежали кости мелких животных и птиц. Находка данного явно ритуального набора, по нашему мнению, может быть в равной степени соотнесена как с обрядом строительной жертвы, так и с промысловым ритуалом, направленным на привлечение удачи в той или иной отрасли хозяйства. Возможно и то, что все эти акты могли одновременно нести разнообразную смысловую нагрузку. Планиграфия поселения позволяет также предположить, что центральное погребение жилища № 21 являлось условным центром не только данной постройки, но и всего поселка (рис. 1). Расположенное таким образом погребение человека в преклонном возрасте могло служить символической точкой отсчета, например, в основании рода (первопредок), нового поселка, доместикации нового жизненного пространства и быть центром вновь освоенного мира. Наполненность жилища № 21 сакральным может свидетельствовать о его особом статусе. Исследование обрядовой составляющей строительства и функционирования жилищ дает основания утверждать, считает А.К. Байбурин, что именно на ранних этапах их семиотический статус был значительно выше. «С появлением жилища мир приобрел те черты организации, которые на бытовом уровне остаются актуальными до сих пор. Прежде всего, появилась универсальная точка отсчета в пространстве, причем важно подчеркнуть, что пространство вне дома стало оцениваться как упорядоченное (по другим правилам) именно благодаря существованию дома. Иными словами, дом придал миру пространственный смысл, укрепив тем самым свой статус наиболее организованной его части» [Байбурин, 1983, с. 10]. Вокруг рассматриваемых нами как центральные располагались жилища второго порядка — меньших размеров (50–60 м2) и с более простым внутренним устройством (рис. 1). В общей структуре поселения они располагаются по ближнему к центральным жилищам кругу. В процессе исследования этих объектов также прослежены особенности неслучайного, на наш взгляд, расположения определенных предметов и их связь с обрядом строительной жертвы. В жилище № 5 в области входа на дне одного из прямоугольных пятен (кв. Т/7), определенных как остатки элементов настила, был обнаружен развал половины сосуда, а с противоположной от него стороны входа в небольшой нише на уровне пола — орнаментированная костяная вкладышевая оправа (кв. С/9) (рис. 2, 14). В жилище № 15 с двух противолежащих сторон от очага (прокала) зафиксированы Vобразные ямы, приостренной частью направленные в стороны от прокала. В зоне между одной из ям и очагом (кв. Б2/02) в углублении в полу был обнаружен череп собаки. С противоположной стороны прокала (кв. Щ/01) располагался воткнутый в материковый пол котлована костяной кочедык (рис. 2, 6) и рядом с ним человеческий череп (рис. 1). В жилище № 16 выявлена такая же система V-образных ям у прокала. Между одной из них и очагом в углублении было обнаружено скопление артефактов — массивная костяная орнаментированная копьевидная вкладышевая оправа (рис. 2, 5), костяная пластина и острие, две ножевидные пластины, развал сосуда, а также костяная орнаментированная фигурка птицы (рис. 2, 13). Выявленные факты нахождения вещей в «особых» местах жилищ, по нашему мнению, также вполне могут выступать свидетельствами того, что жители неолитического поселка практиковали обряд строительной жертвы. В малых домах, по всей видимости, маркировались привходовая и приочажная зоны. В больших по площади жилищах отмечено расположение сакральных, на наш взгляд, предметов в основном в пределах рвов, опоясывающих внутреннее пространство котлованов и выходящих за его пределы. При исследовании поселенческой обрядности, безусловно, основная сложность заключается в интерпретационном плане, однако в отношении ранних этапов проблемно и само выявление фактов, которые могли бы свидетельствовать о существовании того или иного культа. Поэтому поселения и жилища, как правило, изучаются лишь с точки зрения материальной культуры. «Знаковая, символическая природа жилого пространства и дома, таким образом, ускользает от внимания исследователя» [Усачева, 2007, с. 236]. Материалы поселения Мергень 6 представляются в связи с этим уникальным источником для территории не только Западной Сибири, но и Евразии в целом, так как позволяют наметить направление в исследовании мировоззрения человека в неолитическую эпоху. На наш взгляд, выявлено достаточно большое количество фактов, которые могут расцениваться как подтверждающие бытование ритуалов, сопутствую50 К вопросу о поселенческой обрядности в неолите Нижнего Приишимья… щих подготовке места под новое поселение, постройке и функционированию жилищ, а также, возможно, связанных с хозяйственной деятельностью. Полученная в ходе работ информация, по нашему мнению, позволяет предположить следующее: — по-видимому, практически все пространство, выбранное под поселение, было пронизано сакральным; — территория поселения достаточно четко структурировалась (наличие центра и периферии); — маркерами сакрализации пространства в жилищах выступали орудия различных отраслей хозяйства (охота, рыболовство, гончарство, кожевенное дело и т.д.) и керамические сосуды; — маркирующими объектами поселенческого (межжилищного) пространства являлись ямы, заполненные преимущественно костями животных и рыб (возможно, основных промысловых либо особо почитаемых); — поселенческая обрядность могла представлять собой переплетение обрядов различных взаимодополняющих культов (строительная жертва, ритуалы, связанные с культом предков, хозяйственной и промысловой деятельностью, тотемистическими культами и т.д.); — вероятно, в основе комплекса ритуалов, составляющих поселенческую обрядность, лежал обряд строительной жертвы, который мог сочетать в себе элементы других священных актов. В условиях охотничьего и охотничье-рыболовного быта, когда благополучие первобытного коллектива полностью зависело от природы, обряды и магические действия должны были играть большую роль [Косарев, 1991]. Практика сакрализации жизненного пространства, следы которой зафиксированы на неолитическом поселении Мергень 6, по нашему мнению, входит в широчайший круг аналогичных действий, отмеченных у различных народов на обширных территориях в диапазоне от древности до настоящего времени. Все это позволяет говорить о том, что, имея региональные различия, обряд, отражающий мировосприятие древнего человека, был значительно шире рамок локальных культур. По всей видимости, за каждым ритуальным актом стояли системы представлений о мироустройстве, которые оказались исключительно устойчивыми, пережившими тысячелетия, общими у разных этносов, восходя к глубокой древности. Основной же целью подобных актов, на наш взгляд, являлось поддержание благоденствия в роде, племени, фратрии, семье. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 191 с. Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: Новые археологические исследования (материалы 2001– 2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. 296 с. Гемуев И.Н. Мировозрение манси: Дом и Космос. Новосибирск: Наука, 1990. 232 с. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического микрорайона). Новосибирск: Наука, 1997. 132 с. Зах В.А., Зотова С.В., Панфилов А.Н. Древние могильники на Андреевском озере близ Тюмени // Древние погребения Обь-Иртышья. Омск, 1991. С. 13–42. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей: (Основы периодизации) Свердловск: Издво УрГУ, 1988. 184 с. Ивасько Л.В. Раскопки укрепленного поселения каменного века Каюково II // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2003. Вып. 1. С. 228–229. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 415 с. Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI — первой трети XVIII вв.: История и материальная культура. Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. 360 с. Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Неолит Среднего Зауралья: Боборыкинская культура. Екатеринбург: Учеб. книга, 2010. 308 с. Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: Человек и природная среда. М., 1991. 302 с. Косинская Л.Л. Жилища поселения Быстрый Кульёган 66 // Западная Сибирь: Прошлое, настоящее, будущее. Сургут: Диорит, 2004. С. 226–241. Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. 142 с. Матющенко В.И. Могильник на Татарском увале у д. Окунево (Ом VIII): Раскопки 1998, 1999 годов. Омск: ОмГУ, 2003. 64 с. Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. М.: Наука, 1976. 368 с. Молодин В.И. Неолитические могильники Барабы: Проблемы хронологии и культурной принадлежности // Ист. ежегодн. Спец. вып. Омск: ОмГУ, 2000. С. 134–139. 51 Д.Н. Еньшин, С.Н. Скочина, В.А. Зах Молодин В.И. Памятник Сопка 2 на р. Оми: (Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. Т. 1. 128 с. Морозов В.М., Стефанов В.И. Амня I — древнейшее городище Северной Евразии? // ВАУ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. Вып. 21. С. 143–169. Новикова О.И. Интрамуральные погребения эпохи бронзы Западной Сибири: Проблемы интерпретации // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. СПб.; М.; Вел. Новгород, 2011. Т. 1. С. 261–262. Позднепалеолитическое поселение Сунгирь: (Погребения и окружающая среда). М.: Науч. мир, 1998. 272 с. Погодин А.А. Поселение Большая Умытья 9: Результаты полевых исследований 2007–2008 гг. в Советском районе ХМАО — Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; ХантыМансийск: Изд-во ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 146–183. Погодин А.А., Миронов П.В. Предварительные результаты аварийных раскопок поселения Большая Умытья 57 в Советском районе ХМАО — Югры (по материалам исследований 2007–2008 гг.) // ХантыМансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. Вып. 7. С. 132–167. Теребихин Н.М. Строительный миф и ритуал в традиционной культуре пермских народов // Народные культуры Русского Севера: Материалы рос.-фин. симп. (3–4 июня 2001 г.) / Отв. ред. Н.В. Дранникова. Архангельск, 2002. 163 с. Усачева И.В. Доместикация пространства // Миф, обряд и ритуал в древности. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2007. С. 234–239. Формозов А.А. Строительные жертвы на поселениях и в жилищах эпохи раннего металла // СА. 1984. № 4. С. 238–241. Шилов С.Н., Маслюженко Д.Н. К вопросу о человеческих жертвоприношениях в эпоху неолитаэнеолита на территории Зауралья // Святилища: Археология ритуала и вопросы семантики: Материалы темат. науч. конф. Санкт-Петербург, 14–17 ноября 2000 г. СПб., 2000. С. 144–147. Шорин А.Ф., Баранов М.Ю. Возможности археологии в реконструкции жилища как области реализации мифологических представлений (по материалам раскопок хантыйских жилищ начала XIX в. на поселении Сырой Аган 12 близ г. Сургут) // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во: УрГУ, 2002. С. 70–81. Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ,1994. 144 с. Тюмень, ИПОС СО РАН Dimetrius666_72@mail.ru sveta_skochina@mail.ru viczakh@mail.ru The paper considers indications of house building rites existing in the culture of the Neolithic population from the Low Ishim basin. Basing on materials of Mergen 6 settlement, associated with its erection and functioning, subject to identification being a great number of facts which could be treated as confirmation of the existing rituals accompanying preparation of a place for a new dwelling, building of a house, and use of dwellings. Low Ishim basin, settlement, Mergen 6, village, dwelling, ritual, rite, burial, building sacrifice. 52 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ И ИНДОАРИИ И.В. Ковтун Феномен распространения изделий и технологии сейминско-турбинской металлургии бронзы Северной Евразии сопоставлен с дивергенцией и миграциями носителей индоарийских диалектов. Рассматриваются следствия социокультурного, межэтнического и языкового взаимодействия крупных этнокультурных объединений на территории Волго-Камья и Северо-Западной Азии в конце III — первых веках II тыс. до н.э. Аргументируется единство культурно-исторических истоков образов Вары Видевдата и «осенних крепостей» Ригведы, восходящих к укрепленным сооружениям аркаимо-синташтинского типа. Обосновывается доминирование индоарийского субстрата в составе сейминскотурбинских сообществ, контактировавших и конфликтовавших с преимущественно ираноязычным населением аркаимо-синташтинского культурного массива и с его финно-угорским окружением. Сейминско-турбинские, индоарии, Вара, Ригведа, «осенние крепости», аркаимо-синташтинские, пуру. Языковая принадлежность сейминско-турбинских сообществ конца III — первой четверти II тыс. до н.э. неоднократно соотносилась с различными миграционными волнами в ВолгоКамье, Центральной и Северо-Западной Азии. Язык населения, оставившего Сейминский могильник, О.Н. Бадер считал финно-угорским, а его создателей одним «из западных форпостов финно-угорского мира» в борьбе с балановцами, абашевцами и срубниками [1964, с. 116]. Близкое мнение высказывалось П. Хайду. Он рассматривал распространение сейминско-турбинских древностей как свидетельство вторичного взаимодействия обособившихся в Зауралье носителей протоугорского языка и проживавшего между устьями Оки и Камы населения, говорившего на прафинно-пермских диалектах. В примечаниях к этой работе П.М. Кожин упоминает южные связи сейминско-турбинского населения, сомневаясь в его привязке к уралоязычным группам [Хайду, 1985, с. 194–195, 198]. Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых отрицают индоевропейскую языковую принадлежность сейминско-турбинских группировок [1990, с. 139]. А.Х. Халиков связывает сейминско-турбинские коллективы с алтайской языковой общностью — «прототюркскими и тунгусо-маньчжурскими племенами» [1991, с. 43, 44]. В.В. Напольских настаивает на тохарском (паратохарском) компоненте в составе создателей сейминско-турбинского комплекса [1997, с. 155–157]. С.А. Григорьев предложил версию «древнеевропейской» принадлежности языка сейминско-турбинского населения, сузившейся до кельто-италийских диалектов [1999, с. 227–235; Мосин и др., 2002, с. 95]. К. Карпелан и А. Парпола считают сейминско-турбинские сообщества самодийцами — «Samoyedic branch» [Carpelan, Parpola, 2003, с. 78]. Примечательно территориально-хронологическое сосуществование сейминско-турбинского и аркаимо-синташтинского комплексов. Индоиранская («раннеарийская») ([Генинг, и др., 1992, с. 7, 376]; обзор: [Кузьмина, 1999, с. 268–270]) или древне- (восточно-) иранская, иначе — «раннедревнеиранская» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 854] языковая принадлежность основного субстрата последнего как будто установлена [Михайлов, 1999, с. 430; 2002, с. 200–204; Иванов, 2004, с. 63]. Поэтому появление сейминско-турбинских (елунинских и галичских) бронз может быть связано с распространением носителей индоиранских — индоарийских и древнеиранских диалектов. Сейминско-турбинские комплексы не обнаруживают параллелей с материальной культурой «колесничных» племен, реконструируемой по древнеиранским текстам и отождествляемой с аркаимо-синташтинскими древностями. Но ираноязычность основной части этого культурного массива способствует установлению языковой принадлежности соприкасавшихся с ним сейминско-турбинских сообществ. Из всех индоевропейских языков наиболее значительная структурная близость характерна лишь для индоиранского ареала. Как полагал А. Мейе, «индоиранская группа обнаруживает целый ряд специфических особенностей, которые более нигде не встречаются и которые восходят к эпохе совместной жизни носителей данной группы диалектов» (цит. по: [Макаев, 1977, с. 25, 27]). Близость же иранской и индоарийской ветвей «делает методологически оправданными поиски рядом с известными древними местами обитания одних хотя бы следов пребывания других» [Трубачев, 1999, с. 157]. На теснейшие географические и культурные связи, общность языкового ареала, где протоиндийские и протоиран53 И.В. Ковтун ские диалекты втягивались в тождественные зоны контактирования и языковые союзы, указывают и другие исследователи [Макаев, 1977, с. 45–46; и др.]. Для установления соответствий необходимо уточнение перечня индоиранских диалектов, обособление которых сопоставимо с сейминско-турбинской эпохой. Но распад индоиранской общности датируют по-разному. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов относят его ко времени не позднее конца IV тыс. до н.э. [1984, с. 917]. Этим же тысячелетием датируют разделение на индоариев и индоиранцев Р. Гиршман [Ghirshman, 1976, p. 618] и Я.А. Шер [1997, с. 29]. Э.А. Грантовский относил распад «арийского диалектного единства» к рубежу III–II — началу II тыс. до н.э. Позднее последовал вывод о существовании индоиранской общности и в первых веках II тыс. до н.э. Время ее распада определялось с конца первой четверти до середины II тыс. до н.э. [Грантовский, 2007, с. 410]. По мнению В.И. Абаева, выделение из арийской общности протоиндоарийской группы произошло уже на прародине ариев в Юго-Восточной Европе, между Уралом и Каспием [1972, с. 29; 1981, с. 84, 86]. Существование арийской общности, контактировавшей с финно-угорским миром, относится ко второй половине III тыс. до н.э. Ее распад на протоиранскую и протоиндийскую ветви датирован первой половиной II тыс. до н.э. [Абаев, 1972, с. 32, 36], но отмечается, что «ни в середине, ни в начале II тыс. до н.э. ни о какой арийской общности уже говорить не приходится» [Там же, с. 32]. Д.И. Эдельман также полагает, что «праязыковая система иранских языков мало отличается от индоиранской и ее существование относится условно к самому началу II тысячелетия или скорее к концу III тысячелетия до н.э. [2002, с. 17]. Т. Барроу связывает начало самостоятельности индоарийского языка с проникновением его носителей в Индию к 1700–1400 гг. до н.э. Этому предшествовал финал общего индоиранского состояния, локализованного «в Южной России» [Барроу, 1976, с. 33–34]. Л.А. Гиндин относил раздельное существование индоарийских и иранских диалектов к концу III тыс. до н.э. [1972, с. 315; 1974, с. 153–154]. Позднее диалектная расчлененность арийцев на индоариев и иранцев определялась рубежом IV–III тыс. до н.э. по анахронистическим индоарийским вкраплениям в хурритских и хеттских текстах XV–XIV вв. до н.э. Проникновение индоариев в Месопотамию и сопредельные области к западу датировалось XVIII–XVII вв. до н.э. [Гиндин, 1992, с. 55]. К концу XVIII в. до н.э. относил обособленное существование индоариев «не слишком далеко от Передней Азии» и Л.А. Лелеков [1980, с. 123, 124]. Позже Л.А. Лелеков отмечал «раздельность раннеиндийского и раннеиранского этносов и традиций во II тыс. до н.э. несомненно, с середины III тыс. весьма вероятно, на что указывают реликтовые индо-хеттские эксклюзивы без иранских аналогий к ним», так как «предки хетто-лувийских иммигрантов некогда общались с протоиндийцами еще где-то к северу от Черного моря, притом без участия иранцев… до середины III тыс. до н.э., но в таком случае первая стадия дезинтеграции индоиранского единства отодвигается… еще глубже» [1988, с. 171–172]. Примечательно, что сравнительно недавно, используя новые методы исследования, Р. Грей и К. Эткинсон датировали начало распада индоиранской общности около 2600 г. до н.э. [Gray, Atkinson, 2003, p. 437]. Е.А. Хелимский определял время распада индоиранского единства «ранее XVII в. до н.э., т.е. до появления андроновской культуры» [2000, с. 504]. По мнению Д. Энтони, «на общем индоиранском языке, возможно, говорили во время периода Синташты с 2100 по 1800 годы до н.э. Архаический древнеиндийский, возможно, выделился в отдельный язык из архаичного иранского около 1800–1600 годов до н.э.» [Anthony, 2007, p. 408]. Г.Б. Зданович отождествляет петровское население с древними иранцами, а синташтинское уже — «с протоиндийцами, которые к XVI в. до н.э. покинули свою родину и ушли в Переднюю Азию, а затем в Индию» [1995, с. 42]. К. Ламберг-Карловски указывает, что «раскол индоиранского языка на иранский и индоарийский должен датироваться XIV и XV вв. до н.э.», но «к 16/15 вв. до н.э. отделенный индоарийский язык уже стал отличаться от предполагаемого индоиранского» [Lamberg-Karlovsky, 2002, p. 72]. В.А. Сафронов относил древнеямное население Северо-Западного Причерноморья IV — начала III тыс. до н.э. к эпохе индоиранского единства. Поздние ямные племена, полтавкинская, срубная и, вероятно, петровская и алакульская культуры, а равно весь андроновский массив считались ираноязычными. Распад индоиранцев датирован второй половиной III тыс. до н.э. [Сафронов, 1989, с. 204-205]. Л.С. Клейн считает индоиранской ямную культуру, а индоарийской — катакомбную [Клейн, 2010, с. 172; Кони…, 2010, с. 171]. Представления о распаде индоиранского единства отчасти обусловлены этноязыковыми интерпретациями комплекса Аркаима — Синташты. В.В. Иванов полагает, что его неоднородное население говорило уже на восточно-иранском диалекте скифской (аланской) группы, фин54 Сейминско-турбинские древности и индоарии но-угорском и (пра)енисейском языке при явном преобладании восточно-иранского субстрата [2004, с. 63]. Это отрицает Е.Е. Кузьмина, вероятно поддерживающая идею о распаде индоиранской общности между 1700 и 1500 гг. до н.э. [2008, с. 175–176, 334], но допускающая билингвизм аркаимо-синташтинского комплекса [Там же, с. 125]. И.М. Стеблин-Каменский синхронизирует Аркаим и Синташту с «эпохой распада индоиранской (арийской) общности на иранскую и индоарийскую» [2009, с. 18]. Распад индоиранской общности не относят ко времени позднее середины II тыс. до н.э., когда зафиксировано появление индоарийского диалекта на исторической авансцене. Этот известный эпизод связан с брачным договором XIV в. до н.э. между митаннийским царем Маттивазой и отдававшим ему в жены свою дочь хеттским царем Шуппилулиумой (Шуппилулюмой I) [Барроу, 1976, с. 31; Дюмезиль, 1986, с. 17–18; Елизаренкова, 1989а, с. 430; и др.]. Иначе: Куртивазза (Куртиваза) или Шаттивазза [Абаев, 1972, с. 31; Гиндин, 1972, с. 290, 293; Дюмезиль, 1986, с. 17] и Суппилулиумас I (Супиллулиума I) соответственно [Дьяконов, 1970, с. 40; Гиндин, 1972, с. 285, 293; Барроу, 1976, с. 31; Вильхельм, 1992, с. 98; Кузьмина, 1994, с. 5]. Позднее И.М. Дьяконов, вслед за Н.Б. Янковской, отождествил Куртиваззу со сбежавшим в результате междоусобной борьбы двух братьев за престол митаннийским принцем Шаттивасой [1995, с. 128–129]. Договор содержит впервые идентифицированные Г. Винклером имена индоарийских божеств: Митры, Варуны, Индры и Насатьи [Елизаренкова, 1960, с. 9–10; Дьяконов, 1970, с. 41; Гиоргадзе, 1971, с. 121; Абаев, 1972, с. 31; Гиндин, 1972, с. 285–286, 293–296, 315; Барроу, 1976, с. 31; Чаттерджи, 1977, с. 50, 60; Эрман, 1980, с. 196–197; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 548; Дюмезиль, 1986, с. 17–18; Вильхельм, 1992, с. 98; Кузьмина, 1994, с. 5 (имя Митры опущено); Хелимский, 2000, с. 503; Bryant, 2001, p. 135; Lamberg-Karlovsky, 2002, p. 72; Чайлд, 2009, с. 28; и др.]. В составе этой группы, засвидетельствованной и в ведийской литературе, Ж. Дюмезиль видел иллюстрацию своей концепции «трех функций», олицетворяемых перечисленными божествами [1986, с. 17–19, 25, и др.]. И.М. Дьяконов же предположил, что упоминание Варуны в договоре есть следствие неверного перевода [1990, с. 103]. К.Ф. Смирнов и Е.Е. Кузьмина отмечают проникновение в Митанни индоариев, занявших здесь господствующее положение, но богов пришельцев называют индоиранскими [1977, с. 53]. Позднее упомянутый договор предлагалось считать terminus ante quem выделения индоиранской общности и разделения самих индоиранцев. Пришельцы назывались и индоариями, и индоиранцами, а их боги считались индоиранскими [Кузьмина, 1994, с. 5, 189–190]. В недавней работе констатируется: «…индоиранцы Митанни были уже выделившимися индоариями» [Кузьмина, 2008, с. 175]. Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский отмечают принадлежность богазкейского квартета богов к раннеиндийской традиции и отсутствие Варуны в иранском пантеоне, но язык митаннийских ариев считают диалектом индоиранского в завершающий период существования арийского языкового единства [1983, с. 168]. Индоиранскими считала заимствованные имена четырех упомянутых богов А. Камменхубер. Но, по мнению Т. Барроу, Ж. Дюмезиля и П. Тиме, боги в этом договоре уже не общеиндоиранские, а индоарийские («ведические», «индийские») [Барроу, 1976, с. 31; Дьяконов, 1970, с. 52; Дюмезиль, 1986, с. 18]. Е.А. Хелимский считал язык митаннийских пришельцев «несомненно арийским и, более того, индоарийским» [2000, с. 503]. Т.Я. Елизаренкова также указывает, что по лингвистическим особенностям «митаннийский арийский» является индоарийским языком [1989а, с. 431]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов полагают, что «уже к середине второго тысячелетия до н.э. внутри индоиранского выделились отдельные диалекты, один из которых отражен в митаннийских арийских языковых фрагментах» [1984, с. 547]. Констатируется наличие «особого митаннийского арийского языка, отличного от древнеиндийского и древнеиранского», что «должно свидетельствовать о раннем начале процесса распада арийской диалектной общности, вероятно, не позднее III тысячелетия до н.э.» [Там же, с. 863]. В.И. Абаев также настаивает на индоарийской — «протоиндийской» принадлежности «митаннийского арийского», видя в нем след миграции его носителей в Индию [1972, с. 32–33, 36]. Для определения времени распада индоиранской общности показательны стадиальные особенности «митаннийского арийского». Т.Я. Елизаренкова полагает, что он уже «эволюционировал за пределы первоначального состояния» [1989а, с. 431]. По И.М. Дьяконову, глоссы в хеттском «Трактате митаннийца Киккули об уходе за лошадьми» с арийской терминологией являются «окаменелостями, которые… передавали чисто механически», и «живого арийского 55 И.В. Ковтун языка в Митанни к XV в. уже не было» [1970, с. 41]. «Окаменевшими глоссами» называла «митаннийский арийский» и А. Камменхубер [Ковалевская, 2010, с. 32]. Соглашаясь с глоссовым характером индоарийских вкраплений в трактате Киккули, Л.А. Гиндин пишет о раннем историческом появлении «обособленных индоарийцев, возможно, в правление вавилонского царя Самсуиллунаса (по новой датировке 1740 г.)» [1974, с. 153–154]. Предполагается раннее (рубеж IV–III тыс. до н.э.) обособление индоариев и иранцев и анахронистичность индоарийских вкраплений в хурритских и хеттских текстах XV–XIV вв. до н.э. [Гиндин, 1992, с. 55]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов называют «митаннийский арийский»: «языком живого общения для митаннийцев определенного социального слоя» [1984, с. 547], допуская обособление индоариев с рубежа IV– III тыс. до н.э. [Там же, с. 917]. Л.С. Клейн полагает, что к 1800 г. до н.э. индоарийский язык уже существовал, хотя выделился значительно раньше [Кони…, 2010, с. 171]. Вероятно, «митаннийскому арийскому» предшествовал сравнительно длительный период его дивергенции. Одни авторы считают диалект индоарийским (или протоиндоарийским), другим представляются иные атрибуции, в рамках индоиранской ветви (обзор: [Bryant, 2001, с. 136–138]). И.М. Дьяконов предполагал, что в Митанни прибыли предшественники третьей ветви индоиранских языков, говорившие на дардо-кафирских диалектах. Упомянутые в договоре божества также предположительно считались дардо-кафирскими [Дьяконов, 1995, с. 129], а митаннийско-индоиранский контакт датирован первой — второй четвертью II тыс. до н.э. [Дьяконов, 1970, с. 62]. У касситов в XVII в. до н.э. также имелись индоарийские имена богов [Барроу, 1976, с. 31; Эрман, 1980, с. 197; Елизаренкова, 1989а, с. 430; Bryant, 2001, p. 136; Грантовский, 2007, c. 404; Чайлд, 2009, c. 27]. Касситский бог солнца Suriḭaaš сравним с ведийским Sūrya, хеттский бог огня Akni — с вед. Agni, а имена царей Передней Азии Aššura и Jami — с вед. asura и Yamῑ ([Елизаренкова, 1989а, с. 430]; см. также: [Гиндин, 1972, с. 297–300; Чаттерджи, 1977, с. 60; Эрман, 1980, с. 197; Bryant, 2001, p. 135 и др.; Грантовский, 2007, c. 403–405; Чайлд, 2009, с. 27– 29]). Арийское происхождение и ведийские соответствия установлены для десятков личных имен из аккадских и хурритских клинописных источников и из царской переписки. Индоарийская антропонимика в переднеазиатских языках связывается с небольшими привилегированными социальными группами, к XV–XIV вв. до н.э. ассимилированными хурритами [Гиндин, 1972, с. 286–292, 316–317]. Поэтому появление этих индоарийских имен в Митанни восходит к более ранней эпохе. Время индоарийских заимствований в Передней и Малой Азии синхронно хронологическому финалу сейминско-турбинской эпохи. По мнению Л.А. Гиндина, «проникновение арийцев в Месопотамию и в сопредельные области к западу могло начаться в XVIII–XVII вв., в том числе и в государство Митанни», а «контакты с хурритами… приходятся на конец XVIII — начало XVII в.» [1972, с. 275, 314]. Л.А. Лелеков полагал, что «общий первоисточник пантеонов митаннийских и пенджабских индоариев (уже или еще без иранцев) должен датироваться до начала их миграций, т.е. до XVIII в. до н.э.» [1980, с. 123], а древневавилонские, хеттские и касситские источники «датируют индоязычную речь в Передней Азии минимум с XVII в. до н.э. и косвенно свидетельствуют о ее гораздо более раннем просачивании в данный регион» [1988, с. 171]. Следовательно, появлению переднеазиатских индоариев мог непосредственно предшествовать индоарийский субстрат в составе сейминско-турбинских сообществ. Не противоречит этому и период распада индоиранского единства, датируемый большинством исследователей не позднее второй половины III — начала II тыс. до н.э. Но отождествление сейминско-турбинских сообществ с носителями только индоарийского диалекта противоречит ареальным и антропологическим составляющим самого феномена. На его полидиалектность намекает наличие сейминско-турбинского металлокомплекса у разобщенных западно-сибирских, уральских и восточно-европейских культурных групп. Свидетельством подобного состояния представляется композиция на ноже из Ростовки, объединяющая «индоарийскую» лошадку [Ковтун, 2008, с. 140–141; 2010, с. 110–112, 115–117] и монголоидность влекомого ею лыжника. Облик лыжника, сочетающий европеоидные и монголоидные признаки, адекватно передает черты этого населения [Дремов, 1997, с. 67], и для ростовкинской популяции вероятна присущая метисным сообществам ситуация билингвизма или диглоссии: сочетание индоарийского с иными диалектами (-ом). Думается, схожее соотношение отличало и другие сейминско-турбинские, галичские и имевшие монголоидную примесь елунинские культурные группы [Солодовников, Тур, 2003, с. 145–147, 150, 154, 156]. 56 Сейминско-турбинские древности и индоарии В.В. Иванов считает многоязычность характерным признаком аркаимо-синташтинской эпохи, присущим «всей области распространения древних металлопроизводящих городищ Южного Урала». Это удостоверяют взаимопроникновения терминов индоевропейских, особенно индоиранских и, возможно, тохарских, финно-угорских, енисейских и северокавказских языков, обозначавших металлы, колесничную атрибутику и лошадей [Иванов, 1999, с. 45–47]. Аналогичная демографическая доминанта, обусловленная металлургической специализацией, вероятно, присуща и взаимодействовавшим с аркаимо-синташтинским массивом полидиалектным сейминско-турбинским группировкам. В Ригведе Индра разрушает крепости своих, зачастую змееподобных врагов. К ним относятся и так называемые даса и дасью, под которыми подразумеваются как мифические демоны, так и реальные противники индоариев — племена, не почитавшие индоарийских богов, не приносившие им жертв и т.п. Даже «чернокожесть» дасов/дасью, считавшаяся описанием внешности аборигенного населения [Эрман, 1980, с. 46], интерпретирована как метафора тьмы, несчастья и зла, ассоциировавшегося с противниками индоариев, не разделявшими их религиозных представлений [Шетелих, 1991, с. 7–10]. Дасью следовало только убивать, а даса могли включаться в индоарийские коллективы. Помимо метафор [Елизаренкова, 1999в, с. 200–201], индоарийские крепости в Ригведе не упоминаются. Крепости же даса и дасью стали для индоариев символом твердости и неприступности ([Елизаренкова, 1989а, с. 455–456; 1999в, с. 195, 214, 219, 224; Кузьмина, 1994, с. 73; Васильков, 1996, с. 163]; см. также: [Элиаде, 2009, с. 244]). Ряд гимнов прямо определяет принадлежность атакуемых Индрой (иногда с Агни) крепостей его противникам — даса и дасью [Ригведа, I. 103. 3; II. 20. 7, 8; III. 12. 6; IV. 32. 10]. В других гимнах подобные деяния Индры, а однажды сомы угадываются лишь по сочетаемому упоминанию разрушенных крепостей и даса/дасью [Ригведа, III. 34. 1; VIII. 98. 6; IX. 88. 4; X. 47. 4; 99. 7]. Даса и дасью не единственные противники Индры, обладающие такими крепостями. Зачастую борьба с ними представляется эпизодом основного мифа, где Индра побеждает Вритру и других змееподобных хозяев крепостей. Но помимо мифологического смыслового плана у данных фортификаций имелся реальный и наверняка не единственный архитектурный и культурноисторический прототип. Такие крепости чрезвычайно схожи с укрепленными аркаимо-синташтинскими поселениями: «…это были поселения-крепости, для которых характерна структура, сильно напоминающая крепости дасов/дасью в РВ» [Елизаренкова, 1999в, с. 227]. Е.Е. Кузьмина, видящая в крепостях дасов разрушенные индоариями хараппские города, считает, что обозначавший их термин «púr» «возник еще на индоиранской прародине и применялся к укрепленным поселениям типа Ливенцовки и Аркаима» [1994, с. 73]. По мнению Г.Б. Здановича, раскрытое Т.Я. Елизаренковой и ее предшественниками, особенно В. Рау [Елизаренкова, 1999в, с. 196–200], содержание термина «púr» подразумевает ключевые составляющие аркаимосинташ-тинских архитектурных конструкций и собственно аркаимского центра. Но подразумевается, что такие крепости занимали не даса/дасью, а, как и предполагал В. Рау [Кузьмина, 1994, с. 73], сами арии [Зданович, 2010, с. 206–207, 213]. Обосновано и предположение, что аркаимо-синташтинские фортификации и охватываемые ими сооружения имеют отношение к авестийской Варе ([Гуревич, 1989, с. 48–49; СтеблинКаменский, 1993, с. 196; 1995, с. 167; 2009, с. 18; Кузьмина, 1994, с. 71–72; Пьянков, 1999, с. 281; Медведев, 1999, с. 283; Михайлов, 2002, с. 201]; критику см.: [Членова, 1995, с. 180–182; Lamberg-Karlovsky, 2002, p. 69]). Думается, крепости даса/дасью Ригведы и авестийская Вара (Вар) восходят к единому типу и общему прототипу подобных сооружений и к одним и тем же создававшим их культурным группам. Очевиден и композитный характер обоих образов. Их прототипические составляющие аккумулировались столетиями культурно-исторического опыта доведийских протоиндоариев и доавестийских протоиранцев. Архаизмы подобных представлений, вероятно, относятся к эпохе контактов и конфликтов обособившихся носителей этих двух диалектов индоиранской общности. С указанным историческим периодом и связано сохраненное устной традицией и перенесенное в Ригведу и Авесту переживание укрепленного глинобитными стенами оборонительного, культового, жилого и хозяйственного комплекса, защищавшего древних иранцев (протоиранцев) от противостоящих им и их крепостям индоариев (протоиндоариев) и других противников. Помимо глинобитных (глиномятных) стен памятников аркаимо-синташтинского типа, соответствующих Варе Видевдата [Михайлов, 2002, с. 201], и схожих стен крепостей врагов индоариев в Ригведе [Елизаренкова, 1999в, с. 197, 198, 207, 208], эти сооружения связывает кален57 И.В. Ковтун дарная символика. Укрепления противников индоариев имеют эпитет — «осенние крепости». Он использован трижды [Ригведа, I. 131. 4; 174. 2; VI. 20. 10] и получил различные истолкования: даса уходили в свои крепости осенью, когда на них нападали индоарии (А.Э. Макдонелл, А.Б. Кейтс, К.Ф. Гельднер), или же это были временные укрепления, построенные осенью и каждую осень нуждавшиеся в починке/перестройке (В. Рау) (обзор: [Елизаренкова, 1999в, с. 197, 216–217]). Во всех гимнах с эпитетом «осенняя крепость» фигурирует наименование индоарийского племени — пуру и (или) имя одного из его предводителей-царей [Ригведа, I. 131. 4; 174. 2; VI. 20. 7, 10]. Борьбу с «осенними крепостями» дасов лидера пуру Пурукутсы продолжает его сын, следующий царь Трасадасью (о генеалогии: [Ригведа, IV. 42. 8, 9; VIII. 19. 36; Чаттопадхьяя, 1961, с. 633–634; Елизаренкова, 1989б, с. 749]). Уже его имя («чьи враги трясутся» [Елизаренкова, 1989б, с. 609]) подразумевает борьбу с дасью. К индоарийской архаике, вероятно, восходят упоминание Трасадасью в гимне-диалоге Индры и Варуны и обстоятельства его рождения, ставшего следствием жертвоприношения (коня?) Семерым риши [Ригведа, IV. 42. 8, 9; Елизаренкова, 1989б, с. 748–749]. Подобно Индре, помогавшему его отцу, Трасадасью также проламывает крепости своих врагов [Ригведа, I. 112. 14]. Вместе с Трасадасью побеждает дасью его чудесный боевой конь — Дадхикра [Топоров, 1994б, с. 347], отбивающий в боях нагруженную на вражеских колесницах добычу. Конь противопоставляется колесницам: всегда обгоняет их, отнимает их добычу, выигрывает у них состязание [Ригведа, IV. 38. 1, 3, 4, 6, 7]. Пуру, его цари, а равно царский конь причастны к борьбе с «осенними крепостями» (см. также: [Ригведа, VII. 5. 3, 6; и др.]), с дасью и обладателями боевых колесниц. Пуру одна из двух самых древних индоарийских группировок, первые мигранты, воспетые и высокочтимые в эпосе [Лелеков, 1982, с. 152]. Возможно, именно предки данного этнокультурного сообщества столкнулись с использовавшими колесницы строителями и защитниками «осенних крепостей». Причастность доведийских «протопуру» к индоарийскому субстрату сейминско-турбинских сообществ может удостоверяться еще и локализацией ведийских пуру, проживавших на берегах Сарасвати [Эрман 1980, с. 45], прообразом которой является Волга [Членова, 1984, с. 96; Редеи, 1997, с. 150, 153]. В эпитете «осенняя крепость» виделась мифокалендарная метафора ежегодной битвы Индры с Вритрой — обладателем подобных крепостей, шедшей с конца осени и весь холодный сезон [Тилак, 2002, с. 300–301]. Война с «осенними крепостями» это намек на возобновление в конце каждого года такого космогонического противоборства [Елизаренкова, 1989б, с. 625]. В Ригведе эту канву основного мифа иллюстрирует указанное противостояние [Иванов, Топоров, 1974, с. 41–42, 45], приходящееся на стык Старого и Нового Года [Кейпер, 1986, с. 31; Топоров, 1990, с. 20; Элиаде, 2009, с. 258; и др.]. Выделение переходного мифокалендарного периода относится еще к индоиранской общности. Поэтому подобный мотив неявно присутствует и в Авесте при описании приумножения-взращивания мира и постройки Вары Йимой [Видевдат, 2]. Содержание первого действия и сопутствующие ему астральные и количественные символизации восходят к архаичному олицетворению первых девяти — солнечных месяцев календарного года. Момент же разграничения двух деяний Йимы приурочен именно к осеннему периоду, когда он начинает строить Вару — «осеннюю крепость» противников индоариев. Структура изложения сводится к повторению троекратной единообразной текстовой модели: «8. И вот царству Йимы триста зим настало. И тогда эта земля наполнилась мелким и крупным скотом, людьми, собаками, птицами и красными горящими огнями… 10. Тогда Йима выступил к свету в полдень на пути Солнца. Он этой земле дунул в золотой рог и провел по ней кнутом, говоря: “Милая Спэнта-Армайти, расступись и растянись вширь…”. 11. Вот так Йима эту землю раздвинул на одну треть больше прежнего…» [Видевдат, 2. 8–11]. Это текстуальное клише повторяется еще дважды, но «триста зим» замещаются «шестьюстами» и затем «девятьюстами», земля же при этом раздвигается на «две трети», а затем на «три трети» [Видевдат, 2. 12–19]. Количественная символика приведенного смыслового ряда выражена удвоением и утроением исходного числового значения. Первые 300 лет царства Йимы соответствуют одной трети раздвинутой, т.е. прирощенной им, земли, 600 лет — двум третям, а 900 лет — трем третям. Такая последовательность передана рядом кратных чисел: 3–6–9. Здесь исходная треть желаемого целого, дважды увеличиваясь на собственную величину, достигает значения данного целого или трех его третей. Так описываются три последовательных равнопродолжительных цикла достижения конечности мироздания. Затем следует предупреждение о 58 Сейминско-турбинские древности и индоарии грядущих бедах и необходимости постройки спасительной Вары и наступает четвертый, эсхатологический период, несущий «смертельный холод», «зимы», «тучи снега», а затем потоп [Видевдат, 2. 22–24]. Числовые значения, используемые при описании конструкций и элементов убежища, зеркально отображают три фазы расширения жизненного пространства. Три округа Вары и количество сделанных в них проходов идентичны числовой символизации деяния Йимы по приумножению-взращиванию мира: «38. В переднем округе [Вара] он сделал девять проходов, в среднем — шесть, во внутреннем — три» [Видевдат, 2. 38]. Эта последовательность симметрична числовому ряду, символизирующему расширение мироздания, только передана она зеркально, в обратном порядке: 9–6–3. Логика подобного «обратного отсчета» задана пространственно-временными пределами земного царства Йимы. Его существование ограничено 900 годами увеличения жизненного пространства, границы которого на исходе мира сужаются до внешнего округа Вары с девятью проходами. За этим рубежом «смертельный холод», «плотский злой мир», и т.п. Следовательно, девятизначностью, как и девятичастностью, олицетворяется предельность крайней пространственно-временной грани взращенного Йимой мира. Поэтому девять проходов внешнего округа Вары, кратные 900 годам расширения земли, ассоциируются с числовой символизацией длительности благоприятного времени года с возрастающим или превалирующим светлым временем суток. Продолжительность такого календарно-астрономического периода составляет девять месяцев: от «рождения» нового солнца после дня зимнего солнцестояния до начала его «умирания» после дня осеннего равноденствия. Подобие этой мифокалендарной ситуации обнаруживается в литовской мифологии в сюжете с образом Совия — первого умершего смертного. Совий просит девятерых (?) сыновей испечь девять селезенок, вынутых из пойманного им вепря. Но дети не послушались и съели селезенки. В гневе Совий пытается снизойти в ад через восемь ворот, но терпит неудачу. Тогда один из сыновей (девятый?) указывает ему девятые ворота и Совий проникает в преисподнюю. Позднее, после неудачных погребений в земле и дереве, Совий предается огню [Топоров, 1985, с. 101; 1994в, с. 457–458; 2006, с. 235; Белова, Петрухин, 2008, с. 128–129]. Думается, на ведийско-авестийские параллели образу Совия указывает мотив его охоты на вепря, пораженного Тритой-Трайтаоной. В имени героя усматривалась и параллель с ведийским солнечным божеством Савитаром, и архаичное индоевропейское словообразовательное ядро [Топоров, 1986, с. 87, 89; 1994в, с. 458]. Описания же Савитара, ведущего умерших к предназначенным им местам [Ригведа, X. 17. 4], связанного с погребальными обрядами [Атхарваведа (Шаунака), XII. 2. 48; Satapatha-Brahmana, XIII. 8. 3. 3] и путами, сближают его с Варуной и ведущим людей по пути смерти Ямой [Дандекар, 2002, с. 51, 61, 86], а через него и с Совием. Ключевое схождение Совия с Йимой и с его ведийским аналогом Ямой обусловлено их общим статусом первопредков и первых умерших смертных [Фанталов, 2001, с. 16]. Мифокалендарное значение числовой символики балтийского сюжета усиливается ее дублированием и соотносится с девятью солнечными «домами» зодиака. По мнению В.Н. Топорова, они соответствуют девяти месяцам, но от весеннего равноденствия до порождения «нового солнца», и девяти колесницам солнца в литовских песнях. Поэтому календарная семантика сюжета о Совии сводится к олицетворению годового движения солнца [Топоров, 1994в, с. 457– 458]. Аналогичное уподобление присуще и девяти сыновьям Сканды, также образующим набор солнечных месяцев [Иванов, Топоров, 1974, с. 51]. Сын солнечного божества Вивахванта Йима тоже сохраняет черты солярного героя [Лелеков, 1994, с. 599], и его деяния совершаются «к свету в полдень на пути Солнца». Увеличение жизненного пространства начинается со дня весеннего равноденствия или через 300 лет царства Йимы, символизирующих три календарных месяца, прошедших с момента зимнего солнцестояния. Это момент рождения «нового солнца», с которого начинается его смещение к северу и увеличение полуденной высоты, длящиеся до летнего солнцестояния [Селешников, 1970, с. 30–31]. Второй аналогичный акт приурочен к летнему солнцестоянию (через 600 лет с начала царства, соответствующих следующему трехмесячному циклу). Заключительное действо происходит через 900 лет с начала царства, т.е. календарно еще через три месяца, во время осеннего равноденствия. Приумножение-взращивание Йимой мира «на пути Солнца», проле59 И.В. Ковтун гавшем между восходом и закатом, с их сезонными смещениями к северу и югу, вероятно, следовало этому пути. Между осенним и весенним равноденствиями он смещен к югу, а после весеннего и до осеннего равноденствия смещается к северу [Там же]. Йима начинает свои акты «в полдень». Поэтому его ориентиром являлось движение Солнца в послеполуденное время, т.е. на закат, с последней недели марта до последней недели сентября, когда оно восходит на востоке-северо-востоке и заходит на западе-северо-западе (северо-востоке — северо-западе, в период летнего солнцестояния). Следовательно, Йима трижды за девять месяцев расширял свое царство в северо-западном направлении. После такого продвижения на северо-запад он закономерно сталкивается с зимой, холодом и снегом. Накануне испытаний Йима создает Вару, время постройки которой совпадает с сезоном возведения и ремонта «осенних крепостей» даса/дасью в Ригведе. Считается, что Йима продвигается в благую ахуровскую южную сторону, а не к дэвовскому северу. Подобное представление, вероятно, восходит к западным переводам XIX в., предшествовавшим переводу Авесты Д. Дармстетером: «Then Yima stepped forward, in-light, south-wards, on the way of the sun» и т.д. [The Zend-Avesta…, 1895, p. 13–14]. Такая направленность Йимы связывается еще и с исторической миграцией арийских или древнеиранских племен в южном направлении [Кузьмина, 1988, с. 56; Стеблин-Каменский, 1993, с. 196; 1995, с. 166; 2009, с. 15, 18; Членова, 1995, с. 179]. Предложен и русский перевод этого фрагмента Видевдата, с упоминанием «юга» [Лушникова, 2004, с. 181]. Но среди русскоязычных переводов трактовка «двинулся на юг», по-видимому, уникальна (ср.: [Авеста в русских переводах…, 1998, с. 77–86]). Подобные выводы не противоречат вышеизложенной интерпретации. Они отражают содержание зороастрийской редакции и кодификации памятника, а не лежащий в основе второго фрагарда Видевдата архаичный мифокалендарный прототекст. Мифологическое ядро Авесты перекликается с Ригведой и восходит к индоиранской общности, т.е. к III тыс. до н.э. [Абаев, 1982, с. 19]. Поэтому выделенному инвариантному остатку древнеиранских (протоиранских) календарно-обрядовых представлений, воплощенных в идее приумножения мира на пути к Варе, соответствуют синхронные индоарийские (протоиндоарийские) образы «осенних крепостей». Начавшие формироваться при взаимодействии сейминско-турбинских и аркаимосинташтинских сообществ образы «осенних крепостей» Ригведы и древнеиранской Вары, повидимому, подтверждают идею К. Йеттмара о древней альтернативной системе (системах) индоарийского пантеона. Его центральной фигурой был не Индра, а Яма, соотносящийся со строителем Вары Йимой [Йеттмар, 1986, с. 191]. Истоки же этих персонажей восходят к их общему индоиранскому корню и к эпохе строительства аркаимо-синташтинских фортификаций. Исторический прообраз даса/дасью главным образом связывали с коренным населением Индии и прилегающих территорий [Барроу, 1976, с. 42; Чаттерджи, 1977, с. 43, 52, 61, 75, 77–78; Макаев, 1977, с. 30–31; Шетелих, 1991, с. 5–6; Кузьмина, 1994, с. 73; Елизаренкова, 1999а, с. 461; Элиаде, 2009, с. 244; Чайлд, 2009, с. 42; и т.д.]. А. Парпола ассоциировал даса, дасью и пани с первой волной арийских завоевателей около 2000 г. до н.э., пришедших из арианизированного ими Бактрийско-Маргианского археологического комплекса в Северо-Западную Индию до индоариев второй волны, появившихся там около 1800 г. до н.э. [Елизаренкова, 1999в, с. 223–226; Кузьмина, 2008, с. 127–128]. Подобная модель индоарийской миграции одновременно предлагалась и другими исследователями [Лелеков, 1988, с. 169–170]. Хотя сама идея «волнового» проникновения носителей индоарийских диалектов в Индию обосновывалась и ранее ([Барроу, 1976, с. 34–35; Эрман, 1980, с. 42; Лелеков, 1982, с. 152; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 914–915]; см. также по: [Елизаренкова, 1999в, с. 223–224; Арутюнов, 2003, с. 428–429; и др.]). Э. Бенвенист, по-видимому, вслед за И.П. Минаевым [1962, с. 10], полагал, что ведийское dasyu — дасья «употреблялось прежде всего в отношении иранцев и представляло собой имя, которым этот враждебный индийцам народ называл самого себя… по этой причине оно приобрело коннотацию враждебности и превратилось для индийских ариев в синоним обозначения варварского народа, стоящего на более низкой ступени развития» [1995, с. 211]. С Восточным Ираном и с северо-западной Индией связывает местонахождение даса/дасью и С.К. Чаттерджи [1977, с. 52]. Реконструкция Т.Я. Елизаренковой позволяет хотя бы отчасти ассоциировать этот мифодемонизированный образ врагов индоариев с комплексом Аркаима — Синташты. Предполагается раннедревнеиранский характер синташтинских памятников [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 854] или же их причастность к древнеиранскому этносу либо к восточно-иранскому диалекту скифской (аланской) группы, финно-угорскому и (пра)енисейскому языку при явном пре60 Сейминско-турбинские древности и индоарии обладании восточно-иранского субстрата [Михайлов, 1999, с. 430; 2002, с. 200–204; Иванов, 2004, с. 63]. Это подтверждает сопоставимость аркаимо-синташтинских сооружений с архаичным образом Вары, присущим устной древне- или протоиранской традиции до его зороастрийской редакции в Видевдате. Но к каким культурным группам восходят истоки этого же образа, фигурирующего в качестве «осенних крепостей» врагов индоариев в Ригведе? Сопоставимыми по уровню технологического развития противниками строителей укрепленных поселков и обладателей аркаимо-синташтинских колесниц могли быть либо абашевские сообщества с аналогичными транспортными средствами, либо создатели сейминско-турбинского оружия. В этом оружейном наборе имеются и «противоколесничные» копья с крюком, которые могли использоваться против абашевских, синташтинских и петровских колесничих [Черных, Кузьминых, 1989, с. 272]. Даты сейминско-турбинских памятников Сатыга XVI и Юринский могильник удостоверяют их частичную синхронизацию с синташтинскими материалами [Епимахов и др., 2005, с. 93, 97, табл. 3; с. 99–100, рис. 3; Юнгнер, Карпелан, 2005, с. 112; Епимахов, 2007, с. 406]. Поэтому, наряду с абашевским, сейминско-турбинский комплекс это единственный сопредельный и хронологически синхронный аркаимо-синташтинскому массиву культурный феномен, сравнимый с ним по уровню развития. Отмечается взаимодейставие сейминско-турбинского населения с зауральскими абашевско-петровскими, синташтинскими, приуральскими позднеабашевскими, поволжскими потаповскими и покровскими группировками. В Волго-Камье сейминско-турбинские материалы демонстрируют отчетливые абашевские и срубные связи [Соловьев, 2009, с. 95]. Приводятся свидетельства первоначальных столкновений абашевцев с сейминско-турбинскими группами (убитые воины в Пепкинском, Староардатовском и других могильниках), вытеснившими их с правобережья Волги в Волго-Вятское междуречье [Большов, 2003а, с. 71–72; 2003б, с. 53]. Локализация поздневолосовских поселений на труднодоступных для внезапного нападения мысах также связывается с эпохой, когда «мирное развитие поздневолосовских, абашевских и балановских племен прерывается вторжением на эту территорию сейминско-турбинского населения» [Большов, 2003б, с. 53]. Масштабные следствия этого эпохального процесса вызвали «дестабилизацию волгоуральской культурной среды» [Бочкарев, 2010, с. 58]. Импульс из среды «носителей турбинских металлургических традиций» представляется «катализатором процесса синташтинского культурогенеза» [Ткачев, 2007, с. 307, 312]. С сейминско-турбинским давлением связывается и смещение значительного массива синташтинского населения из Южного Зауралья в степное Приуралье и в районы тургайского прогиба [Ткачев, 1995, с. 169]. Предположение о конфронтации синташтинского и сейминско-турбинского населения [Черных, Кузьминых, 1989, с. 272] подтверждается близостью отдельных категорий их оружия и орудий, костяных панцирных пластин из Ростовки и Каменного Амбара 5 [Гончарова, Бехтер, 1999, с. 123–125; Большов, 2003а, с. 71]. Исследователи аркаимо-синташтинских комплексов отмечают «следы неоднократных пожаров и перестроек на поселениях. Причины пожаров остаются непонятными. Они не сопровождаются следами войны. Нет оружия, убитых людей. Отложение культурных слоев свидетельствует об исходе их жителей и о временном запустении протогородов» [Малютина, 1999, с. 119]. Следы пожара отмечены для самого Аркаима [Зданович, 1995, с. 25], и подобная же картина зафиксирована на укрепленном поселении Куйсак, где сожжена оборонительная система первого и конструкции второго строительного этапа [Малютина, Зданович, 1995, с. 103– 104]. На укрепленном поселении Аландское выделяются три слоя пожарищ, маркирующие три строительных горизонта синташтинского этапа [Зданович и др., 2007, с. 105]. Признаки пожара отмечаются и для синташтинско-петровского горизонта укрепленного поселения Каменный Амбар. Здесь следы огня и концентрация продуктов горения в двух исследованных постройках нарастают по мере приближения к оборонительной стене [Корякова и др., 2011, с. 66]. Это позволяет предполагать внешний источник возникновения огня и распространения пожара. Подобные пожары (помимо бытовых) и есть те «следы войны», «отсутствие» которых смущает представляющих иные последствия вооруженных столкновений. Но эпохальные особенности вооруженных конфликтов в конкретной исторической ситуации исключают картину изобилия брошенного оружия, массовых захоронений погибших и костяков воинов, оставшихся на поле боя. Тактика присущего номадам внезапного и молниеносного, возможно, ночного налета на укрепленный поселок имела целью не тотальное истребление его защитников, чреватое собственными потерями, а уничтожение самого поселения. Очевидны и сравнительно скромные ре61 И.В. Ковтун сурсы противоборствующих сторон. Поэтому археологическая фиксация конфронтации аркаимосинташтинских племен с их противниками сводится к отражению достигнутой цели нападения — сожженного и покинутого жителями поселения. Именно так и поступает с дасью сам Индра: «Ты низверг огонь с неба на дасью — сверху» [Ригведа, I. 33. 7]. О неуступчивости синташтинцев и петровцев свидетельствует отсутствие сейминскотурбинских комплексов на Южном Урале. Аркаимо-синташтинское, а затем петровское население данного региона «жестко контролировало этот меденосный район и сохраняло монополию на разработку рудников» [Ткачев, 2001, с. 4–5]. Предполагалось, что аркаимо-синташтинские укрепленные поселения воздвигались для охраны района медных месторождений [Кузьмина, 1994, с. 71]. Поэтому с приходом на восточные склоны Урала сейминско-турбинские мигранты воспользовались расположенными севернее месторождениями медно-мышьяковой руды ТашКазгана и медно-серебряной — Никольского, на которых базировался зауральский абашевский металлургический очаг [Черных, Кузьминых, 1989, с. 273]. Потерявшие же таш-казганскую рудную базу синташтинцы «были вынуждены искать альтернативные источники медной руды, которыми стали Еленовско-Ушкаттинские и близкие им рудоуправления в Мугоджарах» [Ткачев, 1995, с. 170]. Предполагая вклад абашевских и синташтинских племен в формирование собирательных праобразов даса и дасью, не следует ожидать однозначных культурно-исторических соответствий описаниям Ригведы. Масштабы противостояния и неприступность крепостей многократно преувеличены, что характерно для героического эпоса, элементы которого демонстрируют данные сюжетные фрагменты самхиты. Поэтому тотальная война Индры и его народа с даса и дасью никогда не найдет прототипического археологического подтверждения. В реальности конфликты перемежались с контактами и взаимодействием с «господином крепости», упоминающимися в Ригведе [Елизаренкова, 1999в, с. 211], а вождь даса восхваляется за защиту брахманов [Элиаде, 2009, с. 244] и принесенные жрецу ариев подарки [Ригведа, VIII. 46. 32; Елизаренкова, 1999б, с. 702], что также отразило неоднозначность исторических реалий. Это удостоверяет включенность даса в культурную общину ариев и отсутствие между ними этнического барьера [Елизаренкова, 1999б, с. 702]. Такая амбивалентность реликтов доведийского состояния, как и другие свидетельства мирных отношений и схожих представлений синташтинских и сейминско-турбинских сообществ, а равно включение в «ведийский этнос» дасов [Лелеков, 1982, с. 153] объясняются нелинейной филиацией индоиранского единства. Установленные следствия индоарийско-древнеиранского (протоиндоарийско-протоиранского) языкового взаимодействия отображают культурно-исторические реалии финала III — первых веков II тыс. до н.э. Э.А. Макаев, вслед за А. Мейе полагавший, что протоиндийский и протоиранский языки восходят к близкородственным, но различным индоевропейским диалектам, объяснял их соответствия долгим и тесным географическим и культурным контактированием [1977, с. 31, 36, 45, 46 и др.]. По другой версии, неединообразие позднейшего «общеиранского» состояния своими истоками уходит в индоиранский массив [Эдельман, 1992, с. 49, 53, 55, 64–65 и др.]. Глубочайшие рассогласования протоиранского и протоиндийского лингвистических состояний и несводимость акцентных систем этих языков и др. указывают на изначальную немонолитность индоиранского «единства» [Лелеков, 1988, с. 176]. При этом системные взаимопроникновения трудносочетаемых индоарийских и иранских элементов культуры [Лелеков, 1980, с. 122] отражают полиморфизм сосуществования и дивергенции этого немонолитного и неоднородного диалектного континуума индоиранской общности [Эдельман, 1992, с. 59, 60 и др.]. Культурно-историческая проекция подобного состояния моделирует ситуацию социо- и этнолингвогенеза «со “слипанием” различных и даже разноязыких родоплеменных группировок в более крупные объединения при весьма неравномерном, вернее непредсказуемом обмене культурными ценностями и элементами словаря» [Лелеков, 1980, с. 122]. Ключевыми участниками такого синтетического этнолингвокультурного взаимодействия и представляются сейминско-турбинские, синташтинские и абашевские группировки. Суммируем археологические свидетельства контактов между сейминско-турбинскими, синташтинскими и абашевскими племенами. Это металлические орудия «евразийского» типа из сейминско-турбинских комплексов, имеющие соответствия в синташтинских памятниках: топоры втульчатые, массивно-обушные, плоские топоры-тесла, долота узкие стержневидные и в одном случае втульчатое с разомкнутой втулкой, серпы [Черных, Кузьминых, 1989, с. 128; Дегтярева, 62 Сейминско-турбинские древности и индоарии 2010, с. 90, 92, 95, 98]. Аналогичные случаи отмечены и для оружейного комплекса, представленного наконечниками копий и ножами-кинжалами. Но подобные заимствования свидетельствуют не столько о контактах, сколько о вооруженных конфликтах. В Ростовке найден наконечник копья «синташтинского типа» с кованной относительно короткой разомкнутой втулкой и длинным листовидным пером [Черных, Кузьминых, 1989, с. 64–66, рис. 25, 1; Anthony, 2007, p. 447]. Аналогичные синташтинские копья «евразийского» типа происходят из Сеймы, Усть-Гайвы и Юринского могильника [Черных, Кузьминых, 1989, с. 64–66, рис. 25, 2, 3; Дегтярева, 2010, с. 122]. В Турбинском и Коршуновском могильниках имеются копья с коротким треугольным пером и удлиненной орнаментированной втулкой, напоминающие абашевские или синташтинское из Синташты II [Черных, Кузьминых, 1989, с. 64, 65, рис. 24, 1, 2; Дегтярева, 2010, с. 122], а также вислообушные топоры, наконечники копий и браслеты, фигурирующие в абашевских памятниках [Ткачев, 2001, с. 3; 2007, с. 280]. Предполагается также, что в сейминско-турбинских (и в позднеабашевских, петровском, покровских) комплексах более распространен морфологически близкий (?) отмеченному синташтинскому тип литого наконечника копья с ушком и валиком вдоль края втулки [Дегтярева, 2010, с. 122]. Сейминско-турбинскими металлургами заимствованы и некоторые типы «евразийских» черенковых ножей. Это изделия с удлиненным узким черенком и листовидным, реже подтреугольным клинком; с подромбическим или округлым удлиненным черенком, перехватом, ребром жесткости или без ребра; с ромбической пяткой черенка, перекрестьем, перехватом, в основном с ребром жесткости [Черных, Кузьминых, 1989, с. 101; Дегтярева, 2010, с. 103–104, 106, 109, 111]. На отдельных сейминско-турбинских пластинчатых ножах с выделенным массивным черенком появляется продольное укрепляющее ребро, заимствованное из абашевского, срубного или андроновского очага металлообработки [Черных, Кузьминых, 1989, с. 92, 94–95; Дегтярева, 2010, с. 104]. Наряду с привнесенными, изготовленными вне сейминско-турбинской среды вещами, зафиксированы изделия «евразийских» форм, сделанные из сейминско-турбинского металла. Выделяются и погребения абашевских инкорпорантов в Турбинском могильнике, а также захоронения в Ростовке, восходящие к синташтинско-петровскому пласту [Черных, Кузьминых, 1989, с. 224–225, 272, 274]. Отмечается, что «часть абашевцев включается в сейминскотурбинские отряды не только в Приуралье (Турбино), но и на Средней Волге, как о том свидетельствуют окские могильники Сейма и Решное» [Кузьминых, 2001, с. 18]. Абашевский компонент становится заметной частью сейминско-турбинского движения на запад, что удостоверяется абашевским металлом в Турбинском и Юринском могильниках и абашевскими сосудами в могильнике Решное [Большов, 2003б, с. 53]. Об отличных от соприкосновений с синташтинцами взаимоотношениях сейминско-турбинских и абашевских сообществ свидетельствует и использование первыми металлургической базы последних [Черных, Кузьминых, 1989, с. 273–274]. Возможно, именно на фоне подобных межкультурных взаимодействий и формировалось доведийское представление об иноплеменниках и врагах, позднее выведенных в Ригведе как даса — условные «абашевцы», которые, в отличие от подлежащих уничтожению дасью — условных «синташтинцев», могли включаться в состав индоарийских сообществ. Параллельно в синташтинских памятниках массово появляются наконечники копий, сопоставимые по пропорциям с сейминско-турбинскими, а значительную долю петровского металлокомплекса (1960–1680 гг. до н.э. [Епимахов и др., 2005, с. 100, рис. 3]) составляют изделия из оловянистых бронз [Ткачев, 2001, с. 4–5]. У синташтинцев же доля изделий из нехарактерных для них оловянных бронз достигала 5,3 %. Этот набор также отражает контакты с «турбинскими и петровскими племенами, которые являлись основными посредниками в распространении оловянной лигатуры» [Дегтярева, 2010, с. 88, 143]. В могильнике Кривое Озеро найден наконечник копья со «слепой» втулкой, напоминающий сейминско-турбинские, но с продольным ромбическим стержнем [Виноградов, 2003, с. 69, рис. 26, 1; с. 70; Anthony, 2007, p. 447]. В синташтинском погребении Танаберген II, 7/22, обнаружен модифицированный втульчатый топор-тесло, сопоставимый с сейминско-турбинскими кельтами, а синташтинские наконечники стрел демонстрируют тождество в оформлении нервюры, способах проковки и заточки пера с некоторыми сейминско-турбинскими вильчатыми наконечниками копий [Ткачев, 2007, с. 283, 287]. Сейминско-турбинским импортом в синташтинских погребениях у горы Березовой представляются ножпила и черенковый нож с выделенным подпрямоугольным массивным черешком и листовидным клинком без ребра (КТР НК–6 [Черных, Кузьминых, 1989, с. 95]) и, возможно, чекан-пробойник из Каменного Амбара 5 [Дегтярева, 2010, с. 94–95, 100, 104, 144]. 63 И.В. Ковтун Небезынтересны четыре кристалла горного хрусталя (один — дымчатый топаз) из погребения и в скоплениях в том числе у могил из Ростовки. Аналогичные минералы происходят из большого грунтового Синташтинского могильника, синташтинских могильников Каменный Амбар 5 и Большекараганского, а также из раннеалакульского Чистолебяжского некрополя [Матющенко, Синицына, 1988, с. 7, 9, 31, 36; Генинг, и др., 1992, с. 190–191; Михайлов, 1999, с. 427–431; 2001, с. 61–62; Зданович и др., 2002, с. 158]. Восходящие к раннему диалектному ареалу индоевропейского языка олицетворения горного хрусталя сводятся к мотивам холода и зимы, включая древнюю синонимичность понятий «кристалл», «лед» и «холод», а так-же представление о горном хрустале как о нетающем льде [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 682; Михайлов, 2001, с. 65]. Данный семантический план совместим с ведийским эпизодом уникального убийства Индрой глыбой льда (льдиной, снегом [Ригведа, VIII. 32. 26]) змееподобного демона Арбуды [Тилак, 2002, с. 300], в имени которого видятся названия горы и автохтонного племени [Топоров, 1994а, с. 98], противостоявшего индоариям. В погребениях Ростовки и Каменного Амбара 5 [Михайлов, 2001, с. 61–62] вместе с горным хрусталем найден азурит малахит [Матющенко, Синицына, 1988, с. 7]. Безотносительно к смысловому значению самой минералогической комбинации, сейминско-турбинский и синташтинский комплексы связывает совпадение уникального сочетания в одном захоронении двух аналогичных минералов. К таким соответствиям относится и находка бусины из бирюзы в петровском (раннеалакульском?) погребении могильника Верхняя Алабуга [Потемкина, 1985, с. 190, рис. 80, 8; с. 196–197], располагающей аналогом из вышеупомянутой могилы в Ростовке [Матющенко, Синицына, 1988, с. 7]. Обнаруженный вместе с верхнеалабужской бусиной двулезвийный нож соответствует массовому типу синташтинских ножей (ср. по: [Потемкина, 1985, с. 190, рис. 80, 11; Дегтярева, 2010, с. 109, табл. 12; с. 110–112]). Поэтому бусины из бирюзы свидетельствуют об одновременности южного влияния на синташтинско-петровское население и сейминско-турбинский коллектив Ростовки. Бусы из бирюзы отмечаются в качестве устойчивого признака петровских захоронений [Зданович, 1983, с. 63], а Е.Е. Кузьмина упоминает еще и о крестовидных бусах из бирюзы в Сопке II [1988, с. 52]. Свидетельством длительного обособления и взаимосвязанного раннего этнолингвогенеза индоарийской и древнеиранской ветвей, вероятно, являются и колодцы Аркаима, на дне которых зафиксированы побывавшие в огне жертвенные копыта, лопатки и закрепленные по кругу нижние челюсти коров и лошадей. Колодцы связаны воздуховодными каналами с поддувалами находившихся рядом металлургических печей [Зданович, 1995, с. 38]. Думается, здесь прослеживаются доведийские ритуальные установления и истоки сюжета с Тритой в колодце [Ригведа, I. 1. 105; Махабхарата…, гл. 35]. Возможно, к данным жертвенникам восходит идея мысленного исполнения сидящим в колодце Тритой жертвенного обряда как залога своего спасения (см. также: [Елизаренкова, 1989б, с. 604; Боголюбов, 2002, с. 87; Топоров, 2006, с. 482; Елизаренкова, Топоров, 2010, с. 170]). Индоевропейские и индоиранские истоки этого персонажа и его авестийской параллели — Трайтаоны [Топоров, 2006, с. 479–504], а равно древность самого образа Триты, предшествовавшего Индре в качестве героя основных мифов [Macdonell, 1897, p. 68–69; Елизаренкова, 1989а, с. 495], удостоверяют вероятность филиации подобного сюжетного мотива в преимущественно ираноязычной аркаимо-синташтинской среде. Обоюдному восприятию инокультурной технологии и элементов материальной культуры сопутствовали процессы языкового контактирования. Ранние индоарийские заимствования в финно-угорских языках [Абаев, 1972, с. 27–29, 36; 1981, с. 84–86; Гиндин, 1974, с. 154; 1992, с. 60; Барроу, 1976, с. 27–28; Лелеков, 1982, с. 157; Членова, 1984, с. 96–98; Кузьмина, 1997, с. 186; Редеи, 1997, с. 141–155; и др.] также могут удостоверять взаимодействие сейминскотурбинского и галичского населения с носителями данных диалектов. Некоторые подобные заимствования свидетельствуют о характере межэтнокультурных соприкосновений. Они также сводятся к противопоставлению индоариев — арья и неиндоариев — даса/дасью. Здесь необходимо абстрагироваться от многозначности самого термина «арья» [Макаев, 1977, с. 30–31; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 755, 924; Лелеков, 1982, с. 148–161; Елизаренкова, 1989а, с. 455; и др.]. Существенным в данном случае представляется его содержание в финских и финнопермских диалектах, где «арья» — «orja», как впервые было установлено А. Йоки, означает «раб» [Абаев, 1981, с. 85; Лелеков, 1982, с. 157; Редеи, 1997, с. 153; и др.]. В.И. Абаев считал, что данное заимствование с равным правом можно рассматривать как протоарийское, протоиндоарийское или протоиранское [1981, с. 85]. По Л.А. Лелекову, это безусловное свидетельство 64 Сейминско-турбинские древности и индоарии контактов «древних финнов» с индоариями [1982, с. 157]. К. Редеи определяет «orja» как финно-пермскую этимологию, относящуюся к ранним праиндоиранским заимствованиям [1997, с. 150, 153]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов относят «orja» к финно-волжским заимствованиям из раннеиранского [1984, с. 924]. Полную параллель приведенному значению «orja» являет архаическое индоарийское словоупотребление термина «даса» [Лелеков, 1982, с. 157]. В поздних частях Ригведы «даса» также употребляется в значении «слуга», «раб» [Барроу, 1976, с. 42; Эрман, 1980, с. 46; Елизаренкова, 1989а, с. 455–456; 1999в, с. 215; Васильков, 1996, с. 163; Элиаде, 2009, с. 244]. Аналогичная трактовка присуща и «дасью». С.К. Чаттерджи видел в покоренных даса либо рабов, либо шудр [1977, с. 78]. Э. Бенвенист полагал, что авестийскому обозначению ‘страны’, dahyu (древнее dasyu), в санскрите соответствует dasyu: «В авестийском и староперсидском dahyu значило ‘страна’; в ведийском же dasyu значило ‘раб-чужестранец’… Dasyu — это чужестранцы, с которыми приходилось сражаться ариям; это варвары, рабы… Таким образом, смысловое отношение между dahyu/dasyu отражает конфликт между индийскими и иранскими племенами» [1995, с. 211]. Еще в 1880 г. вероятность подобных взаимоотношений констатировал И.П. Минаев: «…зенд. дангку значит “провинция” и этимологически вполне соответствует санскр. дасью, но на индийской почве последнее слово значит только «разбойник», «враг» [1962, с. 10]. Вероятно, подобное состояние соответствует позднему значению dásyu — «грабитель, разбойник» [Барроу, 1976, с. 42]. Параллель между dāsa/dasyu в Ригведе и иранским *daha/*dahyu проводят и другие авторы: «…древнеперсидское слово dahyu, вначале являвшееся названием народа, проживающего на определенной территории, метонимически стало использоваться для обозначения данной территории, а затем в результате генерализации этого значения приобрело смысл “страна”». Таким образом, «в Синде, Панджабе и Восточном Иране жили даса-дасью, или даха-дахью» [Чаттерджи, 1977, с. 52, 75]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов также усматривают соответствие между др.-инд. Dāsa, dásyu- ‘чужеземное племя’ и др.-перс. dahyu- ‘область империи’ [1984, с. 917]. Для индоиранского языкового состояния в значении «раб», «чужой» восстанавливается *√ das- < и.-е. *√ des- (др.-инд. dasyu-) с указанием, что в иранском от этого корня образованы слова со значением «человек» [Герценберг, 1972, с. 57–58]. Здесь, вероятно, подразумевается daha — «человек» в хотанском, одном из восточно-иранских диалектов. Отсюда смысл dahyu, как производного от *√ das-, означал для древних иранцев «наиболее широкую общность людей в пределах данного племени и территории», тогда как «для индийцев этот же dahyu… представлялся как ‘раб-чужестранец’» [Бенвенист, 1995, с. 196, 211]. Известны и этногеографические наименования с таким корнем. Это прикаспийское племя Daser [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 917] и иранский народ Dahae [Барроу, 1976, с. 42; Бенвенист, 1995, с. 211], проживавший в области Dahistan (Дахистан) [Ghirshman, 1976, p. 618], на крайнем югозападе Туркменистана [Кузьмина, 2008, с. 226–227]. Отмеченное сопересечение содержательных планов и обусловило констатацию, что «др.-ир. dahyu- “страна” свидетельствует о каких-то интеграционных процессах, разрушивших преграды между древними фракциями, отсюда “раб” → “человек”» [Герценберг, 1972, с. 58]. Такие интеграционные процессы сопутствовали межэтнокультурному и межязыковому контактированию-противостоянию индоариев и древних иранцев. В результате же древнеиранский термин, обозначавший весь народ, всю страну, а позднее еще и каждую из стран империи [Герценберг, 1972, с. 60; Бенвенист, 1995, с. 211], в ведийской коннотации приобрел значение врагов и рабов. Вероятно, это следствие индоарийско-древнеиранских связей, ассоциируемых с сейминскотурбинским — аркаимо-синташтинским взаимодействием. В финно-угорской части этнически разнородного состава и окружения аркаимо-синташтинского населения [Иванов, 2004, с. 63] также сохранились следы уничижительности подобных лексико-семантических инверсий, указывающих на статус иноплеменника в чуждой ему социальной среде. Симметричная трансформация содержания «арья» у носителей финнских и финно-пермских диалектов до аналогичного значения «даса/дасью» у индоариев в отношении древних иранцев удостоверяет сложные взаимоотношения и этих этнокультурных сообществ. Но мансийское tas — «чужеземец», связываемое с индоарийским dasa — «неариец, раб» [Барроу, 1976, с. 28], напоминает о разделении индоариями своих оппонентов на безусловных антагонистов — дасью и условно инкорпорируемых противников — даса. Вероятно, контактировавшие с индоариями протоугроязычные предки манси относились к последним, и индоарийско-мансийские схождения это подтверждают. 65 И.В. Ковтун БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 26–37. Абаев В.И. Доистория индоиранцев в свете арио-уральских контактов // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н. э.). М.: Наука, 1981. С. 84–89. Абаев В.И. Slavo-avestica // ВЯ. 1982. № 2. С. 18–25. Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата / Пер. с авест., предисл., примеч. и словарь И. СтеблинКаменского. М.: Дружба народов: КРАМДС — Ахмед Ясави, 1993. 207 с. Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ. разд. И.В. Рака. Изд. 2-е, испр. СПб.: «Журнал “Нева”»: Летний Сад, 1998. 480 с. Арутюнов С.А. Современный антропологический состав населения Индостана и историческая ретроспектива его формирования (по материалам совместных советско-индийских этнографо-антропологических исследований 1970–1983 гг.) // Scripta Gregoriana. М.: Вост. лит., 2003. С. 421–439. Атхарваведа (Шаунака): В 3 т. / Пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Елизаренковой; Ин-т востоковедения. М.: Вост. лит., 2007. Т. 2. Кн. VIII–XII. 293 с. Бадер О.Н. Могильники турбинского типа, их возраст и связь с поселениями // АСГЭ. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. Вып. 6. С. 103–117. Барроу Т. Санскрит. М.: Прогресс, 1976. 411 с. Белова О.В., Петрухин В.Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М.: Наука, 2008. 263 с. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс-Универс, 1995. 456 с. Боголюбов М.Н. Ригведа I, 105. Трита в колодце // ВЯ. 2002. № 2. С. 86–89. Большов С.В. Абашевско-сейминские параллели: (К вопросу о датировке волго-вятской группы абашевских могильников) // Междунар. (XVI Урал.) археол. совещ. Пермь, 2003а. С. 71–72. Большов С.В. Средневолжская абашевская культура (по материалам могильников) // Тр. Марийской археол. экспедиции. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003б. Т. 8. 184 с. Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история. 2-е изд., доп. и испр. М.: Мысль, 1983. 206 с. Бочкарев В.С. Карпато-дунайский и волго-уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы: (Опыт сравнительной характеристики) // В.С. Бочкарев. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. СПб.: Инфо Ол, 2010. С. 53–59. Васильков Я.В. Даса, Дасью // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М.: Республика, 1996. С. 163. Вильхельм Г. Древний народ хурриты: Очерки истории и культуры. М.: Наука, 1992. 157 с. Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. 362 с. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историкотипологический анализ праязыка и пракультуры. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1984. Т. 1–2. 1328 с. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. 408 с. Герценберг Л.Г. Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках. Л.: Наука, 1972. 274 с. Гиоргадзе Г.Г. A. Kammenhuber, Die Arier im Vordern Orient, Heidelburg, 1968, 295 стр. // ВДИ. 1971. № 1. С. 120–123. Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. I // Этимология. 1970. М.: Наука, 1972. С. 272–321. Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. II: (К балкано-хетто-лувийским изоглоссам в преданатолийский период) // Этимология. 1972. M.: Наука, 1974. С. 149–159. Гиндин Л.А. Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и «Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков» В.М. Иллич-Свитыча // ВЯ. 1992. № 6. С. 54–65. Гончарова Ю.В., Бехтер А.В. Синташта и Сейма — враги и соседи // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. Челябинск: ЧелГУ, 1999. С. 121–125. Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вост. лит., 2007. 510 с. Григорьев С.А. Древние индоевропейцы: Опыт исторической реконструкции. Сер. Южный Урал: Природно-географические факторы и историко-культурные процессы. Челябинск: АНТ, 1999. 443 с. Гуревич Л.Л. О круглых городах древних иранцев // Зоны и этапы урбанизации: (Теоретические аспекты проблемы «Город и процессы урбанизации в Средней Азии»): Тез. докл. Ташкент, 1989. С. 48–49. Дандекар Р.Н. От вед к индуизму: Эволюционирующая мифология. М.: Вост. лит., 2002. 286 с. Дегтярева А.Д. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 2010. 162 с. 66 Сейминско-турбинские древности и индоарии Дремов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы. Томск: Изд-во ТГУ, 1997. 264 с. Дьяконов И.М. Арийцы на Ближнем Востоке: Конец мифа: (К методике исследования исчезнувших языков) // ВДИ. 1970. № 4. С. 39–63. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М.: Наука, 1990. 247 с. Дьяконов И.М. Прародина индоевропейцев: (По поводу книги Е.Е. Кузьминой «Откуда пришли индоарии?». М., 1994) // ВДИ. 1995. № 1. С. 123–130. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1986. 235 с. Елизаренкова Т.Я. Аорист в «Ригведе». М.: Изд-во вост. лит., 1960. 152 с. Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» — великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы. I–IV. Приложения. М.: Наука, 1989а. С. 426–543. Елизаренкова Т.Я. Примечания // Ригведа. Мандалы I–IV. Приложения. М.: Наука, 1989б. С. 544–757. Елизаренкова Т.Я. Мир идей ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V–VIII. Приложения. Изд. 2-е, испр. М.: Наука, 1999а. С. 452–486. Елизаренкова Т.Я. Примечания // Ригведа. Мандалы V–VIII. Изд-е втор., испр. Приложения. М.: Наука, 1999б. С. 526–731. Елизаренкова Т.Я. Слова и вещи в Ригведе. М.: Издат. фирма «Вост. лит.» РАН, 1999в. 240 с. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Трита в колодце: Ведийский вариант архаичной схемы // В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике. М.: Языки славянских культур, 2010. Т. 3: Индийские и иранские языки. Кн. 2. С. 168–171. Епимахов А.В. Относительная и абсолютная хронология синташтинских памятников в свете радиокарбонных датировок // Проблемы истории, филологии, культуры. 2007. № 17. С. 402–421. Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья // РА. 2005. № 4. С. 92–102. Зданович Г.Б. Основные характеристики петровских комплексов урало-казахстанских степей: (К вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: БашкГУ, 1983. С. 48–68. Зданович Г.Б. Аркаим: Арии на Урале, или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск: Каменный пояс, 1995. С. 21–42. Зданович Г.Б. Некоторые определения «pǔr» — крепостей «Ригведы» в контексте археологии укрепленных центров синташтинско-аркаимской культуры // Индоевропейская история в свете новых исследований. М.: МГОУ, 2010. С. 203–218. Зданович Г.Б., Малютина Т.С., Зданович Д.Г. Материалы к исследованию ранних этапов синташтинской культуры: (Укрепленное поселение Аландское) // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь: (К 70-летию Т.М. Потемкиной). Курган: Изд-во Кург. ун-та, 2007. С. 103–108. Зданович Д.Г. и др. Аркаим: Некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002. Кн. 1. 216 с. Иванов Вяч. Вс. К вопросу о возможной лингвистической интерпретации открытия Аркаима и Синташты // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей: Материалы к конф. Челябинск, 1999. С. 45–47. Иванов Вяч. Вс. Двадцать лет спустя: О доводах в пользу расселения носителей индоевропейских диалектов из древнего Ближнего Востока // У истоков цивилизации. М.: Старый сад, 2004. С. 41–67. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.: Наука, 1974. 342 с. Йеттмар К. Религии Гиндукуша. М.: Наука, 1986. 524 с. Кейпер Ф. Б. Я. Основополагающая концепция ведийской религии // Ф. Б. Я. Кейпер. Труды по ведийской мифологии. М.: Наука, 1986. С. 28–37. Клейн Л.С. Пути ариев: Полемические заметки о книге Е.Е. Кузьминой: Кузьмина Е.Е. Арии — путь на юг. М.; СПб.: Летний сад, 2008, 558 с., 12 карт, 71 табл. ил. // РА. 2010. № 3. С. 171–174. Ковалевская В.Б. Конь и всадник: История одомашнивания лошадей в евразийских степях, на Кавказе и Ближнем Востоке. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: КомКнига, 2010. 160 с. Ковтун И.В. Древнейшее скульптурное изображение лошадиных «причесок» в Северной и Центральной Азии // Тропою тысячелетий: К юбилею М.А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. С. 139–143. (Тр. САИПИ; Вып. 4). Ковтун И.В. Иконографические и смысловые планы ростовкинской композиции // Материалы и исследования древней, средневековой и новой истории Северной и Центральной Азии: Тр. музея археологии и этнографии Сибири ТГУ. Томск: ТГУ, 2010. Т. 3, вып. 1. С. 105–123. Кони, колесницы и колесничие степей Евразии / В.С. Бочкарев, А.П. Бужилова, А.В. Епимахов и др. Екатеринбург; Самара; Донецк: ЦИКР «Рифей», 2010. 371 с. Корякова Л.Н., Краузе Р., Епимахов А.В. и др. Археологическое исследование укрепленного поселения Каменный Амбар (Ольгино) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 4 (48). С. 61–74. Кузьмина Е.Е. Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии эпохи бронзы // ВДИ. 1988. № 2. С. 35–59. 67 И.В. Ковтун Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.: Рос. ин-т культурологии РАН и МК РФ, 1994. 464 с. Кузьмина Е.Е. Финно-угры и индо-иранцы: Динамика культурных связей // Балто-славянские исследования 1988–1996. М.: Индрик, 1997. С. 184–190. Кузьмина Е.Е. Методика этнической атрибуции и хронология памятников бронзового века Центральной Евразии // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. Челябинск: ЧелГУ, 1999. С. 268–270. Кузьмина Е.Е. Арии — путь на юг. М.; СПб.: Летний сад, 2008. 558 с. Кузьминых С.В. О некоторых дискуссионных проблемах бронзового века Среднего Поволжья (в связи с работами 70–90 гг. XX в.) // Вопросы древней истории Волго-Камья. Казань: Мастер-Лайн, 2001. С. 14–29. Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980. С. 118–125. Лелеков Л.А. Термин «арья» в древнеиндийской и древнеиранской традициях // Древняя Индия: Историко-культурные связи. М.: Наука, 1982. С. 149–163. Лелеков Л.А. Проблемы индоиранистики на современном этапе // НАА. 1988. № 6. С. 168–184. Лелеков Л.А. Йима // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл., 1994. Т. 1. С. 599. Лушникова А.В. Модель универсума древних календарей: (Лингвистическая реконструкция). М.: Сов. писатель, 2004. 258 с. Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. М.: Наука, 1977. 205 с. Малютина Т.С. «Квазигорода» эпохи бронзы Южного Урала и древний Хорезм // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. Челябинск: ЧелГУ, 1999. С. 119–120. Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Куйсак — укрепленное поселение протогородской цивилизации Южного Зауралья // Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Челябинск: ЧелГУ, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 100–106. Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. Томск: ТГУ, 1988. 136 с. Махабхарата. Книга девятая. Шальяпарва. М.: Ладомир, 1996. 352 с. Медведев А.П. Авестийский «Город Йимы» в историко-археологической перспективе // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. Челябинск: ЧелГУ, 1999. С. 283–285. Минаев И.П. Очерк важнейших памятников санскритской литературы // Избр. труды русских индологов-филологов. М.: Изд-во вост. лит., 1962. С. 9–50. Михайлов Ю.И. Божество «хрустального неба» в культурных традициях древнеиранского населения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Издво ИАЭТ СО РАН, 1999. Т. 5. С. 427–432. Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 363 с. Михайлов Ю.И. К проблеме определения этнокультурной принадлежности синташтинских памятников // Степи Евразии в древности и средневековье: Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. Кн. 1. С. 200–204. Мосин В.С., Григорьев С.А., Таиров А.Д. и др. История археологии Южного Зауралья: Учеб. пособие. Челябинск: ЧелГУ, 2002. 349 с. Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск: Удм. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. 268 с. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука, 1985. 376 с. Пьянков И.В. Аркаим и индоиранская вара // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей. Челябинск: ЧелГУ, 1999. С. 280–281. Редеи К. Древнейшие индоевропейские заимствования в уральских языках // Балто-славянские исследования 1988–1996. М.: Индрик, 1997. С. 141–155. Ригведа. Мандалы I–IV. М.: Наука, 1989. 767 с. Ригведа. Мандалы V–VIII. Изд. 2-е., испр. М.: Наука, 1999. 743 с. Ригведа. Мандалы IX–X. М.: Наука, 1999. 559 с. Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1989. 398 с. Селешников С.И. История календаря и хронология. М.: Наука, 1970. 224 с. Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М.: Наука, 1977. 82 с. Соловьев Б.С. Сейминско-турбинская проблема // Науч. Татарстан. 2009. № 2. С. 91–102. Солодовников К.Н., Тур С.С. Краниологические материалы елунинской культуры эпохи ранней бронзы верхнего Приобья // Ю.Ф. Кирюшин, С.П. Грушин, А.А. Тишкин. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I). Барнаул: Издво АлтГУ, 2003. Прил. I. С. 142–176. 68 Сейминско-турбинские древности и индоарии Стеблин-Каменский И.М. Примечания // Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата / Пер. с авест., предисл., примеч. и словарь И. Стеблин-Каменского. М.: Дружба народов: КРАМДС — Ахмед Ясави, 1993. С. 181–197. Стеблин-Каменский И.М. Арийско-уральские связи мифа об Йиме // Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Челябинск: ЧелГУ, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 166–167. Стеблин-Каменский И.М. Вступительные статьи // Гаты Заратуштры / Пер. с авест., коммент. и прил. И.М. Стеблин-Каменского. СПб.: Петерб. Востоковедение, 2009. С. 4–32. Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 528 с. Ткачев В.В. О соотношении синташтинских и петровских погребальных комплексов в степном Приуралье // Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Челябинск: ЧелГУ, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 168–170. Ткачев В.В. Сейминско-турбинский феномен и культурогенез позднего бронзового века в УралоКазахстанских степях // Уфим. археол. вестн. Уфа: НМ РБ, 2001. Вып. 3. С. 3–14. Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. 384 с. Топоров В.Н. Мифологизированные описания обряда трупосожжения и его происхождение у балтов и славян // Балто-славянские этнокультурные и археологические древности: Погребальный обряд. М.: Наука, 1985. С. 95–107. Топоров В.Н. Индоевропейский ритуальный термин soṷh1- etro- (-etlo-, -edhlo-) // Балто-славянские исследования. 1984. М.: Наука, 1986. С. 80–89. Топоров В.Н. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд. М.: Наука, 1990. С. 12–47. Топоров В.Н. Арбуда // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл., 1994а. Т. 1. С. 98. Топоров В.Н. Дадхикра // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл., 1994б. Т. 1. С. 347. Топоров В.Н. Совий // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл., 1994в. Т. 2. С. 447–458. Топоров В.Н. Авест. Θrita, Θraētaona, др.-инд. Trita и др. и их индоевропейские истоки // В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике. М.: Языки славянских культур, 2006. Т. 2: Индоевропейские языки и индоевропеистика. Кн. 2. С. 479–504. Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М.: Наука, 1999. 320 с. Фанталов А.Н. Культура Варварской Европы: Типология мифологических образов: Автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2001. 18 с. Хайду П. Уральские языки и народы. М.: Прогресс, 1985. 430 с. Халиков А.Х. К вопросу об этносе носителей сейминско-турбинской культуры // Археология и этнография Марийского края: Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы европейской части СССР. Йошкар-Ола, 1991. Вып. 19. С. 42–45. Хелимский Е.А. Южные соседи финно-угров: Иранцы, или исчезнувшая ветвь ариев («арии-андроновцы»)? // Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 502–510. Чайлд Г. Арийцы: Основатели европейской цивилизации. М.: Центрполиграф, 2009. 269 с. Чаттерджи С.К. Введение в индоарийское языкознание: Восемь лекций, прочитанных в 1940 г. в Гуджаратском обществе родного языка (Ахмадабад). М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1977. 256 с. Чаттопадхьяя Д. Локаята даршана: История индийского материализма. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 736 с. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии: (Сейминско-турбинский феномен). М.: Наука, 1989. 320 с. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древнейшая металлургия Северной Евразии: Проблема взаимосвязей производящих центров // Uralo-Indogermanica: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. М.: Наука, 1990. Ч. 2. С. 135–141. Членова Н.Л. Археологические материалы к вопросу об иранцах доскифской эпохи и индоиранцах // СА. 1984. № 1. С. 88–103. Членова Н.Л. Проблема прародины иранцев и древнейшие городища Южного Урала и сопредельных территорий // Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Челябинск: ЧелГУ, 1995. Ч. 5. Кн. 1. С. 177–184. Шер Я.А. Петроглифы — древнейший изобразительный фольклор // Наскальное искусство Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. Вып. 2. С. 28–35. Шетелих М. Черные противники ариев в «Ригведе» // ВДИ. 1991. № 1. С. 3–11. Эдельман Д.И. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // ВЯ. 1992. № 3. С. 44–66. Эдельман Д.И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М.: Вост. лит., 2002. 230 с. Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий. Изд. 2-е. М.: Акад. Проект, 2009. 622 с. Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы. М.: Наука, 1980. 231 с. Юнгнер Х., Карпелан К. О радиоуглеродных датах Усть-Ветлужского могильника: Прил. к ст. Соловьева Б.С. Юринский (Усть-Ветлужский) могильник (итоги раскопок 2001-2004 гг.) // РА. 2005. № 4. С. 112. Anthony D. W. The horse, the wheell, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. Princeton: Princeton Univ. Press. Princeton and Oxford, 2007. 553 p. 69 И.В. Ковтун Bryant E. The Qurst for the Origins of Vedic Culture. The Indo-Aryan Migration Debate. Oxford: Univ. Press, 2001. 387 p. Carpelan C., Parpola A. The Abashevo culture and the earliest history of the Indo-Iranian and Uralic (FinnoUgric) languages // Абашевская культурно-историческая общность: Истоки, развитие, наследие. Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 2003. С. 78–79. Ghirshman R. l'Iran et la migration des Indo-Aryens et des Iraniens // Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1976. Vol. 120. № 4. Р. 614–620. Gray R. D., Atkinson Q. D. Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin // Nature. 27 Nov. 2003. Vol. 426. P. 435–439. Lamberg-Karlovsky C.C. Archaeology and Language. The Indo-Iranians // Current Anthropology. February 2002. Vol. 43, N 1. P. 63–88. Macdonell A. A. Vedic mythology. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1897. 189 p. The Satapatha-Brâhmana. According to the text of the Mâdhyandina school. Translated by J. Eggeling. Part V. Books XI, XII, XIII, and XIV // The sacred books of the East. Translated by various oriental scholars and edited by F. Max Müller. Oxford: At the clarendon press, 1900. Vol. 44. 596 + 8 p. The Zend-Avesta. Part I. The Vendîdâd. Translated by J. Darmesteter. Second ed. // The sacred books of the East. Translated by various oriental scholars and edited by F. Max Müller. Oxford: At the clarendon press, 1895. Vol. 4. XXXIX + 390 p. Кемерово, Институт экологии человека СО РАН ivkovtun@mail.ru An expansion phenomenon regarding articles and technologies of the Seyima-Turbino metal industry of the Bronze Age in North Eurasia is correlated with divergence and migrations concerning native speakers of IndoAryan dialects. Subject to consideration being a result of sociocultural, interethnic and linguistic cooperation among big ethnocultural units on the territory of the Volga and Kama basin and North-West Asia at the end of III thous. — early centuries of II thous. B.C. The author argues in favour of the common nature between cultural and historical sources regarding images of Vara Videvdata and «autumn fortresses» of Rigveda, tracing back to fortified constructions of the Arkaim-and-Sintashta type. Subject to justification being predominance of the Indo-Aryan substrate within the Seyima-Turbino communities who mainly contacted and confronted with the Iranian-speaking population of the Arkaim-and-Sintashta cultural unit, as well as with its Finnish-Ugrian environment. Seyima-Turbino, Indo-Aryans, Vara, Rigveda, «autumn fortresses», Arkaim-and-Sintashta, puru. 70 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ПЕРЕХОДНЫХ ФОРМ В МАТЕРИАЛАХ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОБОЛО-ИШИМЬЯ1 В.М. Костомаров*, Ю.В. Костомарова** Рассматриваются основные элементы материальной культуры андроновских и андроноидных культур Тоболо-Ишимья. На основании сравнительного анализа выделяются синкретичные переходные образования, отражающие трансформацию одних традиций в другие. Бронзовый век, Тоболо-Ишимье, переходные формы, андроновские культуры, андроноидные древности, керамический комплекс, хозяйство, домостроительство. Культурно-исторический процесс в эпоху поздней бронзы на территории Тоболо-Ишимья связан с андроновскими и андроноидными племенами, оставившими памятники федоровской, черкаскульской, пахомовской, бархатовской и сузгунской культур. Для изучения этих древностей ключевым остается эволюционный подход, согласно которому федоровская линия развития в той или иной степени нашла продолжение в комплексах заключительного этапа бронзового века — сначала черкаскульских и пахомовских, а затем бархатовских и сузгунских. При этом учитывается, что на трансформацию влияли многие факторы (экологический, социальный) и процессы (интеграционные, миграционные, ассимиляционные), отчего она носила многолинейный характер. Очевидно, что федоровские традиции не эволюционировали в чистом неизменном виде. В связи с этим представляет особый интерес анализ их динамики, а также выявление переходных элементов, а возможно, периодов, культур, памятников, отражающих постепенное изменение. Рассмотрим основные черты материальной культуры хронологически последовательных групп населения, проживавшего в бронзовом веке на территории Тоболо-Ишимья. Характер археологических материалов позволяет утверждать, что федоровские группы прочно освоили лесостепные ландшафты Притоболья и Приишимья, имели мощные традиции декорирования керамики, ведения хозяйственной деятельности, домостроительства. В столь огромном ареале федоровская культура не была однородной, памятники имеют отличительные признаки, свидетельствующие о емком механизме адаптации населения к различным природным условиям. Тем не менее можно говорить о федоровском единстве, кроме того, отсутствуют достоверные данные, которые указывали бы на сосуществование этих групп населения с другими. Керамика федоровского типа характеризуется преобладанием сосудов слабопрофилированных форм, встречаются банки. В технике орнаментации превалируют гребенчатый штамп, вдавления — треугольные, круглые или овальные. Также представлены изделия, украшенные гладким штампом и резной техникой. Орнамент часто наносился по косой сетке и занимал верхнюю треть или две трети поверхности сосуда. Наиболее частые раппорты — зигзаги, наклонные и горизонтальные линии, из геометрических фигур — треугольники, меандры со сложной структурой [Зах, 1995; Матвеев, 2000, с. 29–30; Зах и др., 2008, с. 139; Стефанов, Корочкова, 2000, с. 47; Матвеев и др., 2002, с. 79]. Продолжая андроновскую линию развития, черкаскульские группы усвоили основные приемы изготовления и декорирования керамики. С федоровской посудой черкаскульскую сближают формы и пропорции, схема нанесения орнамента и отдельные раппорты (меандры на тулове, треугольники, геометрические фигуры). Однако есть и ряд отличительных особенностей, а именно заметная доля емкостей со слюдой и тальком, узор часто наносился не так аккуратно и тщательно. Одним из диагностирующих признаков черкаскульской посуды можно назвать каннелюры, расположенные на шейке сосуда, в некоторых случаях обрамляющие меандровые композиции и за редким исключением вписанные в композицию. Каннелюры могли располагаться практически во всех орнаментальных зонах. В некоторых случаях придонные части и днища сосудов были орнаментированы солярной свастикой, 1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Механизмы и содержание трансформаций и преемственного развития древних обществ Тоболо-Ишимья». 71 В.М. Костомаров, Ю.В. Костомарова выполненной протащенной палочкой. Кроме того, в керамическом комплексе черкаскульской культуры уменьшается доля сосудов, орнаментированных гребенчатым штампом, и возрастает количество емкостей, декорированных гладким штампом и прочерчиванием [Матвеев, 2000, с. 29–30, 37; 2007, с. 19–23; Костомарова и др., 2011]. Таким образом, несмотря на федоровский колорит, черкаскульская посуда имеет свою специфику, которая позволяет четко ее атрибутировать. В материалах поселения Ольховка выявлены отдельные признаки, характерные для бархатовской керамики заключительного этапа эпохи бронзы Зауралья [Матвеев, 2007]. Другая картина наблюдается при анализе декоративно-орнаментальных признаков пахомовской керамики. В отличие от черкаскульской, пахомовская традиция украшения сосудов в некотором смысле синкретична. Отличительной особенностью пахомовского декора является то, что андроновские элементы сочетаются с гребенчато-ямочными [Корочкова, 1987, с. 10–11; 2010, с. 56–60; Матвеев, Костомаров, 2011, с. 48–49]. Кроме того, пахомовские сосуды характеризуются наличием отдельных черкаскульских черт, а именно валиков и каннелюр, а также элементов, присущих еловской, ордынской, сузгунской керамике, представленных заштрихованными лентами, сеткой, упрощенными меандровидными узорами и др. Это, скорее всего, отражает эпохальную моду в декоре андроноидной керамики. Посуда сузгунской и бархатовской культур имеет свои отличительные особенности. Для бархатовских комплексов характерны профилированные горшки средних объемов, из уникальных элементов декора можно назвать жемчужины и «флажки», своеобразное украшение шейки и венчика — полоска, свободная от орнамента, окаймленная насечками или прочерченными линиями [Матвеев, Аношко, 2009, с. 249– 252; Сальников, 1967]. Сузгунский декор наиболее близок к пахомовскому, однако сами сосуды сильнее профилированы, имеют широкое горло и узкое дно, появляются жемчужины, возрастает доля простых узоров — наклонных отрезков, заштрихованных лент. Помимо этого, увеличивается доля гребенчато-ямочных элементов, что придает сузгунской керамике типичный таежный колорит [Полеводов, 2003]. Таким образом, в керамическом материале культур Тоболо-Ишимья можно увидеть четкую преемственность. Ведущей традицией, которая позволяет определить линию родства у всех этих культур, является федоровская. Классические андроновские черты орнаментики: меандры, треугольники, различные геометрические композиции и др. — присутствуют на черкаскульских и пахомовских сосудах, однако на последних четко прослеживается синкретизм пришлых андроновских и автохтонных гребенчато-ямочных традиций. В культурах последующего времени андроновские элементы практически изживаются, в обиходе остаются лишь некоторые элементы организации и композиции декора в сильно модифицированном виде. С точки зрения хозяйственной деятельности исследователями надежно аргументировано положение о том, что население федоровской культуры, проживавшее на рассматриваемой территории, вело комплексное производящее хозяйство, в основе которого лежало скотоводстве, а именно разведение крупного рогатого скота. Об этом свидетельствуют результаты палеозоологических определений костных остатков, обнаруженных на поселениях Притоболья — Дуванское XVII и Черемуховый Куст [Корочкова, Стефанов, 1983, с. 150; Стефанов, Корочкова, 2000, с. 67; Зах, 1995, с. 67; Зах и др., 2008, с. 138–140; Матвеев, 2000, с. 29–30, Косинцев, 2003, с. 163]. Трасологический и технологический анализ инвентаря с федоровских памятников Притоболья позволил дополнить и конкретизировать данные об основных домашних производствах оставившего их населения. Ведущую роль в структуре производств играла металлообработка. Эта отрасль характеризуется немногочисленными бронзовыми изделиями и более представительной коллекцией орудий труда, использовавшихся при их изготовлении, в процентном соотношении занимающей лидирующую позицию. В процессе изучения коллекций орудий труда определены изделия, использовавшиеся при обработке шкур (скребки, лощила, проколки), изготовлении посуды (лощила), дерево-, косте- и камнеобработке (топоры, долота и др). Федоровская система жизнеобеспечения нашла прямое продолжение у населения черкаскульской культуры. Хозяйственная деятельность последнего также базировалась на скотоводстве с преобладанием крупного рогатого скота в стаде. Об этом свидетельствуют материалы селищ Ольховка и Хрипуновское 1, расположенных в Притоболье [Матвеев, 2000, с. 15]. Сохранилось одинаковое соотношение домашних и диких видов животных. Неизменным остался и состав стада. Абсолютно аналогичен федоровскому набор орудий труда с черкаскульских памятников. Наиболее представительной является коллекция инвентаря, связанная с металлопроизводством. Сами бронзовые изделия по типологии сходны с андроновскими федоровскими и более позд72 К вопросу о выделении переходных форм в материалах эпохи поздней бронзы… ними андроноидными вещами. Технология же их изготовления копирует федоровские традиции, что подтверждается наличием на черкаскульских поселках тех же орудий труда, используемых в металлообработке, что и у обитателей селищ Дуванское XVII и Черемуховый Куст, и данными металлографического анализа [Дегтярева, Костомарова, 2011, с. 42]. Охота и рыболовство представляли собой вспомогательные отрасли, что аргументируется малочисленностью костных останков диких видов животных и соответствующего инвентаря (грузил, наконечников стрел). При выделке шкур и кож у черкаскульских мастеров большее распространение получили небольшие кварцитовые гальки и скребки из обломков керамической посуды. Кварцитовые гальки использовались и в керамическом производстве для лощения сосудов. На черкаскульских памятниках обнаружена серия изделий из стенок глиняных емкостей с обточенными на абразиве краями округлой и овальной в плане формы, но без следов применения. Поэтому вопрос об их функциональной принадлежности остается открытым. Возможно, они представляли собой заготовки для пряслиц или лощил или, как неоднократно предполагали исследователи, являлись предметом игры либо носили ритуальный характер [Кривцова-Гракова, 1948, с. 147; Потемкина, 1985, с. 65, 68; Матвеев, 2007, с. 30; Зах, 1995, с. 59]. Таким образом, в черкаскульских материалах четко прослеживается плавное эволюционное развитие федоровских традиций ведения хозяйства, что проявилось во всех без исключения отраслях: скотоводстве, металлообработке, кожевенном, ткацком, дерево-, косте- и камнеобрабатывающих производствах. Каких-либо ярких культуроопределяющих отличий, собственно черкаскульских черт на основе имеющегося в нашем распоряжении материала зафиксировать не удалось. Это, на наш взгляд, свидетельствует об определенной стабильности историкокультурной и экологической обстановки на территории Тоболо-Ишимья в рассматриваемый период и еще раз подтверждает точку зрения о генетической преемственности федоровского и черкаскульского населения. Вместе с тем в материалах черкаскульской культуры встречаются артефакты, аналоги которым характерны для культур финального этапа бронзового века. Так, на поселении Ольховка обнаружена небольшая глиняная катушка, являющаяся индикатором бархатовской культуры [Матвеев, 2007, с. 33]. На определенном этапе параллельно с черкаскульскими группами в Зауралье проживали и пахомовские племена. Об этом свидетельствуют материалы поселений Ново-Шадрино VII, Большой Имбиряй 10, Хрипуновское 1 [Корочкова, 1987, с. 12; Матвеев, Костомаров, 2011, с. 53]. Так же как у федоровского и черкаскульского населения, основой системы жизнеобеспечения пахомовцев было скотоводство. Однако состав стада претерпел существенные изменения. При общем доминировании останков крупного рогатого скота, произошло увеличение костей лошади и мелкого рогатого скота [Корочкова, 1987, с. 14; Косинцев, 2003, с. 164]. Исключением являются материалы городища Заводоуковское 11. На этом памятнике среди фаунистических остатков преобладают кости лошади, а процент мелкого рогатого скота очень низок [Аношко, Агапетова, 2010 с. 128]. Такое соотношение может объясняться локальной спецификой поселка, отражать зарождение традиций скотоводства, зафиксированного на бархатовских городищах, но может быть обусловлено и плохой сохранностью, малой выборкой костного материала. В отличие от федоровского и черкаскульского, в хозяйстве пахомовских групп существенно повышается роль присваивающих отраслей — охоты и рыболовства. На всех поселениях увеличилась доля костей диких животных и костяных наконечников стрел. О значимости рыболовства свидетельствуют многочисленные находки грузил для рыболовных сетей и их типологическое разнообразие, в большей степени проявившееся именно в пахомовских комплексах Притоболья [Матвеев и др., 2009, с. 7; Корочкова, 2010, с. 60]. Кроме того, обитатели пахомовских селищ занимались керамическим, металлообрабатывающим, кожевенным, ткацким, камнеи костеобрабатывающими и другими производствами. Как показал комплексный анализ орудий труда, перечень домашних производств, их технология находят самые ближайшие аналогии в комплексах федоровской и черкаскульской культур. Одним из основных являлась металлообработка, которая документируется находками различных бронзовых изделий, шлаков. Неизменным (федоровским) остался набор инвентаря, задействованного в кожевенном, ткацком деле и других отраслях. Однако коллекция орудий труда с пахомовских памятников демонстрирует большее отличие от федоровской, чем черкаскульская. оно заключается прежде всего в появлении форм предметов, аналоги которым встречаются, во-первых, в восточных андроноидных комплексах, сформировавшихся на несколько иной основе (еловская); во-вторых, на хронологически более поздних памятниках бархатовской, сузгунской и других культур. 73 В.М. Костомаров, Ю.В. Костомарова Изучение полученных в ходе раскопок палеозоологических коллекций позволяет характеризовать хозяйство бархатовских групп как комплексное, животноводческое в своей основе, но с заметной ролью присваивающих укладов — охоты и рыболовства. По сравнению с экономикой федоровских и лесостепных черкаскульских групп предшествующего времени у носителей бархатовской культуры значительно увеличилось количество лошадей в стаде за счет сокращения поголовья крупного рогатого скота [Аношко, 2006, с. 14]. Процент лошадей возрастает на более поздних памятниках этой культуры. Анализ бархатовских орудий труда позволяет сделать вывод о несколько меньшей роли охоты и рыболовства в структуре хозяйства бархатовцев, нежели пахомовцев. Домашние производства оставались неизменными, как и их технология. Ассортимент инвентаря типологически близок к федоровскому, черкаскульскому и пахомовскому. Индикаторным признаком являются катушки, единично встречавшиеся ранее и широко распространенные на каждом поселении и городище в бархатовское время. Однако затруднения в их функциональной атрибуции не позволяют сделать вывод об изменении технологии какого-либо производства. Сходная картина реконструируется по материалам синхронной сузгунской культуры [Потемкина и др., 1995, с. 104–105]. Таким образом, андроновским и андроноидным группам населения присуща единая скотоводческая направленность хозяйства. В черкаскульских материалах мы наблюдаем эволюцию федоровских черт практически в неизменном виде. Другая картина складывается при анализе и сравнении пахомовских комплексов. Основные домашние производства остались прежними, поскольку не изменилась их сырьевая база. В этих отраслях проявилась стабильность и преемственность с федоровскими традициями. Инновации проявились в увеличении орудий труда, использовавшихся в присваивающих отраслях — охоте и рыболовстве. Черты пахомовского хозяйства нашли прямое продолжение в экономике бархатовских и сузгунских групп. Домостроительные традиции федоровских, черкаскульских и пахомовских коллективов во многом схожи. Расположение поселков на берегах водотоков и водоемов, а также неукрепленный характер сближает их функционально. Все жилища были каркасно-столбовой конструкции, в неглубоких котлованах [Зах, 1995, с. 68–76]. Черкаскульские постройки близки к федоровским и по функциональному назначению и типологически [Берлина и др., 2011]. Пахомовские постройки в целом, как и черкаскульские, демонстрируют преемственность с федоровскими. В свою очередь, пахомовское и черкаскульское домостроительство сближают небольшой размер котлованов сооружений с малой глубиной. Данные типы построек встречаются и у сузгунского и бархатовского населения. При этом бархатовское и сузгунское население, кроме селищ, строило и городища с простой системой укрепления, что является не культурным индикатором, а следствием изменения социальной и политической обстановки в регионе. Таким образом, на основании сравнительного анализа основных черт материальной культуры населения позднего бронзового века Тоболо-Ишимья мы можем говорить о переходном (сочетающем в себе несколько традиций, которые четко диагностируются) характере пахомовских древностей. Основные ее характеристики находят аналогии в материалах предшествовавшей федоровской и последующих бархатовской и сузгунской культур. Кроме того, в пахомовских комплексах присутствуют признаки автохтонных, гребенчато-ямочных традиций орнаментики сосудов. Такая многокомпонентность свидетельствует о многообразии историкокультурных процессов в пахомовской среде. «Переходность» пахомовской культуры проявляется в вариациях декора керамики, ведении хозяйства, погребальном обряде, домостроительстве. В пользу этой точки зрения свидетельствует недолговременный по сравнению с другими период существования пахомовских групп населения, размытый ареал, синкретичность некоторых элементов. Пахомовское население, принимая участие в формировании бархатовских и сузгунских общин, в рассматриваемом контексте выступило своеобразным транслятором, в первом случае андроновских традиций, а во втором — и гребенчато-ямочных, эту идею высказывали исследователи и ранее в несколько более упрощенном виде [Корочкова, 1987]. При этом остается ряд вопросов, которые нуждаются в дополнительном исследовании, а именно: каким образом происходило взаимодействие автохтонного и андроновского населения, какой характер оно носило, на каких территориях складывалась пахомовская культура. Для решения этих задач необходимо обратится к материалам культур ранней и развитой бронзы, когда местное население впервые столкнулось с пришлыми андроновскими группами. Отдельные бархатовские черты фиксируются и в черкаскульских комплексах, однако они единичны. На сегодняшний день по рассмотренным материалам мы не можем выделить переходный период или 74 К вопросу о выделении переходных форм в материалах эпохи поздней бронзы… этап — как определенный хронологический отрезок, характеризующийся общими историкокультурными процессами, едиными на всей территории. Так, в один и тот же временной промежуток в Тоболо-Ишимье проживало разное в культурном отношении население (пахомовское, черкаскульское), имевшее отличное друг от друга происхождение, черты материальной культуры, вектор их развития. В этой связи интересно выявить конкретные памятники с синкретичными материалами, свидетельствующими о многообразии вариантов развития культурных традиция. Исследователи отмечали смешанный характер керамики некоторых поселений. Для изучения этой проблемы необходимо пополнение источниковой базы, систематизация уже накопленных материалов, дифференциация памятников в рамках каждой культуры (в частности, черкаскульских), а также сравнение комплексов позднего бронзового века Тоболо-Ишимья с расположенными на соседних территориях, что позволит выявить динамику и эволюцию культур региона в целом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Аношко О.М. Бархатовская культура позднего бронзового века Зауралья: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2006. 25 с. Аношко О.М., Агапетова Т.А. Новые данные по пахомовской культуре в Тоболо-Исетье // Андроновский мир. Тюмень, 2010. С. 118–137. Берлина С.В., Костомарова Ю.В., Костомаров В.М. Особенности архитектуры черкаскульского населения лесостепного Притоболья (по материалам селища Хрипуновское 1) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. № 2 (15). С. 79–88. Дегтярева А.Д., Костомарова Ю.В. Металл позднего бронзового века лесостепного Притоболья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. № 1 (14). С. 30–46. Зах В.А. Поселок древних скотоводов на Тоболе. Новосибирск: Наука, 1995. 96 с. Зах В.А., Зимина О.Ю., Рябогина Н.Е., Скочина С.Н., Усачева И.В. Ландшафты голоцена и взаимодействие культур в Тоболо-Ишимском междуречье. Новосибирск: Наука, 2008. 212 с. Корочкова О.Н. Предтаежное и южно-таежное Тоболо-Иртышье в эпоху поздней бронзы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1987. 27 с. Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы: (Андроноидные древности ТоболоИртышья). Екатеринбург, 2010. 104 с. Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Поселение федоровской культуры // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского Междуречья. Челябинск, 1983. С. 143–152. Косинцев П.А. Типология археозоологических комплексов и модели животноводства у древнего населения юга Западной Сибири // Новейшие археозоологические исследования в России. М., 2003. С. 157–174. Костомарова Ю.В., Костомаров В.В., Зевайкина И.С. Результаты исследования селища Хрипуновское 1 — новая политика эпохи поздней бронзы и раннего железного века на территории лесостепного Притоболья // AB ORIGINE. Вып. 3. С. 4–32. Кривцова-Гаркова О.А. Алексеевское поселение и могильник // Тр. ГИМ. М., 1948. Вып. 17. С. 59–164. Матвеев А.В. Лесостепное Зауралье во II — начале I тыс. до н.э.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2000. 50 с. Матвеев А.В. Черкаскульская культура Зауралья // AB ORIGINE: Проблемы генезиса культур Сибири. Тюмень: Вектор Бук, 2007. С. 4–42. Матвеев А.В., Аношко О.М. Зауралье после андроновцев: Бархатовская культура. Тюмень, 2009. 416 с. Матвеев А.В., Аношко О.М., Измер Т.С. Хроностратиграфические комплексы позднебронзового поселения Щетково-2 в Ингальской долине // Хронология и стратиграфия археологических памятников голоцена Западной Сибири и сопредельных территорий. Тюмень, 2002. С. 78–84. Матвеев А.В., Костомаров В.М., Костомарова Ю.В. К характеристике хозяйственной деятельности носителей пахомовской культуры лесостепного Зауралья // Вестн. ТюмГУ. 2009. № 7. С. 3–14. Матвеев А.В., Костомаров В.М. Пахомовские древности Западной Сибири // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. № 1 (14). С. 46–56. Полеводов А.В. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. 22 с. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука, 1985. 385 с. Потемкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. лесное Тоболо-Ишимье в конце эпохи бронзы. М.: ПАИМС, 1995. 207 с. Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с. Стефанов В.И., Корочкова О.Н. Андроновские древности Тюменского Притоболья. Екатеринбург, 2000. 106 с. 75 В.М. Костомаров, Ю.В. Костомарова *Тюмень, ИПОС СО РАН vkostomarov@yandex.ru **Тюменский государственный университет jvkostomarova@yandex.ru The article considers basic elements of material culture regarding the Andronovo and Andronoid cultures of the Tobol-and-Ishim basin. Basing on a comparative analysis, the authors select syncretical transition forms reflecting transformation of some traditions into different ones. Bronze Age, the Tobol-and-Ishim basin, transition forms, the Andronovo cultures, the Andronoid antiquities, pottery complex, economy, house building. 76 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА КАМЕННОЙ ПЛИТКИ С АНТРОПОМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ НА оз. СИНАРА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Н.Б. Виноградов*, Н.А. Чупрунова** Введена в научный оборот уникальная находка — плитка из талькохлорита, обнаруженная в слое городища раннего железного века Синарское 1. На четырех гранях плитки выгравированы пять изображений антропоморфного существа, в трех случаях со знаком мужского начала. Эти изображения представляют собой материализованную часть некоего повторявшегося во времени ритуала — воспроизведение одного и того же персонажа — мужчины — духа, предка, шамана. Южное Зауралье, древнее искусство, антропоморфные изображения, ритуал, ранний железный век, городище Синарское 1. Летом 2003 г. члены учебного объединения «Основы археологии» Дворца творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова г. Снежинска Миша Чупрунов и Дима Печенкин (руководитель — педагог дополнительного образования, руководитель краеведческого музея Дворца творчества детей и молодежи Н.А. Чупрунова) на площади городища раннего железного века Синарское I, в современном углублении для костра, сделанном в культурном слое нижней площадки памятника, обнаружили плитку талькохлорита с антропоморфными изображениями. Городище расположено на мысе «Небаской» («Петушок») на берегу оз. Синара на территории г. Снежинска Челябинской обл. (рис. 1, 2). Цель настоящей заметки — ввести уникальную находку в научный оборот. Рис. 1. Место расположения городища на мысе «Небаской» в черте г. Снежинска Челябинской обл. 77 Н.Б. Виноградов, Н.А. Чупрунова Рис. 2. Развертка изображений на гранях плитки из Синарского I городища (фото) Двухплощадочное Синарское I городище было открыто Г.В. Бельтиковой в 1998 г. [Бельтикова, 2006, с. 38]. В 1999 г. она исследовала верхнюю площадку памятника (100 м2). По сведениям автора раскопок, площадки Синарского I городища обживались многократно, с неолита до раннего средневековья. Однако культурный слой отложился в основном в раннем железном веке (гамаюнская и иткульская культуры). Предмет лежал под слоем углей, в горизонтальном положении. Верхняя поверхность прокалена до черного цвета. Остальные поверхности естественного серого либо серо-коричневого тона. Длина плитки не превышает 11,2 см. Размер в поперечнике — от 2,5 до 3,0 см. Плитка многогранная (не менее 6–7 различных по ширине граней), со сглаженными переходами от одной грани к другой. Оформление изделия и обработка поверхностей его граней произведены острым металлическим ножом. Движения инструмента при оформлении поверхностей боковых граней как продолжительные, так и короткие, явно предназначенные для выравнивания поверхности. Торцевые плоскости предмета также обработаны лезвием ножа. Отмечается и некоторое количество «технологических сбоев», когда инструмент отклонялся от заданного направления. Это могло быть связано не только с профессионализмом мастера, но и с особенностями структуры талькохлорита. Необходимо подчеркнуть два важных вывода из наблюдений за технологией изготовления предмета. Первый: предмет планировался мастером именно в таком виде, как законченное изделие. Второй: ни на одной из плоскостей изделия не обнаружено следов работы им. Таким образом, это не орудие, а именно изделие, предназначенное для иных целей. Изделие продолжительное время находилось в обращении, на что указывает значительная сглаженность поверхностей. На поверхностях основных граней плитки ясно различимы по меньшей мере пять изображений. Изображения также наносились ножом, поставленным под разным углом, в зависимости от требуемой ширины линий. Если планировалась тонкая, нитевидная линия, нож располагался к поверхности плитки под прямым углом. Если ширина линии, как планировал автор, должна быть большей, то нож располагался наклонно по отношению к плоскости, на которой создавалось изображение. В этом случае поперечное сечение желобка было треугольным. На плоскости «А» (рис. 2, 3) — одно изображение. Оно представляет собой сочетание двух разных по размерам ромбовидных фигур, соединенных широким желобком. Общая длина изображения в целом — 9,5 см. На вершине большего ромба — трехлепестковая фигура, явно вы78 Случайная находка каменной плитки с антропоморфными изображениями… полненная как самостоятельное дополнение к ромбу. Особо необходимо обратить внимание на слабо проработанную прямую линию, пересекающую под углом желобок, соединяющий ромбы, примерно на середине его протяженности. Рис. 3. Развертка изображений на гранях плитки из Синарского I городища На плоскости «Б» (рис. 2, 3) также одно изображение, по основным составляющим аналогичное описанному выше. И здесь две ромбовидные фигуры соединяет узкий желобок, прочерченный по мягкому материалу лезвием ножа. Общая длина изображения — около 9,0 см. Как и в предшествующем случае, больший по размерам ромб увенчан трехлепестковой фигурой, а соединяющий ромбы желобок под углом пересечен тонкой прямой линией. Отличие заключается лишь в продолжении соединительного желобка по внутреннему пространству большего ромба, как некоей осевой линии. Плоскость «В» (рис. 2, 3) содержит два изображения. Центральное место занимает изображение, аналогичное в целом описанным выше. Две достаточно вольно исполненные ножом ромбовидные фигуры соединяет широкий желобок, выполненный пятью отрезками. Общая длина изображения — 8,5 см. Больший по размерам ромб венчает «трилистник». Соединительный желобок ближе к большему по размерам ромбу пересекает под углом прямая линия. Отличия: здесь уже оба ромба рассечены вдоль надвое линией; над меньшим ромбом небольшой отрезок линии выходит за пределы ромба, продолжая его грань. Кроме того, уверенно намечена левая «рука» (?). Особенность описываемой плоскости предмета придает и наличие второго изображения, меньшего по размерам и явно выполненного после того, как было исполнено основное. Меньшее изображение вписано в свободное от большего пространство, что повлияло на передачу каноничных деталей. Больший по размерам ромб исполнен довольно небрежно. Меньший «ромб» лишь намечен как некое ограниченное пространство. Присутствует как соединяющая их линия, так и наклонная, пересекающая соединительную линию под углом. Плоскость «Г». Изображение на ней (рис. 2, 3) отличается по стилю от предшествующих. На одном ее окончании круговыми движениями острия ножа оформлена овальная площадка размерами 13×9 мм. В ее центре — небольшое продолговатое углубление. Ниже, с обеих сторон от овальной площадки,— три наклонные линии: две слева и одна справа. По продольной осевой плоскости, ниже овальной площадки,— широкий желобок (длина — до 30 мм, ширина — до 4 мм). У нижнего окончания желобка — три группы линий. Одна — три коротких параллель79 Н.Б. Виноградов, Н.А. Чупрунова ных желобка, пересеченных почти под прямым углом четвертым. Вторая — также из трех коротких параллельных желобков. Обе группы явно связаны с широким желобком, описанным выше. Третья группа линий находится в 5–6 мм ниже и представлена двумя короткими желобками. Один прямой, второй изогнут под углом. Третья группа линий хорошо соотносится с «трилистником» на предыдущей плоскости и понята как аналогичная. Какие образы воплощают рисунки на плоскостях описываемой плитки талькохлорита? Одна из возможных версий — канонически выполненный образ одного и того же антропоморфного существа. Образ стилизован буквально до знака. Полагаем, для создателей это означало безусловное прочтение его семантики и в таком исполнении. Для четырех из пяти антропоморфных изображений характерны три составляющие их части: меньший ромб или ромбовидная фигура (знак «головы»), больший ромб или ромбовидная фигура (обозначают ноги и в трех случаях, помимо ног, подчеркнутый знак мужского начала (?)) и соединительная линия или широкий желобок, обозначающий тело. У трех изображений персонажа плитки «туловище» пересечено наклонной линией. Можно лишь догадываться, что хотел изобразить с ее помощью мастер. Однозначного ответа пока нет. Вряд ли случайно, что на плоскостях «А» и «Б» изображения одинаково ориентированы. На плоскостях «В» и «Г» ориентировка их противоположна первым двум. Кто же многократно изображен с таким постоянством воспроизведения деталей? Почему многократно? Вряд ли эти изображения появились на всех гранях одновременно. Скорее, перед нами — материализованный результат некоего повторявшегося во времени ритуала, частью которого было появление очередного изображения одного и того же, описанного выше, персонажа — мужчины — духа, предка, шамана (?) — на одной и той же плитке талькохлорита. Об использовании ромба в древности для графического отображения антропоморфных существ свидетельствуют редкие наскальные рисунки Урала [Широков, Чаиркин, 2011]. Нельзя сказать, что ромб широко использовался в древних уральских антропоморфных изображениях на скалах. Однако подобные примеры есть. Это Зенковская писаница на р. Тагил, Исаковская I писаница на р. Реж [Там же, с. 79, рис. 53; с. 105, рис. 85]. Антропоморфные изображения «с хвостом или фаллосом между ног» исследователи уральских писаниц склонны относить к эпохе палеометаллов [Там же, с. 133]. Есть и уникальные примеры использования ромба для гравировки антропоморфного изображения на каменном навершии предположительно энеолитического времени, найденном у г. Нижнего Тагила [Сериков, 2002, с. 32, рис. 1]. Возможно, в будущем исследователи найдут аргументы для доказательства возможности «прочтения» семантического значения описанных выше изображений через иные сюжеты духовного мира обских угров и их графическое отражение [Калинина, 2007, с. 118, рис. 4, 1–3]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Бельтикова Г.В. Синарское I городище // Энциклопедия «Челябинская область». Челябинск: Каменный пояс, 2006. Т. 6. С. 38. Калинина И.В. Мезолитический субстрат в орнаментальной традиции обских угров // Миф, обряд и ритуальный предмет в древности. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2007. 260 с. Сериков Ю.Б. Каменное навершие с гравировками с восточного склона Среднего Урала // Вестн. САИПИ. 2002. Вып. 5. С. 31–33. Широков В.Н., Чаиркин С.Е. Наскальные изображения Северного и Среднего Урала. Екатеринбург, 2011. 182 с. *Челябинский государственный педагогический университет, vinogradov_n@mail.ru Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова г. Снежинска Челябинской обл. dt_hope@mail.ru Subject to introduction into a scientific circulation being a stone planch made of talcum peach, found in a layer of the Early Iron Age fortified settlement of Sinara 1. On four sides of the planch there are engravings of five images of an anthropomorphic creature, in three cases with a sign of machismo. These images represent a materialized part of a certain ritual periodically repeated, which part was an appearance of an image belonging to one and the same male character — as a spirit, an ancestor, and a shaman. South Trans Urals, ancient art, anthropomorphic images, ritual, Early Iron Age, fortified settlement of Sinara 1. 80 Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19) ХОЗЯЙСТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОГО И ПОДТАЕЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова Характеризуется хозяйственная деятельность населения бакальской и юдинской культур лесостепного и подтаежного Зауралья. Анализ остеологических коллекций и инвентаря со средневековых памятников показывает, что у бакальского населения лесостепного Зауралья ведущей отраслью хозяйства являлось подвижное скотоводство, вспомогательную роль играли охота, рыболовство и собирательство. Юдинское население, проживавшее преимущественно в подтаежной зоне, вело комплексное хозяйство, в котором сочетались охота, скотоводство, собирательство и ручные промыслы. Лесостепное и подтаежное Зауралье, бакальская и юдинская культуры, хозяйственнокультурный тип, подвижное скотоводство, комплексное хозяйство. Хозяйственная деятельность средневекового населения лесостепной и подтаежной зон Западной Сибири остается недостаточно изученной, что объясняется рядом обстоятельств — многослойностью средневековых объектов, компрессией слоев, исследованием памятников небольшими площадями, плохой сохранностью костных останков в песчаном грунте и т.д. Вместе с тем в последние годы накоплены материалы, позволяющие осветить некоторые аспекты хозяйства населения бакальской и юдинской культур. Хронологические рамки бакальской культуры охватывают IV–XIII вв. н.э. [Рафикова, 2011, с. 13–14]. Юдинскую культуру давно и безоговорочно атрибутируют как древнемансийскую, время ее существования определяется X–XIII вв. н.э., хотя, по некоторым новым данным, нижняя граница может быть опущена до VIII в. н.э. [Чикунова, Якимов, 2012]. Прежде чем реконструировать хозяйственную деятельность, рассмотрим ареалы культур и природно-климатические условия на территории лесостепного и подтаежного Зауралья в средневековый период. Территория распространения памятников бакальской и юдинской средневековых культур достаточно обширна и включает северную часть лесостепной и подтаежную зону западной части Западной Сибири. К лесостепной полосе относится территория от водораздела рр. Пышмы и Исети к югу до степной зоны. Это пологоувалистая равнина, расчлененная лощинами и долинами рек, наиболее крупные из которых — Тобол, Исеть, Ишим, Вагай. Тоболо-Ишимское междуречье отличается обилием озер и болот [Физико-географическое районирование Тюменской области, 1973, с. 144–162]. К северу от лесостепной зоны и до широтного отрезка р. Тавды располагается подтаежная зона. Территория подтайги представляет собой плоскую и пологоволнистую равнину. Крупных рек здесь нет, но бассейн Тобола и его притоки — рр. Тавда и Тура обладают достаточно густой речной сетью. Поймы рек, как правило, широкие. Озера также являются неотъемлемой частью подтаежной зоны [Там же, с. 126–143]. По палинологическим данным, приблизительно 1700 л.н. ландшафтный облик Притоболья и Приишимья начал меняться под воздействием умеренно-прохладных и более влажных условий. Период 1700–1400 л.н. характеризуется как наиболее влажное и прохладное время. Это привело к сокращению доли остепненных лугов и активному развитию лесов, особенно березовых, продвижению сосновых ленточных боров на юг, вдоль Тобола, Исети и Ишима. Снижение увлажнения проявилось около 1400–1100 л.н.; период 1100–1000 л.н. отличался кратковременным потеплением, что привело к увеличению доли лугов, однако кардинальных изменений в растительном ландшафте не произошло [Рябогина и др., 2005, с. 94]. Таким образом, на конец раннего железного века — начало средневекового времени приходится климатический кризис, продлившийся до второй трети I тыс. н.э. и приведший к сокращению луговых пространств. Колебания климата вынуждали средневекового человека вырабатывать новые стратегии поведения, варьировать направленность хозяйственной деятельности, адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. 81 Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова Характеризуя ареалы средневековых культур более подробно, отметим, что основная часть бакальских объектов расположена в северной части лесостепи, по рр. Тобол и Исеть, незначительное их количество находится на р. Ишиме. В подтаежной зоне на рр. Пышме, Туре и Тавде выявлены единичные памятники бакальской культуры (рис. 1). Площадь распространения памятников юдинской культуры, напротив, приходится на подтаежную зону, междуречье рр. Тура и Тавда; единичные поселения обнаружены в лесостепи (рис. 2). Рис. 1. Расположение памятников бакальской культуры: I — ритуальные комплексы и могильники; II — городища; III — поселения. 1 — Голый Камень; 2 — Петрогром; 3 — Вершина V; 4 — Чертово городище; 5 — Шарташские каменные палатки; 6 — Зотинское I; 7 — Зотинское III; 8 — Зотинское IV; 9 — Гусиное IV; 10 — Верхний Яр IV; 11 — Нижнеярское III; 12 — Суварышское; 13 — Бол. Мыльниковское; 14 — Мал. Мыльниковское; 15 — Тюриковское; 16 — Полевское; 17 — Бол. Бакальское; 18 — Ильинское; 19 — Кокоринская I; 20 — Прыговское III; 21 — Прыговское; 22 — Нечунаево II; 23 — Бабарыкина I; 24 — Бабарыкина II; 25 — Ваденниково III; 26 — Павлиново; 27 — Коршуново I; 28 — Мурзинское I; 29 — Мурзинское II; 30 — Папское; 31 — Мурзинское; 32 — Грачево-1; 33 — Барино-3; 34 — Усть-Терсюкское-1; 35 — Бархатово IV; 36 — Красногорское; 37 — Коловское; 38 — Слободо-Бешкильское; 39 — Яр VIII; 40 — Кузнецово I; 41 — Кузнецово III; 42 — поселение 2 у п. Дачного; 43 — Усть-Утякское; 44 — Борки-1; 45 — Нижне-Тобольное-1 (Савин-2); 46 — Боровое-2; 47 — Боровое; 48 — Суерь 1; 49 — Гладунино 3; 50 — Поспелово-2; 51 — Скородумское; 52 — Упоровское; 53 — Дачное-2; 54 — Устюг-1; 55 — Старо-Лыбаевское 1; 56 — Ревда 1; 57 — Юртобор III; 58 — Перейминский 1; 59 — Жилье; 60 — Козловский; 61 — Дуванское 30; 62 — Придуванское 1; 63 — Дуванское 22; 64 — Дуванское 1г; 65 — Дуванское XVIII; 66 — Чинги-Тура (Царево); 67 — Мылый Байрык I; 68 — Шарьянка; 69 — Цингалинское; 70 — Ивановское; 71 — Красноярское; 72 — Резаново I; 73 — Борковское; 74 — Логиновское; 75 — Абатский-3; 76 — Пахомовское; 77 — Кучум-гора; 78 — Коняшино Основные бакальские памятники, материалы которых были использованы в работе,— УстьТерсюкское-1, Коловское [Матвеева и др., 2008], Усть-Утякское-1 [Кайдалов и др., 2010, с. 71– 72], Бол. Бакальское [Генинг, Потемкина, 1961, с. 142; Морозов, 2003, с. 166] городища. Наиболее богатая зоологическая коллекция, соотносимая с бакальским слоем, получена на Царевом городище (исторический центр Тюмени). Характеристика состава зоологической коллекции юдинских объектов производилась по материалам городищ Барсучье, Криволукское, Святой 82 Хозяйство средневекового населения лесостепного и подтаежного Зауралья… Бор-5, изученных в 2001–2004 гг. Н.П. Матвеевой [Матвеева, Зайцева, 2005, с. 51–63; Матвеева, Бахарева, 2004, с. 174–184; Матвеева, Рафикова, 2005, с. 114–115]. Рис. 2. Расположения памятников юдинской культуры: 1 — гор. Санкино; 2 — гор. Куртумово; 3 — гор. Мишино, 4 — гор. Петрово; 5 — гор. Андроново; 6 — гор. Городищенское; 7 — гор. Ирбит; 8 — Ирбитское оз., грунт. мог.; 9 — гор. Юдинское; 10 — гор. Боровиково; 11 — гор. Липчинка; 12 — Молчановский клад; 13 — Пылаевский грунт. мог.; 14 — гор. Мохирево; 15 — гор. Демино; 16 — гор. Малахово; 17 — пос. Дуванское 1; 18 — пос. Придуванское 1; 19 — мог. Урачкино; 20 — гор. Богандинское; 21 — мог. Загородный Сад; 22 — пос. Андреевское 3; 23 — гор. Коняшино; 24 — гор. Андрюшин Городок; 25 — гор. Ипкуль13; 26 — гор. Барсучье; 27 — пос. Ключи; 28 — Лаксейская пещера; 29 — Шайтанская пещера; 30 — мог. Ликино; 31 — гор. Ликино; 32 — гор. Синдейское 2; 33 — гор. Оськино; 34 — гор. Заозерное 1; 35 — гор. Заозерное 2; 36 — гор. Золотая Горка; 37 — гор. Городокское 1; 38 — гор. Городокское 2; 39 — гор. Галкино; 40 — гор. Бол. Бакальское; 41 — Мурзинское; 42 — гор. Коловское; 43 — Новоникольское 1; 44 — Новоникольское 4; 45 — Потчевашское; 46 — Уки 2; 47 — Уки 1; 48 — гор. Шарьянка 1; 49 — гор. Черепаниха 2; 50 — гор. Татарские могилки; 51 — Святой Бор 1–3, гор.+сел.; 52 — сел. Лисий Бор 2; 53 — гор. Чечкино 1; 54 — гор. Янычково; 55 — гор. Криволуцкое; 56 — гор. Дуванское 28; 57 — гор. Дуванское 29; 58 — гор. Дуванское 30; 59 — гор. Задуванское 6; 60 — гор. Задуванское 8; 61 — гор. Задуванское 9; 62 — гор. Задуванское 10; 63 — пос. Подверчено 3; 64 — пос. Подверчено 4; 65 — гор. Русское Остеологический материал со всех средневековых памятников (табл.) указывает на преобладание костей домашних животных над останками диких, наиболее существенна эта разница для Царева городища (соотношение 26:1). Из домашних животных на Усть-Терсюкском-1 и Царевом городищах преобладают кости лошади. Основная часть костных остатков с Бол. Бакальского городища также принадлежит лошади, овце и свинье [Генинг, Потемкина, 1961, с. 142; Морозов, 2003, с. 166]. А на Коловском и Криволукском городищах кости крупного рогатого скота доминируют над останками лошади и мелкого рогатого скота. На Усть-Утякском-1 городище авторы раскопок отмечают преобладание костей домашних животных над останками диких (89,22 и 10,78 %), при этом среди первых ведущее место занимают кости крупного рогатого скота, затем следуют останки лошади и овцы [Кайдалов и др., 2010, с. 71–72]. 83 Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова Состав животных из зоологической коллекции средневековых памятников* Бакальская культура Усть-Терсюкское-1 Лошадь КРС МРС Псовые Верблюд Всего домашних 29 4 1 — — 34 Косуля Лось Лисица Куньи Бобр Птица Рыба Медведь бурый Всего диких 1 6 — — — — — — 7 Царево Коловское Домашние животные 438 90/21 373 218/37 300 64/16 2 3/3 6 — 1119 375 Дикие животные 9 8/4 5 13/6 11 1/1 — 1/1 — 6/4 15 6/? 2 1/? 1 — 43 36 Юдинская культура Криволукское Святой Бор-5 Барсучье 109/4 131/7 37/2 — — 277/13 3 3 — — — 6 61/2 4/1 2/1 1/1 — 68/5 — 7/2 — — 7/2 — — — 14/4 — 2 — — — — 1 — 3 — 2/1 — — 1/1 1/1 — — 4/3 * В числителе — количество костей, в знаменателе — минимальное число особей (посчитано только для Коловского и Криволукского городищ). Определение костей с Коловского городища осуществлено А. Поклонцевым и П. Колмогоровым, с Криволукского — А. Поклонцевым, Усть-Терсюкского и Царева городищ — Н. Пластеевой. В этнографии одним из главных критериев при определении хозяйственно-культурного типа и степени подвижности населения является соотношение доли скотоводства и земледелия в хозяйстве. Наличие земледелия в хозяйстве средневекового населения лесостепи Зауралья является дискуссионным вопросом. При оценке возможности развития данной отрасли в Зауралье можно отметить, что природные условия благоприятны во всей лесостепной и на юге подтаежной зоны. Маркерами земледелия являются земледельческие орудия, а также карпологический, палинологический и фитолитический материал [Рябогина, 2007, с. 63]. Работы по данной проблематике начаты в регионе сравнительно недавно. Анализ данных синхронных археологических культур Западной Сибири позволяет предположить наличие земледелия у потчевашского населения — на основании обнаружения в культурном слое городищ Бол. Лог и Мурлинское серпов [Могильников, 1987, c. 191]. Палеоботанические и археологические данные свидетельствуют о развитии данной отрасли хозяйства у населения Среднего Приобья и таежного Причулымья [Чиндина, 1991, c. 86; Рябогина, Иванов, 2008, c. 401; Рябогина, 2007, c. 65]. Сведений о занятии земледелием бакальского и юдинского населения немного. Возможно, малое количество земледельческих орудий в данном случае свидетельствует не столько о недостаточной изученности памятников, сколько о слабом развитии земледелия, в пользу других отраслей — охоты, рыболовства и домашних производств. Из всех орудий труда к земледельческим относится только серп, обнаруженный в бакальском жилище на Царевом городище (рис. 3, 5) [Рафикова, 2009, с. 156, рис. 79, 4]. Нельзя исключать его отношение к орудиям собирательства. По всей видимости, земледелие на территории Зауралья начинает возрождаться только с развитого средневековья. Преобладание костей домашних животных в зоологических коллекциях, отсутствие земледелия, вспомогательная роль охоты, рыболовства и собирательства указывают, что скотоводство являлось ведущей формой хозяйства у бакальского населения лесостепной полосы. Для более конкретного определения типа — кочевое, полукочевое, подвижное или оседлое — необходимо выяснить направленность скотоводства: экстенсивная или интенсивная. Г.Е. Марков считает, что под «кочевым» следует понимать такой вид кочевничества, при котором пастбищное скотоводство ведется в очень подвижной форме. Примитивное мотыжное земледелие либо отсутствует, либо имеет небольшое значение в хозяйственной деятельности. Могут существовать и прочие занятия — торговля, сопровождение караванов, охота, военный промысел. Полукочевой тип также основан на пастбищном экстенсивном скотоводстве и отличается только 84 Хозяйство средневекового населения лесостепного и подтаежного Зауралья… меньшей подвижностью и большей ролью вспомогательных видов деятельности, в первую очередь земледелия [Марков, 1976, c. 46; Артамонов, 1977, c. 7–9]. Более определенно о различиях данных типов хозяйства говорит А.И. Першиц, указывая, что «чистые» кочевники могли совмещать скотоводство с отхожими промыслами, охотой и т.п., но не с земледелием, как полукочевники [1994, c. 140–141]. Б.В. Андрианов полагает, что отличие между кочевым и полукочевым хозяйством незначительно, и рассматривает их как один тип [1985, c. 78]. Подвижное скотоводство, по мнению Г.Е. Маркова, представляет собой совокупность разнообразных видов экстенсивного и интенсивного скотоводства, которые доставляют основные жизнеобеспечивающие средства и осуществляются с помощью перегона или отгона скота на пастбище: от круглогодичного содержания на пастбищах до разных форм отгонного и полуоседлого скотоводства. Виды подвижного скотоводства различаются в зависимости от того, разводится мелкий или крупный рогатый скот, транспортные животные [Марков, 1981, c. 47]. При оседлом скотоводстве последнее играет только вспомогательную роль на фоне хорошо развитого земледелия. Рис. 3. Инвентарь памятников бакальской культуры: 1 — грузило (Коловское городище); 2, 3 — льячки (Усть-Терсюкское); 4, 6 — тесла (Усть-Терсюкское); 5 — серп (Царево); 7 — сопло (Старо-Лыбаевское) Проанализировав состав стада в бакальских комплексах, отмечаем, что доля лошади и мелкого рогатого скота достаточно велика и составляет для Коловского городища 27–39 %, Ца85 Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова рева — 21–27 % (показатели прочих памятников в силу малой выборки не учитывались). В то же время доля крупного рогатого скота превышает 30 % (Царево городище) и 48 % (Коловское), что свидетельствует о значительной интенсивной направленности скотоводства бакальского населения. Таким образом, значительная доля крупного рогатого скота в составе стада, отсутствие земледелия, занятие охотой, рыболовством, собирательством, наличие долговременных и сезонных построек, керамики собственного производства позволяют нам определить хозяйственно-культурный тип бакальского населения, проживавшего в лесостепной полосе, как подвижное скотоводство. Несмотря на незначительную выборку, для Криволукского городища также отмечаем преобладание костей крупного рогатого скота. Расположение памятника в лесостепной полосе говорит о том, что существовали предпосылки для развития подвижного скотоводства как ведущей формы хозяйства у населения юдинской культуры. Примерно равные доли костей домашних и диких животных в культурном слое памятников бассейна Тавды позволяют предположить, что скотоводство не играло ведущей роли в хозяйстве юдинского населения. Хозяйство было комплексным, в нем сочетались скотоводство, охота, рыболовство и собирательство, а также домашние ремесла, промыслы и обмен-торговля. Вопрос о зимнем содержании скота достаточно сложен. Археологами не зафиксированы следы загонов или стойл. Возможно, это связано со слабой изученностью неукрепленных поселений, где вероятность их фиксации достаточно велика. Одним из известных по этнографическим данным распространенных способов зимней кормежки животных являлась тебеневка. И.И. Завалишин сообщает: «Сибирские лошади в степных округах края живут жизнью лошадей киргизских. За исключением потребных для домашняго хозяйства, оне круглый год пасутся в степях на подножном корму; — весь надзор не простирается далее наблюдения за целостию табунов и за перегоном их с истощенных мест на невытравленныя» [1862, c. 46]. У башкир Зауралья еще в XIX — начале XX в. табунные лошади весь год находились на подножном корму, теплых помещений для них не строили и кормов на зиму запасали мало, лишь на самые неблагоприятные периоды. Использовалась сезонная смена пастбищ, при которой зимние пастбища находились близ поселений, где лошади выпасались вольно. А для крупного и мелкого рогатого скота устраивались специальные стойла [Мурзабулатов, 1979, c. 63–64]. А.С. Поклонцев указывает, что коровы не пригодны для тебеневки [2004, c. 193], поэтому для них необходимо устройство особых загонов. Вместе с тем, по данным К.Ф. Косарева, крупный рогатый скот также тебеневал, идя за лошадьми [1988, c. 11]. Помимо сена, для прокорма мелкого рогатого скота могли использовать ветки и кору деревьев, как это делали башкиры [Мурзабулатов, 1979, c. 67]. Увеличение доли крупного рогатого скота способствовало развитию мясомолочного животноводства. Это подтверждается результатами анализа нагаров с посуды Коловского, УстьУтякского, Красногорского, Барсучьего городищ. Так, доминирование фосфора, цинка, кальция, магния и никеля в нагарах с посуды Коловского городища указывает на преобладание в пище рыбных, мясных блюд с добавлением растительных ингредиентов, творога и сыра [Матвеева и др., 2007а]. Основой меню усть-утякского бакальца также были продукты животного происхождения: мясо, субпродукты и молоко. Молоко употребляли кипяченым или топленым, мясо варили, тушили, добавляли в композитные блюда [Кайдалов и др., 2006]. Содержание макро- и микроэлементов в составе нагаров с посуды Барсучьего и Красногорского городищ показывает преобладание в меню юдинского населения густых похлебок и супов, приготовленных на бульоне из мяса, субпродуктов с добавлением круп, съедобных растений, а также блюд из рыбы. При этом замечено, что доля кальция, индикатора молочных продуктов, наиболее велика в нагарах на посуде Красногорского городища; доли цинка и меди, служащие маркерами мясной пищи и субпродуктов, выше в образцах с Барсучьего городища [Матвеева и др., 2007а, б]. Охота, судя по результатам обработки остеологической коллекции, играла вспомогательную роль в хозяйстве населения лесостепи и одну из ведущих — у обитателей подтаежной зоны. Охотились на крупных животных — лося и косулю. При обращении к этнографическим данным отмечаем, что на территории Западной Сибири охотничий промысел являлся одним из распространенных занятий. Н. Рубакин сообщает: «Охотятся еще на лосей и на оленей, которых водится не мало. Можно сказать, что за этими зверями гоняются без всякого милосердия… Обыкновенно бывает так: если охотник убьет лося, то шкуру подчас же сдерет, мясо что получше и повкуснее, повырежет, а все прочее так бросает в лесу на съедение мухам и червям» 86 Хозяйство средневекового населения лесостепного и подтаежного Зауралья… [1908, c. 24]. Кроме этого следует учесть и расположение некоторых памятников на высоких мысовых выступах: крупные кости могли сбрасываться с обрыва, что лишает нас возможности получить достоверную информацию о пищевых приоритетах населения [Чикунова, 2011]. На Коловском, Криволукском и Барсучьем городищах найдены кости бобра (четырех, двух и одной особей соответственно). Известна ценность бобровой струи, которую используют в медицинских целях, а также шкурки бобра. Кости лисиц и куниц также свидетельствуют о развитии пушного промысла у средневекового населения. Судя по видам животных, охота на них велась преимущественно зимой. В.С. Елагин и В.И. Молодин полагают, что небольшое количество костей данных животных в культурном слое памятников связано с разделкой тушек на месте ловли или растаскиванием костей собаками [1991, c. 105]. Палеозоологи также указывают, что кости мелких рогатых животных, а следовательно, и пушных съедаются собаками без остатков [Поклонцев, 2004, c. 193]. Об охоте на пушных зверьков говорят и наконечники стрел с затупленным концом, зафиксированные нами на городищах Усть-Терсюкском, Царевом и Черепаниха 2 (рис. 4, 3), применявшиеся с целью оглушить животное, не испортив шкурки [Патканов, 1891, c. 29]. Рис. 4. Инвентарь памятников юдинской культуры: 1, 2, 4 — железные ножи; 3 — железный наконечник стрелы (срезень); 5, 6 — железные рыболовные крючки; 7 — костяное долото; 8–10 — фрагменты керамических тиглей; 11 — керамическая льячка; 12 — керамический скребок; 13 — костяной струг для обработки дерева или шкуры Об употреблении в пищу мяса птиц свидетельствует обнаружение их костей в культурном слое памятников. Кроме того, вильчатые и тонкие иглообразные наконечники стрел использовали, по мнению ряда авторов, именно при охоте на птиц [Патканов, 1891, c. 29; Коников, Худяков, 1981, c. 186; Елагин, Молодин, 1991, c. 105]. Об охоте на них говорят и письменные источ87 Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова ники: «По всей Западной Сибири бойня птиц идет еще сильнее и ожесточеннее, чем бойня зверей… Мало того, что убивают животных, остяки и русские каждую весну еще ездят на лодках собирать гусиные и утиные яйца. Их привозят целыми лодками» [Рубакин, 1908, с. 28]. Рыболовство также являлось вспомогательной отраслью в хозяйстве средневекового населения. Незначительное количество в зоологических коллекциях бакальских памятников костей рыб объясняется, скорее всего, их плохой сохранностью. В некоторых жилищах Царева городища были зафиксированы линзы рыбной чешуи (к сожалению, определение видов рыб еще не проведено). Рыболовные снасти на бакальских памятниках, кроме единственного фрагмента грузила с Коловского городища (рис. 3, 1), пока не обнаружены. Возможно, отсутствие рыболовных принадлежностей в культурных слоях бакальских памятников объясняется изготовлением их из дерева. В коллекциях инвентаря юдинских памятников, расположенных по берегам рек, имеются железные рыболовные крючки, предназначенные для ловли как мелкой, так и крупной рыбы (рис. 4, 5, 6) [Могильников, 1987, с. 318, табл. LXX, 11; Чикунова, 2011]. Собирательство археологически зафиксировать невозможно, но этнографические данные говорят о значительном развитии данной отрасли хозяйства. Интересно замечание Е.Г. Федоровой о том, что древность собирательства подтверждается лексическими материалами: слова «ягода», «черемуха», «морошка», «кедр» находят параллели в языках уральской лингвистической семьи [2000, c. 79]. Объектами собирательства в лесной и лесостепной полосе могли быть ягоды, травы и коренья. Несомненно, развивались и домашние промыслы. Ручное производство глиняной посуды требовало больших знаний о свойствах глиняного теста и различных его компонентов (отощителей и т.д.), влиянии на просушку добавок, особенностей качественного обжига и т.д. О металлообрабатывающем и/или литейном производстве свидетельствует обнаружение сопла (городище Старо-Лыбаевское-1), фрагментов тиглей и льячек (городища Усть-Тер-сюкское-1, Святой Бор-5, Черепаниха 2) (рис. 3, 2, 3, 7; 4, 8–11). Также встречены многочисленные следы металлообработки в виде кусков шлака, следов ошлаковки на стенках сосудов, капли и кусочки бронзы и железа (городища Коловское, Усть-Утякское, Усть-Терсюкское-1, Черепаниха 2). Находки глиняных пряслиц говорят о занятиях прядением и ткачеством. Сырьем могла служить шерсть мелкого рогатого скота, а также подходящие для данной отрасли растения, например крапива или конопля. Развито было и кожевенное производство. В коллекции инвентаря с юдинского городища Черепаниха 2 имеются керамические скребки и костяной струг (рис. 4, 12, 13). Как показало трасологическое исследование, они могли использоваться для обработки и выделки шкур1. В бакальском жилище Царева городища расчищен берестяной туесок, внутри которого лежало несколько кусочков хорошо выделанной кожи. Следы аккуратных разрезов и качество выделки позволяют предположить, что ее использовали для украшения одежды. Из кости изготавливали наконечники стрел, использовавшиеся преимущественно на охоте, некоторые орудия труда, украшения. Обработка дерева, несомненно, была хорошо развита у средневекового населения, о чем косвенно свидетельствуют многочисленные и разнообразные железные ножи, традиционно использовавшиеся и в этом деле (рис. 4, 1, 2, 4, 7). Для изготовления домашней утвари широко применялась береста. В культурных слоях памятников лесостепного и подтаежного Зауралья она сохраняется редко, чаще встречается на более северных территориях [Алексашенко, 2003, с. 32–37; Угорское наследие…, 1994, с. 76, рис. 34, 35; с. 129–130]. Таким образом, хозяйственным типом бакальского населения в лесостепной зоне являлось подвижное скотоводство, характеризующееся совмещением интенсивного (разведение коров) и экстенсивного (значительная доля лошади и мелкого рогатого скота в стаде, присваивающих отраслей хозяйства) направлений. Вспомогательную роль играли охота, рыбная ловля и собирательство. Средневековое население лесостепи Зауралья постепенно переходило к оседлому образу жизни, которого достигло, скорее всего, в конце развитого — начале позднего средневековья посредством развития земледельческой отрасли при утрате скотоводством доминирующего положения. В подтаежной зоне хозяйство средневекового юдинского населения являлось комплексным, сочетавшим скотоводство, охоту, рыболовство и собирательство для обеспечения пропитания. Важными отраслями хозяйства можно назвать обработку дерева и кожи, гончарство, металлообработку. Как показали исследования почвы городища Черепаниха 2, культурный слой его сильно трансформирован вследствие постоянной активной жизнедеятельности 1 Определение С.Н. Скочиной. 88 Хозяйство средневекового населения лесостепного и подтаежного Зауралья… в течение двух-трех веков, что, в свою очередь, предполагает оседлость [Чикунова, Якимов, 2012]. Не исключено, что важную роль, особенно на границах ареала, играли также торговообменные отношения. Это убедительно подтверждается наличием в коллекциях средневековых памятников предметов инокультурного происхождения [Чикунова, 2012]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Архивные материалы Генинг В.Ф., Потемкина Т.М. Большое Бакальское городище // Архив ИА РАН. Р-1. № 2362. 1961. С. 133–165. Рафикова Т.Н. Отчет о спасательных археологических раскопках на территории охраняемого культурного слоя в г. Тюмени (Царево городище) в 2008 г. (графическое приложение) // Архив сектора археологии и этнографии ИГИ ТюмГУ. 1/202. 2009. Чикунова И.Ю. Раскопки городища Черепаниха 2 в Нижнетавдинском районе Тюменской области // Архив ЛА ИПОС СО РАН. № 7/13. Тюмень, 2011. Литература Алексашенко Н.А. Берестяные изделия с археологических памятников севера Западной Сибири // Угры: Материалы VI Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск, 2003. С. 32–37. Андрианов Б.В. Неоседлое население мира (историко-этнографическое исследование). М.: Наука, 1985. 280 с. Артамонов М.И. Возникновение кочевого скотоводства // Проблемы археологии и этнографии. Л., 1977. Вып. 1. С. 4–13. Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба в начале I тысячелетия н.э. Новосибирск: Наука, 1991. 126 с. Завалишин И. Описание Западной Сибири. М.: Тип. Грачева и К., 1862. Т. 1. 414 с. Кайдалов А.И., Гайдученко Л.Л., Сечко Е.А. Средневековое население городища Усть-Утяк-1 // Емельяновские чтения: Материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. (Курган, 19–20 апреля 2006 г.). Курган, 2006. С. 26–27. Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Колмогоров П.А. Средневековый комплекс городища Усть-Утяк 1: Интерпретация и хронология // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2010. № 2 (13). С. 68–74. Коников Б.А., Худяков Ю.С. Наконечники стрел из Искера // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1981. С. 184–188. Косарев М.Ф. О движущих силах экономического развития в древние эпохи (по урало-сибирским материалам) // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск: УрГУ, 1988. С. 4–14. Марков Г.Е. Кочевники Азии. М.: Изд-во МГУ, 1976. 317 с. Марков Г.Е. Классификация скотоводства и дефиниции // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. С. 45–48. Матвеева Н.П., Бахарева Т.Н. Средневековое городище Святой Бор-V в лесном Зауралье // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург, 2004. С. 174–184. Матвеева Н.П., Берлина С.В., Рафикова Т.Н. Коловское городище. Новосибирск: Наука, 2008. 240 с. Матвеева Н.П., Зайцева Е.А. Исследование средневекового городища Барсучье в лесном Зауралье // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2005. №. 5. С. 51–63. Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Рафикова Т.Н. Изучение диеты средневековых насельников Зауралья // Экология древних и традиционных обществ: Докл. конф. Тюмень, 2007а. Вып. 3. С. 111–116. Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Рафикова Т.Н. Изучение пищи средневекового населения лесного Зауралья по нагарам на посуде // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2007б. №. 7. С. 110–119. Матвеева Н.П., Рафикова Т.Н. Новые данные о юдинской культуре (по материалам Криволукского городища) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2005. №. 6. С. 105–116. Могильников В.А. Угры и самодийцы Урала и Западной Сибири // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М.: Наука, 1987. С. 163–235. (Археология СССР). Морозов В.М. Бакальская культура, бакальский тип памятников: К истории изучения // Междунар. (XVI Урал.) археол. совещание: Материалы междунар. науч. конф., 6–10 окт. 2003 г. Пермь, 2003. С. 166–167. Мурзабулатов М.В. Скотоводческое хозяйство зауральских башкир в XIX — начале XX в. // Хозяйство и культура башкир в XIX — начале XX в. М., 1979. С. 62–77. Патканов С. Тип остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказаниям. СПб., 1891. 74 с. Першиц А.И. Война и мир на пороге цивилизации: Кочевые скотоводы // Война и мир в ранней истории человечества. М., 1994. Т. 2. С. 131–229. 89 Т.Н. Рафикова, И.Ю. Чикунова Поклонцев А.С. Этноархеологические исследования скотоводства казахского типа // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2004. № 5. С. 192–194. Рафикова Т.Н. Бакальская культура лесостепного и подтаежного Тоболо-Ишимья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2011. 19 с. Рубакин Н. Рассказы о Западной Сибири или о губерниях Тобольской и Томской и как там живут люди. М., 1908. Рябогина Н.Е. Палеоботанические индикаторы древнего земледелия в Западной Сибири // Экология древних и традиционных обществ: Докл. конф. Тюмень, 2007. Вып. 3. С. 63–66. Рябогина Н.Е., Иванов С.Н. Палеоботаническая аргументация древнего и средневекового земледелия в Западной Сибири // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. М., 2008. Т. 3. С. 400–402. Рябогина Н.Е., Иванов С.Н., Семочкина Т.Г. Изменение палеогеографических условий ТоболоИшимья в среднем и позднем голоцене как основа для реконструкции среды обитания древнего человека // Проблемы взаимодействия человека и природной среды. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2005. Вып. 6. С. 85–96. Угорское наследие: Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета. Екатеринбург, 1994. 159 с. Федорова Е.Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: Проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб.: Европейский Дом, 2000. 367 с. Физико-географическое районирование Тюменской области. М.: Изд-во МГУ, 1973. 246 с. Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья: (Релкинская культура). Томск: Изд-во ТГУ, 1991. 184 с. Чикунова И.Ю. Этнокультурное взаимодействие в южнотаежном Притоболье в средневековье // Материалы II Междунар. конгр. средневековой археологии Евразийских степей. Барнаул, 2012. С. 96–98. Чикунова И.Ю., Якимов А.С. Городище Черепаниха 2: К вопросу об определении статуса // Урал. ист. вестн. Екатеринбург, 2012. В печати. Тюмень, ИПОС СО РАН TNRafikova@yandex.ru chikki@rambler.ru The paper describes an economic activity regarding a population of the Bakalovo and Yudino cultures from the forest steppe and sub-taiga Trans Urals. The analysis of osteological collections and inventory from medieval sites indicates that a leading economic branch for the Bakalovo population from the forest steppe Trans Urals was a mobile cattle breeding with a subsidiary role of hunting, fishing, and gathering. The Yudino population mainly inhabiting the sub-taiga zone led a complex economy combining hunting, cattle breeding, gathering, and homecraft industries. Forest steppe and sub-taiga Trans Urals, the Bakalovo and Yudino cultures, economic-and-cultural type, mobile cattle breeding, complex economy. 90