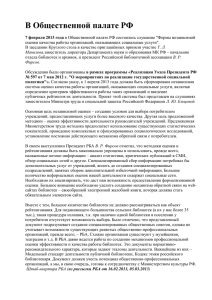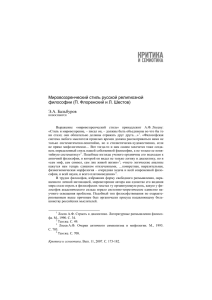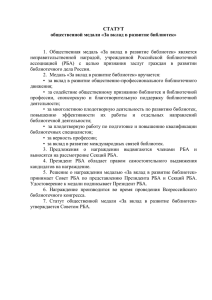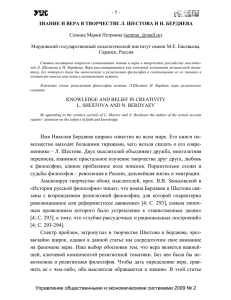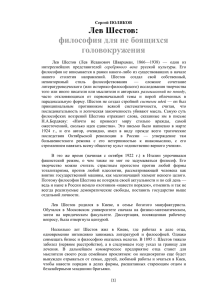ПОВЕСТЬ «ВРАТА РАЯ» Е. АНДЖЕЕВСКОГО И РУССКИЙ
реклама

УДК 821.162.1 ББК 83.3 (4Пол) М 21 Мальцев Л.А. Повесть «Врата рая» Е. Анджеевского и русский экзистенциализм: проблема грехопадения (Рецензирована) Аннотация: В статье анализируется экзистенциальное содержание повести Анджеевского «Врата рая» в контексте идей Шестова и Бердяева. Сопоставляются философские интерпретации и художественные версии истории грехопадения из Книги Бытия, в связи с чем уточняется специфика влияния Достоевского на экзистенциалистское творчество русских философов и польского писателя. Ключевые слова: Экзистенциализм, проблема искушения и грехопадения, диалог литературы и философии. Maltsev L.A. The story of J. Anrdzejewski «The Gate of Paradise» and Russian existentialism: Problem of the fall Abstract: An analysis is made of the existential content of J. Anrdzejewski’s story «The Gate of Paradise» in a context of Shestov’s and Berdyaev’s ideas. Philosophical interpretations and artistic versions of a history of the fall from the Book of Life are compared. In this connection specificity of influence of Dostoevsky on existential creativity of Russian philosophers and the Polish writer is specified. Key words: Existentialism, problem of a temptation and the fall, dialogue of the literature and philosophy. Повести Ежи Анджеевского «Мрак покрывает землю» (1956) и «Врата рая» (1960) составляют «средневековый» диптих в качестве не только «политической аллегории» [1: 30-42], но и экзистенциалистской параболы о назначении человека и об искушении как прообразе дисгармоничных отношений мира и человека. В повести «Врата рая», в которой изображается крестовый поход детей, поиск истины оборачивается блужданиями, причина которых – в самом человеке, расколотом между императивом святости и падшим состоянием. Поэтому в повести-параболе есть вопросы, но нет ответов, а значит, произведение «не поддается однозначной интерпретации… и, больше того, даже не подразумевает возможности обретения выхода из экзистенциального тупика поставленных проблем» [2: 96]. Констатация безысходности, действительно вписанная в экзистенциальное содержание повести, противоречит смыслу ее названия, поскольку символичность похода для Анджеевского – в надежде на выход из тупика. Образ ворот в условноиносказательном, параболическом повествовании выполняет знаковую функцию «начала новой жизни» [3: 104], некоего переходного состояния не только для детей – участников похода, но и для человечества в целом. Крестовый поход является символом стремления «от невинности к святости» [4: 129] (Перевод с польского Л.М. здесь и во всем тексте статьи) и, как следствие, победы над грехом. Призыв «приготовьте пути Господу, прямыми сделайте» (Мф. 3: 3) определен, по сюжету, спецификой детской психологии, состоящей в готовности «пойти до предела и решиться на любую бесповоротность» [4: 132]. Детское прямодушие пробуждает надежду взрослых: «…если юность не спасет этот мир от гибели, – говорит себе пожилой монах-исповедник, – ничто больше не сумеет его спасти, потому-то все надежды и чаяния я возложил на этих детей, стремящихся к цели, которая не под силу ни им, ни мне, и вообще никому на свете…» [5: 126]. Однако в действительности участники похода не стремятся к святости, а склоняются к падению зрелого возраста – врата рая становятся воротами земной жизни с ее неизбежной скорбью. Монах-исповедник возлагает надежды на Жака, под властью обаяния которого оказываются Мод, Бланш, Алексей Мелиссен, граф Людовик. В свою очередь, в «магнетическое» поле Жака Мод вовлекает Робера. Жак персонифицирует идею выхода из лабиринта земного существования, «помеченного» грехопадением. Но как выясняет монах-исповедник, идея крестового похода порождена не божественным внушением, а «теневым» влиянием Людовика. Взаимоотношения подростка и взрослого, прототипами которых являются Адам и змей-искуситель, характеризуются М. Янион как «типическая форма эротическо-идеологической вампиризации»: «идеологическая эпидемия ширится посредством поцелуя-укуса, который создаёт очередных укушенных и кусающих» [4: 125]. «Убивает надежду» [5: 183] то, что идеалом для молодого человека оказывается не Христос, а порочный взрослый, отсюда эффект замкнутого круга и, следовательно, тупика: взрослый стремится очиститься, общаясь с молодым, но сам вводит его в грех. Экзистенциальное содержание повести-параболы сводится к проблеме преодоления последствий грехопадения. Смысловое поле образа-символа «врат рая» определяется бинарными оппозициями исхода и безысходности, поворота назад (крестообразно раскинутые руки монаха как героическая, но тщетная попытка остановить детей) и бесповоротности шествия. Повесть, построенная как «бесконечное» предложение, вбирающее пейзажные и портретные описания, диалоги и исповедальные монологи персонажей, их «поток сознания» и многое другое, передает ритм безостановочного и бесповоротного движения. Точка в конце «бесконечного» первого предложения и перед лаконичным вторым, выделенным абзацем («И они шли целую ночь» [5: 191]), хронологически совпадает со смертью монаха. Трагическим сознанием бессилия перед злом, сопряженным с «ночной» символикой, определяется отрицательный ответ на главный вопрос: нет, человеку никогда не удастся преодолеть последствий искушения и выйти из греха. Таково пессимистическое содержание «Врат рая», которое мы постараемся состыковать с экзистенциалистскими взглядами Л.И. Шестова и Н.А. Бердяева и, прежде всего, с их полемикой о грехопадении. Как Шестов и Бердяев, Анджеевский видит учителя в Достоевском, подходя к философской проблематике его творчества, в частности, к проблеме искушения и грехопадения, с особой художественнофилософической перспективы. В работе «Киргегард и экзистенциальная философия» Шестов выступает оригинальным интерпретатором первых глав Книги Бытия и даже, по Бердяеву, «создателем своего мифа о миротворении и грехопадении» [6: 402]. Отвечая на «извечный вопрос» об «ужасах жизни», Шестов усматривает источник греха в «знании», в «открытых глазах», в «умном зрении» [7: 10]. В роли змея-искусителя для Шестова оказывается вся «традиционная» философия с ее большей или меньшей степенью рационалистичности и, как следствие, абсолютизацией необходимости, «символом» которой в философии нового времени стал Гегель. «…И это «знание» расплющило, раздавило его (человека – Л.М.) сознание, вбив его в плоскость ограниченных возможностей, которыми теперь для него определяется и его земная, и его вечная судьба» [7: 24-25], – констатирует Шестов. Гипотеза Шестова об искушении человека «знанием» перекликается с версией библейской истории, которую Анджеевский изложил в повести «Мрак покрывает землю», художественно раскрыв механизм грехопадения на примере крестового похода детей во «Вратах рая». По «апокрифу» Анджеевского, змей искусил Адама «идеей» как особым сверхсмыслом бытия, избавляющим от монотонности существования. Как через «знание» (Шестов), так и через «идею» (Анджеевский), человек теряет свободу, попадая под гнет необходимости. Но, в отличие от Шестова с его последовательной критикой рационализма, автор «Врат рая» видит источник падения в фидеизме: для него «идея» – объект слепой веры, «поглощающей» человека, парализующей его чувства, мысль и волю. Не признание, что «все разумное действительно», а, наоборот, утопизм «веры в невозможное» лишает человека свободы, – констатируя этот факт, Анджеевский не просто расходится с Шестовым, но занимает противоположную позицию. У Бердяева проблема грехопадения решается диалектически, без антирационалистического радикализма Шестова. В работе «О назначении человека» грехопадение отождествляется с «утратой свободы» и властью необходимости (в чем совпадают взгляды Бердяева и Шестова), но связанный с грехопадением акт познания, наоборот, расценивается как «испытание» свободой, как ее «необходимость», и, следовательно, как источник творчества. После грехопадения, по Бердяеву, человек вынужден действовать на свой страх и риск, и результатом его исканий должно стать новое обретение царства Божьего: «Грехопадение есть нарушение Смысла и отпадение от Смысла, и вместе с тем в грехопадении мы должны признать Смысл, Смысл перехода (курсив Л.М.) от первоначального рая, не познавшего еще свободы, к раю, эту свободу уже познавшему» [8: 461]. Это именно «переход» к новому Иерусалиму, а не возврат в доисторический Эдем, поскольку: «Рай в конце мирового процесса есть совсем иной рай, чем рай в начале мирового процесса…» [8: 461]; «Рай в начале, – конкретизирует Бердяев, – есть первоначальная цельность, не знающая отравы сознания, отравы различения и познания добра и зла. (…). Рай в конце предполагает, что человек уже прошел через обострение и раздвоение сознания, через свободу, через различение и познание добра и зла» [8: 470-471]. Рассматривая веру как «начало трудного пути» [6: 401] и свободу в творчестве, утверждая безусловную ценность познания, Бердяев вступает в непреодолимые противоречия с Шестовым, наоборот, считавшим, что «…райское неведение отнюдь не беднее, чем ведение падшего человека. Оно качественно иное, и бесконечно богаче и содержательнее наших знаний…» [9]. Художественное видение крестового похода к вратам рая имеет много точек соприкосновения с философией Бердяева. Прежде всего, это метафоры «перехода» и «пути», значимые в размышлениях Бердяева и играющие сюжетообразующую роль в повести-параболе Анджеевского. Сам факт похода к Иерусалиму является следствием грехопадения и вынужденного выхода Адама за врата Эдема. Участвующие в походе дети несут в себе «код» первородного греха, следовательно, прямой переход из Эдема в Иерусалим, «от невинности к святости», минуя грехопадение, представляется утопичным. Эта констатация польского писателя органично вписывается в диалектику мыслей Бердяева, для которого грехопадение является необходимым моментом истории мира и человека, без «познания добра и зла» человек не мог бы отправиться в путь к вратам рая. По Бердяеву, до грехопадения немыслима динамика перехода из одного состояния в другое. С грехопадением и, следовательно, поисками утраченного рая, связана идея движения, реализующаяся в параболической структуре «бесконечного предложения» повести Анджеевского. Но с творчеством Анджеевского, в отличие от философии Бердяева, связано осознание тупика. Поход к вратам Иерусалима, вопреки декларации пастушка Жака, должен стать не триумфом «чистоты» и «невинности» (миф «невинности» и «чистоты» детей разрушается в ходе трехдневной исповеди), а, наоборот, катастрофой – гибелью всех без исключения. По Анджеевскому, грехопадение не только дает человеку опыт и жажду познания, но и ведет к заблуждениям, и, как следствие, дело «назначения человека» в обретении божьего царства оказывается проигранным. Как и Бердяев, Анджеевский мыслит об истории искушения и грехопадения «антиномически и иррационально» [8: 461]. С одной стороны, изощренность фантазии «искушенного» графа Людовика подтолкнула детей к ложной идее, но, с другой, внутренний голос искушенного монаха призывает исправить роковую ошибку. Следовательно, искушенность есть не только знак падшего состояния, но и «прививка» против греха, приобретенная способность отличать ложь от правды, и когда монах призывает детей опомниться, то дети с их еще не «привитыми» душами не внимают здравому смыслу и продолжают поход за химерой. И Бердяев, и Шестов говорят об искушении как соблазне несвободой, как препятствии на пути к спасению, – оба мыслителя обращаются в этом суждении за аргументами к Достоевскому. Важнейшим текстом Достоевского является для Бердяева «Великий инквизитор» – «вершина творчества» русского писателя, «увенчание всей его идейной диалектики» [10: 124]. В соответствии с эпиграфом к «Братьям Карамазовым» («Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12: 24) Бердяев утверждает, что страдание и смерть неизбежны, более того, необходимы на пути к воскресению. Смерть и воскресение Христа, по Бердяеву, должны принести «плод» свободы: «Тайна христианской свободы и есть тайна Голгофы, тайна Распятия» [10: 130]. Шестов «считал самым великим произведением Достоевского «Записки из подполья» [11: 6]. В полемике с Бердяевым он приводит также аргументы из «предисловия» к «Великому инквизитору». Шестов пишет о страдании и смерти как «ужасах жизни», о невозможности человека смириться со страданием, тем более вписать его в план «мировой гармонии». Вкладывая свои сомнения в уста «подпольного» человека и Ивана Карамазова, Достоевский, по Шестову, протестует против «здания судьбы человеческой», во имя которого «предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице…» [12: 224]. И именно с позиции «проклятых вопросов» автора «Братьев Карамазовых» Шестов критикует богочеловеческую диалектику Бердяева: «В противоположность Достоевскому, Киргегарду и Ницше…– он (Бердяев – Л.М.) на вопросах не любит долго задерживаться и задерживать своих читателей – он всегда торопится к ответам, которые как бы сами собой приходят», «он даже избегает слов «ужасы жизни» и никогда не вспоминает о безысходности» [9]. Полемика мыслителей, считавших Достоевского своим учителем, а его тексты – точкой отсчета своих идей, косвенно подтверждает полифонический характер творчества русского писателя (М.М. Бахтин), в котором сталкиваются разные сознания, разные идеологии, и точки зрения персонажей нередко вступают в противоречие с мировосприятием автора. В диалоге с Достоевским Анджеевский не склоняется к «полюсам» Бердяева или Шестова, а придерживается особой точки зрения. Христианская триада жизнь – смерть – возрождение «распадается» у Анджеевского, точнее, выпадает ее третий, главный момент: путь детей во «Вратах рая» ведет не к обновлению человечества, а в никуда. Поскольку, по Анджеевскому, страдания и жертвы на этом пути не оправданы, т.е. не окупятся ни в этой жизни, ни в будущей, пессимизм автора повести вписывается в логику размышлений Шестова, но только в их «отрицательном» аспекте: жест и поступок монаха-исповедника, преграждающего шествие, есть отчаянная попытка предотвратить неотвратимое, справиться слабыми силами одиночки с «исторической необходимостью», что напоминает противопоставление «частного мыслителя» Иова универсальным законам гегелевской диалектики в экзистенциальном мышлении Шестова и его предшественника Кьеркегора. «Рупором» авторского голоса в повести является монах-исповедник, который утверждает, что человеку свойственна «потребность надежды» даже в предельном отчаянии. Во имя надежды монах ищет остатки добра в падших, оговариваясь, что нужно всегда отличать надежду от иллюзий. Но принцип борьбы с иллюзиями, которым руководствуется пожилой человек, веру превращает в неверие, а надежду ставит на грань безнадежности: «…великий и всемогущий Боже, которого никогда не было и нет, великий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья…» [5: 175]. Фанатический поход свершается под пустыми небесами, в мире «Врат рая» нет абсолютной инстанции, которая может отозваться на мольбы о помощи, воздать добром за добро и злом за зло. Как следствие, в сознании монаха происходит постепенное умирание надежды, символическая «проекция» чего – смерть героя под стопами детейкрестоносцев. В этом главное расхождение Анджеевского с Шестовым: «Вера, – считает русский мыслитель, – начинается тогда, когда по всем очевидностям всякие возможности кончены, когда и опыт, и разумение наши без колебаний свидетельствуют, что для человека нет и быть не может никаких надежд» [9]. Нестабильности надежды (она «самое капризное существо: приходит и уходит, когда ей вздумается» [13: 166]) Шестов противопоставляет устойчивость веры, которую не может сломить никакой объективный порядок вещей, следовательно: «…только вера может свалить с нас непомерную тяжесть первородного греха, дать нам возможность вновь выпрямиться, «встать» [7: 25]. Анджеевскому интуиция подсказывает обратные выводы: мир абсурда исключает веру, точнее, то, что называется верой, является, по сути, ее отрицанием – это слепой самоубийственный инстинкт, превращающий детей в орудие фанатической «идеи» и довершающий дело грехопадения. В мире «Врат рая» «этическое» остается единственным «компасом», и бессмыслен эксперимент его «отстранения», о котором говорится в «Страхе и трепете» Кьеркегора и в книге Шестова о датском философе. Как Иван Карамазов, видящий в «слезе ребенка» непреодолимое препятствие на пути мировой гармонии, монах-исповедник Анджеевского не дает согласия на то, чтобы переход к райскому бытию оплатить жизнями подростков и детей. Как в «Братьях Карамазовых» Достоевского, во «Вратах рая» проявляется криминальная диалектика: во имя искупления «слез детей» требуется принести в жертву порочных отцов. Но во «Вратах рая» имеет место отсутствующий в «Карамазовых» мотив самопожертвования: чтобы предотвратить смерть детей, монах-исповедник идет на «голгофу», но все напрасно: даже если в жертву «мировой гармонии» принесена не «слеза ребенка», а жизнь старого человека, цель не оправдывает средства, а значит, и райское бытие остается недостижимым. Влияние Достоевского как на русский экзистенциализм, так и на самосознание польского писателя, является бесспорным. В «литературном» дневнике за 1977 год Анджеевский пишет: «Боже мой, в конце концов, я воспитывался именно на Достоевском и нашем Жеромском. Может, это было и не самое худшее образование, но его ценность заключается в том, чтобы его преодолеть» [14: 236-237]. Однако автор признается, что не находит содержания в окружающей действительности и энергии в самом себе, чтобы «преодолеть» наследие русского писателя. В отличие от Анджеевского, русские философы не задаются целью «преодолеть» Достоевского, хотя интерпретируют его творчество по-разному. Для Шестова Достоевский, как Ницше и Кьеркегор, – это один из родоначальников «философии трагедии», оставляющей многие «проклятые вопросы» без ответа. Трагическое у Достоевского не исключает, по Бердяеву, оптимистической установки: страдание и смерть в его диалектической концепции суть не только неизбежные «ужасы жизни», но и необходимые этапы свободного восхождения человека к Богу. Можно согласиться с утверждением, что «…во «Вратах рая» Анджеевский транслирует пантрагическую концепцию истории», которая «конфликтует с традиционной христианской трактовкой событий» [15: 20]. Именно в этом смысле Анджеевский «преодолевает» Достоевского, – одним из последствий этого «преодоления» стало расхождение польского писателя и с Шестовым, и с Бердяевым в вопросе о грехопадении. Польский писатель, дебютировавший в сборнике рассказов «Неизбежные пути» и романе «Лад сердца» как христианский экзистенциалист, близкий русским религиозно- философским традициям, во «Вратах рая» приближается к констатации «смерти Бога», абсурдных отношений мира и человека и, следовательно, к атеистической модели экзистенциализма. Примечения: 1. Мусиенко С.Ф. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика. М., 2000. 2. Байздренко А.М. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 1997. № 1. 3. Символы. Знаки. Эмблемы: энциклопедия. М.,2006. 4. Janion M. Wobec zła. Chotomów, 1989. 210 s. 5. Анджеевский Е. Врата рая // Анджеевский Е. Сочинения: в 2 т. Т.2. М., 1990. 6. Бердяев Н.А. Лев Шестов и Киркегор. URL: http://www.krotov.info/library/ 02_b/berdyaev/1936_419.html. 7. Шестов Л.И. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. 304 с. 8. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 2006. 478 с. 9. Шестов Л.И. Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия). URL: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/shestov.html. 10. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. М., 1994. 11. Милош Ч. Шестов, или о чистоте Отчаяния // Шестов Л.И. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М., 1992. 12. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 14. Л., 1976. 510 с. 13. Шестов Л.И. Философия трагедии. М., 2001. 480 с. 14. Anrdzejewski J. Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972-1979. Warszawa, 1988. T. 2. 600 s. 15. Савельева А.А. Эволюция прозы Ежи Анджеевского после 1956 года. Особенности жанра и стиля: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2007. 30 с. References: 1. Musienko S.F. Political allegories of J. Anrdzejewski. // Policy and poetics. M., 2000. 2. Baizdrenko A.M. “The Gate of Paradise” of J. Anrdzejewski as a story - parabola // Bulletin of the Moscow University. Series 9, Philology. 1997. No. 1. 3. Symbols. Marks. Emblems: the encyclopedia. M., 2006. 4. Janion M. Wobec zla. Chotomów, 1989. 210 s. 5. Anrdzejewski J. The Gate of Paradise // Anrdzejewski J. Writings: in 2 v. V.2. M., 1990. 6. Berdyaev N.A. Lev Shestov and Kirkegor. URL: < http://www.krotov.info/library/02_b/ berdyaev/1936_419.html. > 7. Shestov L.I. Kirgegard and existential philosophy (A voice in the Wilderness). M., 1992. 304 pp. 8. Berdyaev N.A. About assignment of the person. M., 2006. 478 pp. 9. Shestov L.I. Nikolay Berdyaev (Gnosis and existential philosophy). URL: www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/s hestov.html. 10. Berdyaev N.A. World outlook of Dostoevsky // Berdyaev N.A. Philosophy of creativity, culture and art: in 2 v. M., 1994. 11. Milosh Ch. Shestov, or about cleanliness of Despair // Shestov L.I. Kirgegard and existential philosophy (A voice in the Wilderness). M., 1992. 12. Dostoevsky F.M. The brothers Karamazov // Dostoevsky F.M. Complete collection of works: in 30 v. V. 14. L., 1976. 510 pp. 13. Shestov L.I. Philosophy of tragedy. M., 2001. 480 pp. 14. Anrdzejewski J. Z dnia na dzie n. Dziennik literacki 1972-1979. Warszawa, 1988. T. 2. 600 s. 15. Savelyeva A.A. Evolution of J. Anrdzejewski’s prose after 1956. Features of a genre and style: Author’s abstract of Dissertation for Candidate of Philology degree. M., 2007. 30 pp.