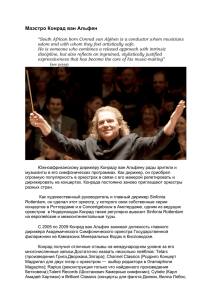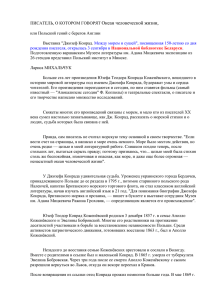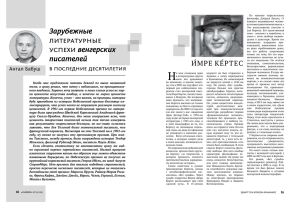От автора Любезные дамы и господа! Представляю на Ваш суд
реклама
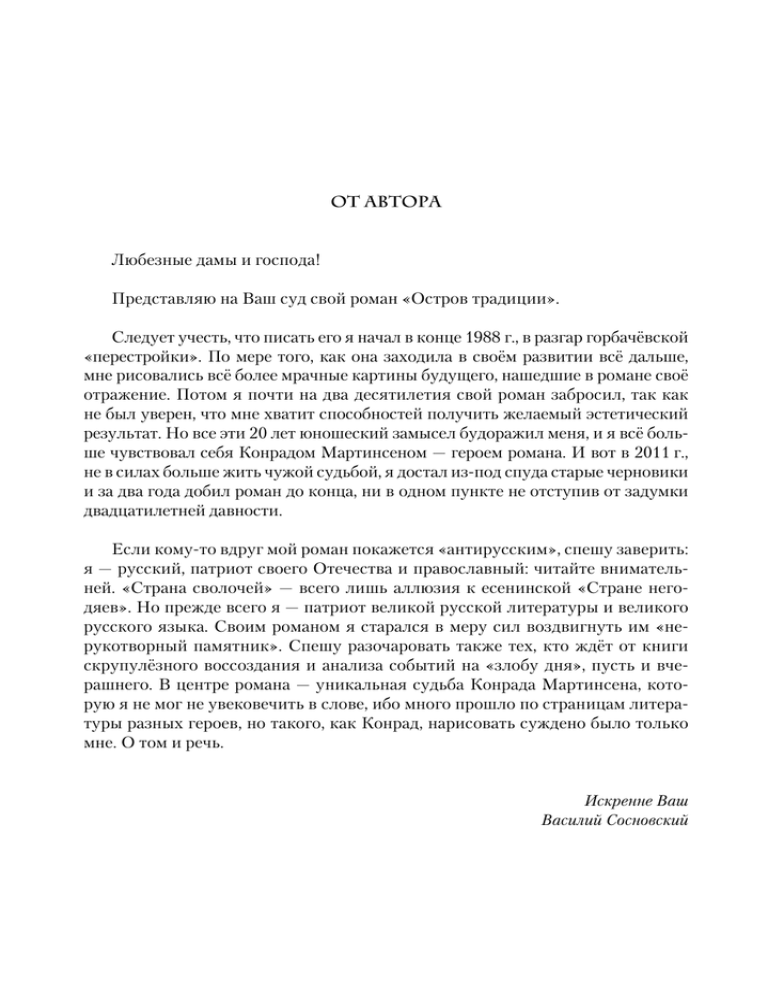
От автора Любезные дамы и господа! Представляю на Ваш суд свой роман «Остров традиции». Следует учесть, что писать его я начал в конце 1988 г., в разгар горбачёвской «перестройки». По мере того, как она заходила в своём развитии всё дальше, мне рисовались всё более мрачные картины будущего, нашедшие в романе своё отражение. Потом я почти на два десятилетия свой роман забросил, так как не был уверен, что мне хватит способностей получить желаемый эстетический результат. Но все эти 20 лет юношеский замысел будоражил меня, и я всё больше чувствовал себя Конрадом Мартинсеном — героем романа. И вот в 2011 г., не в силах больше жить чужой судьбой, я достал из-под спуда старые черновики и за два года добил роман до конца, ни в одном пункте не отступив от задумки двадцатилетней давности. Если кому-то вдруг мой роман покажется «антирусским», спешу заверить: я — русский, патриот своего Отечества и православный: читайте внимательней. «Страна сволочей» — всего лишь аллюзия к есенинской «Стране негодяев». Но прежде всего я — патриот великой русской литературы и великого русского языка. Своим романом я старался в меру сил воздвигнуть им «нерукотворный памятник». Спешу разочаровать также тех, кто ждёт от книги скрупулёзного воссоздания и анализа событий на «злобу дня», пусть и вчерашнего. В центре романа — уникальная судьба Конрада Мартинсена, которую я не мог не увековечить в слове, ибо много прошло по страницам литературы разных героев, но такого, как Конрад, нарисовать суждено было только мне. О том и речь. Искренне Ваш Василий Сосновский Ни в сюжете, ни в тексте не надо искать никаких мифологем. В условиях длительного кислородного голодания мифы дарят надежду. А нужен — кислород. Сезон первый Лето 1. В Стране Сволочей Здесь не любили плохо одетых людей. Не в том дело, что сами были одеты хорошо, а в том, что стремились одеваться лучше. Чтобы комильфо. А когда не комильфо, здесь не любили. Сей Ишак С Педалями был одет однозначно плохо, и его не полюбили. Ишак, ибо не полюбили. С педалями, ибо на велосипеде. Его Стефан так прозвал — Ишак С Педалями. Как увидел, так сразу и прозвал. Стефан был одет хорошо. Итак, плохо одетый правил велосипедом. Стефан видел: не умеет. Велосипед швыряло влево и вправо к обочинам. Ещё чуть-чуть, и навернётся в поросшую крапивой канавку, отделяющую асфальтовую дорогу от дощатых дачных заборов. Стефан хотел, чтобы так случилось. Так не случалось: неловкий велосипедист ценой титанических усилий в самый критический миг выпрямлял вихляющийся руль и вычерчивал новый зигзаг синусоиды. Стефан пресытился зрелищем человеческой беспомощности и отошёл от калитки. Он слышал, как за его спиной цепные церберы по цепочке на протяжении всего дачного проулка заливались лаем, чтобы охаять незваного оборванца. Волна возмущённого гавканья подкатывалась всё ближе, и когда характерным тенором затявкал соседский кобель Бобик, Стефан вновь оборотился: несомненно, Ишак С Педалями рулит сюда. Действительно: асфальтовая дорога кончалась, и два ряда заборов перпендикулярно утыкались в тупиковый забор, за которым стебался хорошо одетый Стефан. Оставалось проехать метров десять по траве. Плохо одетый был вынужден тормозить. По такому случаю на его лбу, изрядно изжёванном морщинами, выступила испарина, а в потухших глазах проступил тихий ужас. Сюрпляс. Переднее колесо вместе с рулём задёргалось в конвульсиях, ездок поспешно принялся перекидывать ногу через раму, но велосипед кренился набок ещё поспешнее, и он-таки с грохотом упал, придавив ногу непутёвого владельца. Последний, испытывая физическую боль и досаду, не очень внятно, но грязно выругался. Стефан стоял в раю, под сенью цветущих фруктовых деревьев, преисполненный наслаждения и злорадства. У самых врат рая валялся потерпевший крушение велосипедист и созерцал затухающее вращение торчащей вверх педали. Он напоминал полудавленного таракана — хлопнулся на спину, а перевернуться никак. Солидный рюкзак на плохо одетой спине чинил препятствия. 8 Лишь где-то минут через пять Ишак (уже Без Педалей) выкарабкался изпод велосипеда. И как-то неохотно, вяло дёрнул на себя калитку. Калитка не послушалась и на второй, и на третий, и на пятый раз. Вообще-то имелся звонок, но нежданный визитёр, по-видимому, был зачарован однообразным ритмом своих бессмысленных движений. Стефану сделалось противно, он зычно позвал кого-то и скрылся в глубине сада, в гуще деревьев. Приезжий методично дёргал калитку. От калитки косая дорожка вела на крыльцо двухэтажного коттеджа, выкрашенного в зелёный цвет, с шиферной крышей. На крыльцо вышла молодая, с распущенными тёмными волосами, женщина в халате и неторопливо двинулась в направлении калитки. Эффект её появления, приближения и просто внешности был ошеломляющ настолько, что плохо одетый оставил калитку в покое и встал как вкопанный. Женщина смерила его колючим взглядом и жёстко спросила: — Вам кого надо? С губ незнакомца сорвался слабый шорох. Чуткое ухо женщины не уловило ничего членораздельного. — Кого-кого? — Я хотел бы видеть господина профессора Иоганнеса Клира, — повторил незнакомец. Если ему таки удавалось издать звуки, то где-то секунды через полторы после движения артикуляционных мышц. Так работают под фонограмму начинающие эстрадные певцы. — Профессор Клир болен и никого не принимает. — Да?.. Как жаль… — приезжий точно засох на корню или превратился в соляной столп. Женщина между тем бомбардировала его гипнотическими флюидами, желая ему скорее исчезнуть. Не действовало. — Вы понимаете… — опять загугнил незнакомец. — Я… приехал издалека. Я хотел увидеть профессора. Это всё, что мне сейчас нужно. Я хотел… — Ничем не могу вам помочь, — чётко и звучно отрезала женщина. Пришелец издалека опять на какое-то время заснул стоя. — Скажите… — децибел в его голосе не прибавилось, но шелест губ окрасился угрожающе-свистящими призвуками. — … насколько серьёзно болен профессор? Если я зайду ещё раз… скажем, через неделю… могу ли я надеяться, что… — Нет, не можете. Профессору нужен покой. Стоптанный сандалет незнакомца отфутболил подвернувшийся сук, бедняга сгорбился, почти достав подбородком солнечное сплетение. Но в это время откуда-то сверху послышался треск распахиваемой двери, и нетвёрдым запинающимся шагом на веранду второго этажа коттеджа выгреб седенький очкастый дедулька с палочкой, скрюченный даже в большей степени, чем изрядно сутулый незнакомец. — Анхен, кто там? — спросил он дребезжащим неуправляемым голосом. — Папа! — эффектная женщина укоризненно посмотрела наверх. — Ты же обещал не вставать! 9 — Я обещал? Кому я обещал? Я не таракан какой, прятаться по тёмным углам, — отвечал дедулька. — Без воздуха скорей зачахну. Пришелец не подымал головы, хотя определённо проникся, что сии дребезжащие звуки издаёт не кто иной, как желанный господин профессор Иоганнес Клир. — Кто там?.. Да впусти ты его… мне на обозрение… — прошамкал профессор. Женщина криво усмехнулась, ловким движением отодвинула щеколду и распахнула калитку. Незнакомец, оглоушенный внезапной милостью, потоптался-потоптался и боком втиснулся на территорию сада. — Беседует, понимаете, с молодым мужчиной, а от отца скрывает… Ай-яй… — Ну, пап… — Здравствуйте, господин профессор, — натужно крякнул вторгшийся пришелец. — Так это ко мне? Я же понимаю: ко мне. Так что ж ты мурыжишь гостя, скажи на милость?.. — Какие нынче гости… — В кои-то веки гости! — старикан затопал ногами и затряс клюшкой. — Можно подумать у нас тут каждый Божий день светские рауты… Молодой человек, не бойтесь вы её… не обращайте внимания… я понимаю, для мужика это невозможно, но… я, извините, сам страдаю от тиранства собственной дочери… Мой ангел-хранитель и целитель… видите ли. Охраняет меня от ненужных эмоций. Проходите… я сейчас спущусь. — Ну куда ты спустишься… Останься наверху, — закричала женщина. — Папа очень плох… — бросила она пришедшему в себя визитёру, паралингвистическими средствами добавляя: ишь, принесла тебя нелёгкая… — Извините, — прошелестел гость, двигаясь в сторону дома. Женщину, которую, очевидно, звали Анной, тут же справилась у незнакомца, кто он есть, и оказалось, что Кóнрад. Поскольку эта информация была чересчур скудна и, неизвестно, достоверна ли, Анна затребовала документальное подтверждение. Тогда Конрад сунул руку за пазуху. Анна отпрянула и подняла руку перед собой, опасаясь, что нахальный интервент достанет из-за пазухи камень. А зря опасалась. В руке Конрада оказался маленький целлофановый пакет с изображением синего бройлера. В пакете лежали четыре «корочки». Конрад бережно достал их: три красные и зелёную. — Здесь вся моя биография. — Меня как-то мало волнует ваша биография. — Не удивляюсь. Она никого не волнует. Анна раскрыла самую потрёпанную красную «корочку», сиречь персональаусвайз гражданина Страны Сволочей. Мартинсен, Конрад (написано было «Конрат»). Место рождения — столица. День рождения (тридцать один год назад). Национальность: «сволоч». Выдано 75-м полицейским управлением; дата (пятнадцать лет назад). Чей-то лихой росчерк. Фотокарточка — зелёный 10 вьюноша, шея тонкая, губки круглые, курчавая шевелюра до плеч. Анна подняла глаза: предъявитель сего был стрижен коротко, покрыт перхотью и притом основательно плешив. На следующей страничке помещалась фотография шестилетней давности, там ансамбль дополняла петушиная борода, растущая не столько из щёк, сколько из шеи. — А почему в вашем персональ-аусвайзе столь грубые орфографические ошибки? — полюбопытствовала Анна. — Я не исправлял. Сами знаете: за подделку документов… — А потребовать заменить нельзя было? — Когда полицию учат грамоте, она принимает это слишком близко к сердцу. Да что вы, право, сути это не меняет. Анна собралась отдавать «корочку». — Вы не всё посмотрели, — как обычно, на одной ноте просипел Конрад. Анна не стала смотреть. Чего там было смотреть? Два штампа: «зарегистрирован брак…», столько же «зарегистрировано расторжение брака…» — всё где-то на отрезке лет в пять и всё дела давно минувших дней; в графе «Дети» — ничего, восемь штампов в графе «Прописка», штамп «Военнообязанный»… Всё. Изучение второй красной «корочки» — самой тоненькой — отняло две секунды. Диплом (с отличием). Выдан Мартинсену Конраду в том, что он (четырнадцать лет назад) поступил в Столичный дважды ордена Боевого Штыка педагогический Институт всеобщего текстоведения имени Имярека и (девять лет назад) окончил полный курс названного института по специальности «всеобщее текстоведение». Решением государственной экзаменационной комиссии Мартинсену К. присвоена квалификация преподавателя связных текстов. Подпись, печать, дата. От комментариев Анна воздержалась, но её глаза спрашивали: «На какой барахолке купил?» А может, не спрашивали, может, так Конраду почудилось. Третья красная «корочка» являла собой Мобилизационный билет; в нём дублировались данные персональ-аусвайза, указывалась основная гражданская специальность и сообщались специфические военные сведения: № в/ч, должность — гальюнщик, дата зачисления в часть (три года назад), дата исключения из части (полгода назад), воинское звание — рядовой, наград не имеет, ранений-контузий тоже, на вооружении имел штык-нож, военно-учётная специальность: гальюнщик, размер противогаза и т. п. В графе «Сведения о медицинских освидетельствованиях» стояло два разноречивых штампа… до неё, впрочем, Анна не добралась. Зелёная «корочка», самая толстая, с вкладышем, была вся густо испещрена записями и печатями. Это был Трудовой билет. Первая запись касалась учёбы в институте. Следующая гласила: «Направлен в НИИ листового железа на должность столоначальника». Следующая появилась, судя по всему, год спустя, а промежутки между дальнейшими составляли уже три-четыре месяца. Читать все было бы долго и муторно. Анна обратила внимание, в частности, на такие: 11 Средняя школа № 527; преподаватель связных текстов. Выставочное объединение «Суперэкспо»; переводчик. Продмаг № 62; подсобный рабочий. Домохозяйство № 93; лифтёр. Геологоразведочная экспедиция; отмывщик шляхов. Больница № 28; санитар. Фотолаборатория компрессорного завода; младший лаборант. Киностудия «Цветофильм»; ученик звукооператора. Кончалось всё призывом в армию. — Макса Горького вы, кажется, перещеголяли, — заключила Анна. — Ну вряд ли… Между школой и армией было всего четыре года. Великий же пролетарский писатель в двенадцать лет пошёл тарелки мыть. — Как вас в армию-то занесло? — спросила Анна, начиная оттаивать. — Мужчина вроде должен быть воином, — прокряхтел Конрад. Глаза Анны вновь обратились в сталь. Она ещё раз открыла мобилизационный билет и несколько раз перевела взгляд с измятого лица Конрада на запись «гальюнщик» и обратно. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Пока Анна, не скрывая недовольства гостем, нарочито быстро пролистывала «корочки», бесстыжий гость исподлобья пялился на её женские достоинства. Было на что пялиться. Анна была ростом ниже Конрада, но такая осанистая, что казалась выше. При всей утончённости черт, её лицо, не нуждавшееся в косметике, никак нельзя было назвать ни малокровным, ни малохольным; в его неприступности таилась нездешность, но ни капли меланхолии. Своенравно, густо, немного змеясь, струились тёмно-шоколадные волосы, не знакомые с заколками и резинками; несколько прядей-отщепенок щекотали породистые купола грудей — даже под столь просторным халатом, явно не стеснённые ни комбинацией, ни лифчиком, сосцы выступали с геометрической чёткостью; наверно, содержащимся в них молоком можно было напоить три палаты язвенников. Просторная хламида скрывала от глаз людских образцовую талию и классический таз — всё равно любой нормальный мужик, завидев Анну, неминуемо чуял бы покалывание в районе ширинки. Был ли нормальным мужиком Конрад, сказать сложно: он смотрел, собственно, не на Анну, а сквозь Анну, потягивая дешёвую сигаретку без фильтра, то и дело сплёвывая набившийся в рот табак. Пробежал голопузый Стефан, играя мышцами. — Ты куда, Стефан? — спросила Анна. — Купаться, вестимо, — ответил Стефан. — На пруд. Начинало припекать. Профессор Клир возлежал на облезлом диване; мешком сидели на нём шаровары, клетчатая рубашка расползлась на пупе. В головах валялась сплющенная подушка без наволочки, в ногах — неопрятный ворох пожелтевших газет. 12 — Ну что, батенька, устроила вам моя дочка таможенный досмотр? — Я думал, у вас особо злая собака, — признался Конрад. — Да, был Трезор, был… Да весь вышел. Камнем в висок угостили… пацанва… Так вот, дочка меня — бережёт. Всю свою жизнь ради меня губит — в её-то годы бессменно при папаше… А папаша плох, совсем, видите ли, плох. Вот, грозился вниз спуститься — ан слабó: слез с кровати — а всё тело как стальными обручами сдавило. — Я… я очень прошу простить… что я вас… потревожил. Мне, конечно, очень неудобно… — зачастил Конрад почти без интонаций. — Да бросьте вы извиняться, молодой человек, — оборвал профессор. — С тех пор, как отставили от университета, людей живых почти не вижу. Раньше хоть соседи заходили, а дочка и тех распугала… — Я вашу дочь понимаю, — вставил Конрад. — Времена такие, излишняя осторожность не повредит. — Времена противные, — согласился профессор. — Хотя у меня информация скудная. Живу как на необитаемом острове; представления не имею, что творится. Вон гостит у нас парнишка — из столицы приехал — ну я затрахал его расспросами, он ко мне теперь и носа не кажет. Скучно ему со старым занудой. Прошлой осенью телевизор сломался… Стефан всё хорохорится: «Починю, починю»… а надо ли? — Передачи-то пошли кошматерные, всё хэви метал или как его там… Умные разговоры диктатура прикрыла. Вот… прессу штудирую, между строк читаю… весёлого, видать, мало… и приносят крайне нерегулярно… У почтальона месяцами запои, загулы — так и кукуем, ничего не ведаючи. Ждём, что в один прекрасный момент заявится террорист с бомбой. Вы не террорист с бомбой? — Нет. — Я вижу, что нет. А дочка не уверена. На лбу не написано, кто вы такой. А всюду постреливают… Гражданская война, так? — Война всех против всех, — (с ухмылкой). — Да, да… А мы только догадываемся. Вон, «Истинную правду» два месяца не приносили. — Так её закрыли, «Истинную правду». — Как так закрыли? — То ли ещё будет, профессор. На прошлой неделе «Ведомости» приказали долго жить; на очереди «Голос отечества». — Вот оно что! Диктатура обойдётся без печатного слова!.. — Боюсь, всё куда проще, — комариный голосишко Конрада потихоньку раскачивался, крепнул, и даже дохленькие обертоны проскальзывали порой. — Во-первых, бумаги в стране нет и взяться ей неоткуда, потому как и леса почти не осталось. — Стоп, — профессор, если бы смог, непременно подпрыгнул бы. — Ведь академик Эрлих в своё время разработал программу экологического возрождения, и государственный совет её одобрил… 13 — Одобрить одобрили, только не реализовали. Ни средств, ни желания. Опилки легче производить, чем хлорофилл. Самогон из них хороший. — Так-с… Это же катастрофа! Мы и были-то на пороге катастрофы… Взялись бы за программу Эрлиха, неизвестно ещё, удалось ли бы кардинально что-то изменить… — Ну… вот за неё и не взялись. «Научный вестник» поднял было бучу… — И «Вестника»-то сто лет не видел… — … тут и его прикрыли. Через три года сволочи забудут, что такое бумага. — Однако здесь есть и позитивные стороны, — вздохнул, осклабясь, профессор. — Бюрократам не на чем будет тискать инструкции. — Но бумаги нет — не самое главное. А главное — слишком мало осталось людей, умеющих читать, и совсем не осталось умеющих писать. — Да-да, — с жаром подхватил профессор. — Читаю газеты и не понимаю: не то заборно-сортирная лирика, не то «весёлые случаи на уроках родного языка»… Было поколение. Счастливо начинало. Сокрушило идола, ревизовало религию. А как снова закрутили гайки, двадцать лет самоотверженно сражалось с ветряными мельницами и при малейшем изменении направления ветра пошло ва-банк. Тени перестрелянных отцов взывали к отмщению. Вытащили фиги из карманов, назвали вещи своими именами, поставили ребром вопросы. Профессор Клир был из этого поколения — он умел ставить вопросы. Тридцать лет назад, в первую «оттепель», он даже умел давать ответы — но теперь ответ должен был дать многомиллионный спившийся народ с порченным генофондом и в одних рубашках — которые к телу ближе. Народ, привыкший безмолвствовать, ответил смачными матюгами. Страна Сволочей называлась страна. Она всегда была прекрасна и всегда была несчастна, имела в прошлом великую историю и необычайный духовный потенциал. Поколение Иоганнеса Клира было последним, пытавшимся творить великую историю и сохранить духовный потенциал. Старое поколение стало, на три четверти вырубленное, поколение инфарктников и инсультчиков. Молодость всё знала, да знать не хотела, а старость-таки — не могла. Заклинило. Угомонились. Любящая дочь Анна отвела на беседу больного отца с плешивым пришельцем два астрономических часа. Но к исходу этих двух часов Конрад толькотолько подошёл к объяснению цели своего визита. Истосковавшись по новостям, профессор — Мастер Ставить Вопросы — заваливал гостя вопросами о том и о сём. Конрад отвечал, азартно жестикулируя и скрежеща зубами. Вот спрашивал профессор: жив ли его сверстник и соратник Вернер Клепп? Конрад с готовностью отвечал: компания мальчиков, откушав анаши и С2Н5ОН погожим вечером просверлила дырочку в черепе погружённого в свои глубокие мысли учёного, и его талантливые мозги через эту дырочку вытекли 14 в непроходимую лужу посреди главного столичного проспекта. Профессор спрашивал: каков репертуар театра синтетического искусства? Конрад отвечал: в здании театра ныне кооператив по сбыту контрацептивов, репертуар кооператива скуден, а услуги стоят от восьми до десяти литров самогона, то есть недёшево; а что до труппы, так она разбежалась, после того как главреж г-н Эрих Никлаус, пережив душевный разлад в связи с отсутствием публики на спектаклях, слинял за кордон (по слухам, имеет успех). Профессор спрашивал, сколь свободно продаётся в магазинах спиртное, столь часто поминаемое собеседником. Конрад отвечал: а вообще не продаётся после серии аварий на винзаводах со многими тысячами жертв, зато правительственным указом сняты все ограничения на кустарное самогоноварение, и каждый, кто таковым увлекается (а увлекается как раз каждый) находится на самообслуживании. Профессор спрашивал: а как обстоят дела со снабжением населения продуктами. Конрад отвечал: а никак, если закрыть глаза на всё более частые случаи каннибализма, ибо все мясные породы скота поразил поголовный мор, так как оказалось, что травленные ядохимикатами корма — слишком суровое испытание для привередливых скотских желудков. Профессор менял предмет разговора: а как нонче насчёт прав человека — например, чинят ли препятствия желающим отъехать навсегда? Конрад хохотал: а чего чинить, все, кто что-то умел, давно уже отъехали, остальных же заграница сама кормить отказалась, — и подкреплял свои наблюдения статистикой: страну покинуло 79 % членов профсоюза литераторов, 98 % членов академии наук, а обладатели консерваторских дипломов — в полном составе. Недоумевал профессор: а что же вообще консерватории? Конрад успокаивал: а ничего, их больше нет — зато учреждён институт попсовой культуры, где учат диск-жокеев, как изящнее схохмить, чтобы весь зал ржал. А как? — спрашивал профессор. Конрад мотал головой: когда-то за такое на пятнадцать суток гребли. Собеседники двигались индуктивным путём — от частного к общему. И вот, когда любопытство профессора иссякло под натиском неутешительных фактов, когда взгляд его остекленел, а пульс катастрофически зашкалил, гость с большой земли набрался духу и перехватил инициативу. Он наконец-то получил возможность представиться (Конрад Мартинсен и т. п.) Не преминул также добавить, что происходит из интеллигентной семьи. Затем вкратце изложил свою биографию, расцвечивая лирическими отступлениями факты, зарегистрированные в документах. Его рассказ изобиловал грязными ругательствами в адрес собственной персоны, посыпанием головы пеплом и битиём себя в грудь. Затем Конрад обрисовал статус-кво: в настоящее время он демобилизованный солдат без средств к существованию, без надежды трудоустроиться, с расхристанной психикой и букетом внутренних болезней. — Позвольте, — подивился впавший было в кому профессор. — Как же вы в таком… возрасте… попали в армию? — То был свободный выбор, — сказал Конрад. — В своё время, когда мои сверстники облачились в хаки, я закосил по психстатье. Всё нормалёк было, статья в принципе неснимаемая, а после двадцати восьми — дыши совсем свободно… Да вот накануне этой знаменательной вехи я понял: нужна основательная 15 встряска, чтобы собрать себя по осколочкам воедино. И принял решение. Ринулся обивать военкоматские пороги. Сперва подумали — вконец мужик рехнулся. Всюду недобор — одни призывники внаглую уклоняются, у других — черепномозговые травмы, третьи — просто дебилы… И тут нате вам — доброволец… Прошёл переосвидетельствование, признали здоровым. То есть, конечно, не признали, но написали «здоров». Логика такая: чем ты, засранец, лучше нас? — Мы своё в траншеях отгорбатили, а ты на гражданке, лёжа на королеве красоты, птичье молоко попивал. Вот. Ну а дальше я знал: пан или пропал. Два исхода, то есть, видел: либо выхожу на дембель бывалым тёртым мужичиной без комплексов, либо друзья-однополчане, предварительно превратив меня в мясной рулет, великодушно засыпают хладный труп соломой, и — привет. И то, и другое было бы — выход. Случилось же нечто третье. — Ага, себя не собрал и жив остался, — понимающе кивнул профессор. Подробно Конрад остановился на шести месяцах после дембеля (переслужил почти полгода, отпустили, когда заблагорассудилось). Он в очередной раз потерял прописку, и причалить было некуда: родители далече, а друзей и подавно никогда не было. Устраиваться на работу в том социально-моральном климате, где иметь работу есть величайшее позорище и куда престижнее добывать себе на пропитание разбоем, грабежом, рэкетом или, на худой конец, спекуляцией, было, как говорят, новые поколения, в лом. Вообще — рыпаться, дёргаться, чесаться было определённо в лом. Хотелось одного — подбить бабки и отдохнуть. Изголодавшийся за тридцать месяцев по нормальному человеческому общению Конрад попал во власть идеи-фикс: отыскать какого-нибудь чудом уцелевшего мастодонта из недорезанной прослойки и покалякать с ним за смысл бытия. Легко сказать — отыскать: а) Конрад не располагал к себе незнакомых людей, не говоря уж о знакомых; б) как упоминалось, все, кто знал, сколько симфоний написал Бетховен, видел разницу между Гоголем и Гегелем и без запинки мог выговорить «экзистенциализм», вовсю паковали чемоданы и отвлекаться на пустяки не желали… — А что же вам мешало отправиться по их стопам? — перебил профессор. — Потом, если позволите. Долго, — отмахнулся гость. — Целый комплекс причин. Некоторые я назвал, но вы не уловили… Короче, после долгих поисков Конрад совершенно случайно выяснил, что жив ещё профессор Иоганнес Клир, острый, независимый ум, некогда властитель интеллигентских дум, автор блистательных публицистических статей, радетель культурного и нравственного воспитания сволочей, кладезь энциклопедических познаний. На сбор справок о его местопребывании ушло три недели. Оказалось, этот реликтовый зубробизон вошёл в конфликт с администрацией университета, где преподавал на протяжении всей «переделки» (второй и последней «оттепели»), и был с треском низвергнут, в результате чего перенёс очередной инфаркт, какое-то время ещё пыжился, писал для журналов, но следующий инфаркт доконал его вконец. И теперь, наполовину парализованный, он доживает свой век в глухомани, на даче, вдали от больших городов, буйных страстей и больных вопросов. 16 Стандартная сволочная ситуация: мужчины празднословят, базлают, базарят, а тем временем на кухне женщина готовит обед. Красивая женщина. Нынешние сволочи мало читали, а если кого и читали, то Льва Толстого. Он, кстати, очень хороший писатель. Лев Толстой прямо заявлял, что самого слова «красивое» нет в лексиконе людей, вынужденных добывать в поте лица своего скудный насущный хлеб. А коль скоро добытчиков хлеба насущного писатель почитал единственной солью земли, он низверг «красивое» с его красивого пьедестала и вычеркнул из списка подлинных ценностей. И многие согласились с ним: хлеб насущный годился в пищу, а «красивое» — разве что для причастия. Когда Великий Катаклизм основательно перетряхнул прогнившую за тысячелетия пирамиду ценностей, всплывшие на гребне его бурных волн новые Главные Сволочи подсунули неглавным свою мерку, свой аршин, свою систему координат. И пожалуй, одно лишь усердие в добыче хлеба в качестве основополагающей добродетели не подверглось ревизии. И Страна Сволочей превратилась в Страну Некрасивых Людей, озабоченных хлебом единым, который «всему голова». Но как сволочи ни лезли вон из кожи, хлеба становилось всё меньше и меньше, невзирая на то, что люди становились всё менее красивы. И чуть перевалив за тридцать, женщина-сволочанка бывала прокручена в мясорубках, раздавлена в соковыжималках, раздроблена в кофемолках, вздрючена-навьючена, жилиста-жириста, тело искорёжено коррозией, душа в порослях коросты, становишься ниже ростом, волосы — водоросли, рожа кирпича просит, пробивается ранняя проседь, оторви да брось, под лавку брысь, грязь да грызнь — скотская жизнь. Замордованная морда, замозоленные мозги, замороченные очи. И если вдруг кто-то уберёг от прели свою прелесть и от удушья — свою душу и от ржи — свою наружность до возраста бальзаковского… что за чудотворный бальзам тому виной? Разве только когда Главные Сволочи под аплодисменты когорты предынфарктников провозгласили новый курс, вошедший в разноязычные анналы под кодом «Peredelka», сволочанкам неожиданно захотелось быть красивыми. Даже многим мужчинам-сволочам. Интерес к Льву Толстому упал. Некрасивые люди временно похорошели — да вот незадача: хлебные запасы страны, как на грех, совсем истощились. И вот результат: в короткий срок, опять несказанно подурнев, сволочи Львом Толстым подтирают анус: вместе с хлебом насущным исчезла и туалетная бумага. Что же современным сволочам кушать-то? Каков ассортимент блюд? Извольте — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 17 Первые блюда: суп из топора, суп из куриных зуб, потом — суп с котом. Вторые блюда: лапша на уши, берёзовая каша, собачина с цепью, ошейником и досками («пятый сорт, рубим вместе с будкой»). Напитки: табуретовый самогон, тормозная жидкость, птичье молоко (говорят, что кур доят). На десерт: трава лебеда, ягода бузина, кукиш с маслом, говно на палочке, самокрутка с маком, дырка от бублика с таком. Приправы: нитраты, нитриты, гербициды, пестициды, собственные соки с повышенной кислотностью. Какая уж тут кровь с молоком, когда зубы на полке? Такое обстоятельство: был ещё один хороший писатель, Достоевский. Он никогда не импонировал новым правителям страны — ещё бы, имел неосторожность во всеуслышание заявить, что красота — ни больше, ни меньше — «спасёт мир». Женщина по имени Анна Клир вряд ли когда-либо всерьёз задумывалась о том, чтобы спасти мир. Просто с генами баламута-папы ей передалась активная нелюбовь ко всем последствиям Великого Катаклизма, к Главным Сволочам. И Анна подняла на щит — Красоту, и преданнейше служила — Красоте. Её не смутил даже тот факт, что сограждане в конце концов сочли Достоевского тоже качественной туалетной бумагой. Поскольку вкусившие демократии и гласности сограждане, эстетствуя, не служили службу в храме Красоты, но Красоту пытались поставить себе на службу. Вместо того, чтобы к ней причаститься, они хотели ею — обладать. Нет, нет, упаси Господи, Анна Клир не пыталась спасти мир. Она просто возделывала свой сад. И сад Анну кормил. Потому что её гастрономическая политика зиждилась на рекомендациях ревнителей вкусной и здоровой пищи — Шелтона, Брэгга и К°. Шелтон, Брэгг и К° категорически отвергали жареное, солёное, кофе, комбинации белков с крахмалами, разных видов белков, крахмала с сахарами и много чего ещё. Зато превозносили пареные овощи, натуральные соки, подножный корм (одуванчики-подорожники). Се суть эликсиры долголетия и жизнелюбия, говорили Шелтон, Брэгг и К°. И правоту свою подтверждали жизнью своей — в девяносто лет переплывали пролив Па-де-Кале и созерцали время от времени то чайку Джонатана, то Будду. А коль скоро Анна была не прочь если не Па-де-Кале переплыть, то хотя бы Джонатана узреть, она ещё в относительно сытые времена со всей ответственностью подошла к организации надомной агропромии, самоучкой дошла до вершин агрономии, запаслась семенами на много лет вперёд. И треть сада сделалась огородом, а светлицы домиков-времянок превратились в теплицы. — С лёгким паром, — рассмеялась Анна. — Спасибочки. За мной пятак, — откликнулся Стефан. 18 Юный купальщик сиял лицом, сверкал зубами, пылал загаром и пел всеми фибрами души — этакий Тонио Крёгер. «Как водичка?», — спросила Анна. — «Ништяк водичка, мокрая. Аппетит стимулирует. Волчий! Любой баланды три тарелки скушаю». — «Это ты моё угощение баландой зовёшь», — в шутку оскорбилась Анна. — «Ну что вы, вашего супчика — бочку одолею». За обедом Конрад вдруг ни к селу ни к городу сказал, что у него-де гной в черепной коробке и в желудке дырка, и ему, дескать, каждодневно требуется как минимум литр парного молока. Жалобно так сказал, не по-мужски. Впрочем, развивая тему, обмолвился, что без мясной пищи мужчиной стать трудновато, а мясо он последний раз в тарелке сержанта видел, на первом году службы. Подобный нудёж Стефан решил пресечь в корне. Довёл до сведения, что, во-первых, любые претензии к гостеприимным хозяевам суть моветон, а во-вторых… Во-вторых, хороший-таки писатель Лев Толстой, а он был вегетарианец. И очаровательная хозяйка из той же конфессии. Травоядение а) гуманно: аморально поедать братьев наших меньших, б) дёшево: ни курей, ни поросей держать не надо, в) сердито, ибо пользительно. А что до молока, то оно придумано для новорожденных телят, а не для демобилизованных бугаёв, да плюс ещё ни с какими другими продуктами не сочетается. Правда Анна иногда покупает молоко у бабульки-соседки, но — под творожок и брынзу. Брынза с помидорами, да будет известно, пища богов. Так что хочешь жить… — Не хочу, — крякнул Конрад. — … слушайся компетентных людей. — Да это так, мысли вслух, — нехотя покаялся Конрад. — Слопаю, что дадут. И слопал. Даже Стефана обогнал. Потому что когда ел, был глух и нем. А Стефану даже волчий аппетит не мешал заниматься любимым делом: воспитывать невеж и просвещать невежд с высоты шестнадцатилетнего жизненного опыта. Но Стефану не удалось другое — пококетничать с хозяйкой. Когда чудообед (рассольник, салат из капусты и проч.) был готов, Анна пошла наверх отнести профессору его порцию. Пока возлюбленная дочь облачала хворого немощного отца в чистую салфетку, тот поспешил объявить, что по его стариковскому разумению, есть веские резоны удовлетворить нижайшую просьбу бесприютного скитальца Конрада Мартинсена о предоставлении тому морально-политического убежища на территории фамильной клировской виллы. Ибо, во-первых, сей несчастный абсолютно безобиден и предсказуем, а во-вторых столь широкий жест с их, Клиров, стороны был бы в высшей степени нравственен и богоугоден, в-третьих — и тут выгода обоюдная — наконец-то постылое отшельничество отца и дочери озарится светом чужой бессмертной души. Сильно омрачило преданную дочь Анну это признание. Чужая душа, думалось ей, — потёмки, да и остальные аргументы показались ей малоубедительны. Нет, не похож на агнца Божьего этот внутренний эмигрант: какой-то он 19 весь продырявленный, а на лице его лежит печать затаённого безумия. Общение с ним для отца скорее пагубно — уже прорисовывается душераздирающая тематика предстоящих бесед. Ну и наконец, нет средств содержать пансион с бесплатными обедами для отчаявшихся неудачников; слишком обременителен лишний рот, усатый и трудоспособный. Вот-вот, с жаром подхватил профессор, то-то и оно! Мускульная сила бывшего солдата окажется хорошим подспорьем для одинокой фермерши, что деньденьской хлопочет и за садовода, и за огородника, и за снабженца, и за уборщицу, и за судомойку, и за плотника, и за повара. И за домашнего лекаря. Вертелось ещё на языке у профессора: «в тридцать один год и о паре подумать невредно», но он знал, как вспыхнут, как зардеются щёки дочери, и смолчал. Одинокая волчица среди волков, сторожевая собака при папе, покорная овца перед Богом — она ни в ком не нуждается… Именно от этой мысли профессор, проживший жизнь свою на людях и для людей, распалился, раскипятился. Анна приложила к его сейсмоопасным вискам мокрое полотенце. И так жара невыносимая. Профессор, красный и потный, настаивал на положительном решении вопроса с таким благородным негодованием, что казалось — вот-вот лопнет старый филантроп, испустит дух и рассыпется в прах. А когда любимые отцы рассыпаются в прах, любящие дочери почему-то не любят. — Пап, милый, ты совсем забыл про рассольник, — в рот профессора ткнулся носик поильника. Тем временем Стефан просвещал Конрада: — Некстати заявиться изволили. У нас траур. — Траур… В честь чего? — Всего четыре дня, как хозяйская дочь погибла. — Но… — А что, у хозяина не могло быть две дочери? («Мда. Могло. Хоть три. Другое дело, что такие головастики обычно вообще бездетны»). — Да… Да… Я не знал, прости… В таком случае — действительно некстати… («А в любом другом случае — кстати, что ли?») — Я тогда… пойду, наверное… Поеду, то есть… — Нет, погоди, братишка. Отдельный люксовый апартман с видом на голубую ель. Уже постелено — не на скатке же спать, бельишко свежее, белоснежное, прям из-под целочки… Кормёжка трёхразовая, диетическая, для язв и циррозов пользительная. — Да нет, неудобно как-то. Явился как снег на голову, незваный гость, хуже этого самого… — Ну уж, ну уж, а глазки-то блестят, а губки-то раскатаны, а слюнки-то текут… Назвался груздем — полезай в это самое… Али слабó? Ссыкло ты, солдатик, ай-яй-яй, не по уставчику… Трибунал по тебе плачет, аж зубками скрежещет… Ну и бес с тобой. Короче: одну ночку переспать придётся — обратного 20 пути нетуть. Приказ, понял? Переспишь — и канай на все четыре, нужен ты тут как это самое прошлогоднее, понял? — Пробную ночь? В порядке испытания? — просипел Конрад, стараясь хоть как-то подладиться под несносный тон молокососа. — В комнате с рептилиями и… — А классная идейка, блин. Так тёте Анне и передам. Чё напрягся-то, а? Уж не обделался ли часом? Нет уж, за гадами на болото бежать придётся, в лом, далёко. А вот с призраками — устроим. Эти сами явятся. Девочки кровавые в глазах и это самое… — Что ж ты кощунствуешь? У людей вон горе, а ты… — А я чё? Я ничё. В меру своей испорченности воспринимаешь. Может ты каких других призраков видеть жаждешь? Сейчас созвонюсь с Иствикскими ведьмами, они тебе… Да не ссы, тебе просто под дюжину перинок горошинку подсунут — мало не покажется! Погибла. Неудивительно. Нынче своей-то смертью мало кто умирает, а ля гер ком а ля гер. Но вот что странно: нигде он не видел ни траурного портрета, ни цветов. Конечно, ему показали далеко не весь дом. Но вообще-то, в такой день близкие родственники отходят от поминок. А тут… Уютно поскрипывали половицы, тянулась анфилада комнат. Конрад семенил за Анной, задыхаясь от стыда и счастья, бормоча одно спасибо за другим спасибом, а та, не поворачивая головы, шла впереди, потрясая воображение безупречной прямотой спины и королевской чеканкой шага. — Прошу вот сюда, — сказала Анна, отворяя дверь. Чёрный кожаный диван прадедовских времён, над ним — политическая карта мира; вышитые гладью подушки; кривоногие набивные пуфики; книжная полка с многотомной энциклопедией начала века — на корешках загадочное: «Византия по Гадамес», «Пуль по Саль», «Чахотка лёгких по V». Лакированная фигурная тумбочка; письменный стол, накрытый зелёной бумагой; пустая чернильница; перьевая ручка на подставке; древнее пресс-папье; деревянная резная статуэтка — крючконосый царь птиц расправил необъятные крылья и собрался взмыть аж в стратосферу; на окне — две пары занавесок — марля и хлопок; старинный термометр, градуированный по Цельсию и Реомюру. — Располагайтесь. Я ещё не успела здесь убраться, но чтобы вам не дышать пылью, я дам швабру. — Да подышу… — Я вам дам швабру. И, непреклонная, тут же сообразила швабру и ведро. Оставшись один, Конрад, вместо того чтоб идти за водой, отодвинул их в угол, шмякнул об пол рюкзак, а сам шваркнулся на диван. И час на нём пролежал. 21 Наконец, он принялся расшвыривать по невымытому полу своё барахло. Вот что содержал рюкзак Конрада (в порядке появления): 1. пара носков; 2. трусы семейные, в цветочек; 3. шесть пачек сигарет и пачка табака в полиэтиленовом пакете; 4. тёплый свитер грубой вязки; 5. драная трикотажная майка; 6. полусъеденный, полузацветший каравай чёрного хлеба; 7. штаны от тренировочного костюма (с большой дырой в паху); 8. двенадцать магнитофонных кассет в коробке из-под вермишели; 9. справочник «50 лет отечественному регби»; 10. зелёная рубашка с белыми разводами под мышками; 11. топорик с полусгнившим топорищем в замурзанном чехле; 12. том Шопенгауэра на не нашем языке, по краям сплющенный; 13. крошечная пластмассовая банка (на донце осталось чуть-чуть соли); 14. клеёнка; 15. номер толстого журнала десятилетней давности; 16. растрёпанный карманный словарь чужеземного языка (без обложки); 17. кассетный магнитофон туземного производства; 18. новенькая амбарная книга с единственной записью (на обложке) — «Книга Легитимации»; 19. ещё четыре пары носков; 20. армейская шинель-скатка (неправильно скатанная); 21. непонятного назначения рогожа одиннадцатиугольной формы. По маленьким кармашкам были также распиханы: мыло; шариковая ручка с вытекшей пастой; измазанная в этой пасте зубная щётка; перочинный ножик; моток чёрных ниток с иголкой; обёртка из-под каких-то таблеток (без самих этих таблеток); бритва-станок. Вновь зашла Анна, молча посмотрела на груду вещей на полу, на скучающую в углу швабру, так же молча положила на край дивана комплект постельного белья и так же молча вышла. Просидев не шелохнувшись ещё полчаса, новосёл проверил, закрывается ли дверь. Да, щеколда имелась. Больших трудов стоило Конраду задвинуть её, но ничего, справился. Удовлетворённо вздохнув, он вновь прилёг на диван, расстегнул молнию на штанах и выпростал своё мужское сокровище. И ещё где-то полчаса потребовалось, чтобы гордый, сочный победоносный фаллос превратился обратно в мокрый сморщенный бесхребетный пенис, гаденькую беспомощную болталку. Тут Конрада клюнуло: в наказание за леность могут оставить без ужина. Мытьё пола в его исполнении заняло ещё полтора часа, и в результате за стол он сел один. Рядом стояла Анна, давала руководящие указания, но половина их прошла мимо руководимых ушей. 22 На сон грядущий решил Конрад послушать музыку. Любил он под музыку для полного кайфа пропустить сигаретку. А коль скоро Анна запретила ему курить в доме — вставил кассету, взял магнитофон под мышку и побрёл в дальний угол сада. Росла там голубая ель. Стояла под ёлочкой скамеечка. Уселся Конрад. Не подозревая, что за ним следят. Нажал Конрад кнопку — аппарат ноль внимания, фунт презрения. Нажал ещё раз — аппарат ни тпру ни ну. Потряс аппаратом — а тот не мычит и не телится. Конрад, разгневавшись, кулаком по нему треснул — аппарат вконец обиделся и фигу показал. Руки в карманы, носки врозь, корпус назад, уголки губ вверх — считаем, сколько спичек истратит Ишак С Педалями на зажигание одной сигареты. Ветер слабый, от силы метр в секунду. Чирк, ещё чирк, матерное слово, опять чирк. При четвёртой попытке Стефан начал считать вслух. Услышав «четыре», Конрад съёжился и заёрзал. — В армии пришлось натерпеться из-за неумения обращаться с огнём, — он виновато потупился, а Стефан протянул ему зажигалку. Стефан был очевидно вдвое моложе. Следовало изменить тон беседы. — А ты чего тут? — Я тут не «чего», а на законных основаниях, — гласил ответ. — Родственник? — Знакомый. — А-а… Мм… — прореагировал Конрад и пустил дым из ноздрей. Пошмыгал. Покряхтел. — А ты чей такой будешь? — спросил Стефан, игнорируя тот факт, что моложе вдвое. — А ничей. Вне традиции, — Конрад уповал на то, что зарвавшийся тинэйджер таких немодных слов не слыхивал. — Вот как? Без традиции негоже, — эрудированный щенок попался. — Что? Стоп машина? — он показал глазами на безжизненное тело магнитофона. Конрад тряхнул головой. — Дай-ка. Стефан по-хозяйски сунул в рот сигарету, пощёлкал клавишами, посмотрел батарейки. «Совсем новые», — растерянно пискнул Конрад. — Отставить панику. И не таких в чувство приводили, — веско произнёс Стефан и прижал к груди чудесный ящик, отказавшийся творить чудеса. В сгущавшихся сумерках таял этот изнурительный бесконечный день. Всё слабее давил пресс раскалённой атмосферы, всё легче становилось бремя потогонного зноя, всё мягче дурманящий запах трав. Смежали веки цветы, вздох облегчения прошёл по кронам деревьев. Тускло загундосило комарьё. Спасаясь от крохотных кровососов, большие сообразительные двуногие тщательно растирались специальными мазями и расползались по своим щелям и норам. Спокойной ночи желали им закатные небеса, приятных сновидений. 23 Профессор Клир заглотнул последнюю пилюлю с ласковой лакомой ладони дочери и думал было задать праведного храпака, но где-то в безднах его трухлявого организма хрипели, пыхтели, кряхтели незамоленные грехи. В мучениях засыпал старый диссидент. В отведённой ему комнатёнке, при свете ночника колдовал над кассетником Конрада Стефан, одержимый идеей превратить неуклюжий агрегат в модерновую стереосистему. Томик научной фантастики с небрежно засунутой закладкой звал пылкие пытливые умы к дерзаниям и свершениям. А хозяин кассетника правой рукой рассеянно листая регбийный справочник, как-то нехотя шарил левой под одеялом и в расплывающемся сознании удерживал образ хозяйки дома. Стало уже совсем темно, светила надкусанная луна, отчётливо прорезались контуры созвездий. Усталость одолевала похоть, сон одолевал похотливца, и не то чудились, не то взаправду плавно лились в приоткрытую форточку медовые звуки — вроде виолончели. 2. Альраун и бурундук Спозаранку меднорожее солнце с упорством прожжёного заматерелого альпиниста, незлобно матерясь и широко лыбясь, опять закарабкалось к зениту. Залихватски заискрившись меж дубовых ветвей, лучиком-ручкою фамильярно замахало Анне, заядлому «жаворонку» — диета, физкультура, здоровый труд на свежем воздухе позволяли ей высыпаться за четыре-пять часов. И виртуозными белькантовыми руладами женщина-жаворонок приветствовала милого друга — как возлюбленного, как равного. Свой парень солнышко, свой в доску… Ну для кого как — чем выше забиралось шебутное светило, тем нахальнее себя вело. Вот пробудился Стефан — и оно слегка нахамило ему, пустив на его новенькие сборные гантели каких-то шизовеньких зайчиков. С профессором оно уже не заигрывало — смотрело на него явно свысока — дескать, шапку долой, старый хрен, не много раз тебе ещё посчастливится мине лицезреть, а ну давай, благоговей и млей. Ну а уж когда продрал глаза Конрад и стараясь не вслушиваться в скорбный скрип несмазанного желудка, выбрался на крыльцо поиметь первую сигарету, солнце обнаглело совсем и принялось живьём поджаривать беднягу, не желая снисходить ни до какого диалога. Высоко оно, дерзновенное, забралось; жгучими дерзостями ответила угодливому кашлю ничтожных человечишек. — Ого-го! — свидетельствовало солнце. — Славен наш Господь в Сионе! И нестройно, чуть фальшивя, всяка мелка козявка и всяка тонка былинка на жалобных ультразвуках запищали осанну. Утробная песнь Конрада в общий хор не вписывалась. Он пошёл на террасу, чтобы как можно вежливее справиться: — Нет ли чего похавать, хозяюшка? А хозяюшка уже распелась, умылась, зубки почистила, сделала зарядку по системе Ивана Бодхидхармы, постирала, погладила, завтрак сготовила, батюшку накормила — теперь ковырялась во саду ли, в огороде. На террасе Конрада дожидался остывший завтрак, накрытый тарелкой — овсянка с ягодами, «завтрак дипломата» называется. Конрад не знал, как называется, а то бы и есть не стал. Преодолев отвращение, Конрад проглотил гадкую кислую размазню без соли и сахара, отплевался, откашлялся и отправился на рекогносцировку. 25 Иоганнес и Анна Клир владели солидной территорией чуть ли не в полгектара — сто метров в глубину, в поперечнике сорок пять. Досталось это счастье в наследство от одного из профессоровых тестьёв — тоже профессора и, кажется, академика. Не сосчитать, сколько завистников зарилось на эти полгектара, сколько ответственных работников пытались урезать их до положенных шести соток, но три поколения хозяев сплошь были публика энергичная и влиятельными друзьями не обделённая. А нынче, когда иссякли и влияние, и энергия, целый комплекс факторов бережёт эту благословенную землю: проблемы у людей другие, возни с большими участками невпроворот, снабжение в этих краях непотребное… ну и без руки Всевышнего не обходится. Конечно — экологическая ситуация здесь хоть и покамест, да тьфу-тьфу! Щебечут пташки, стрекочут мошки, урчат лягушки — помнишь ли ты эти голоса, Конрад? У бронетранспортёров другие голоса… А вон, слева от крыльца разбиты клумбочки, а на клумбочках кто-то по чёткому плану шести- и восьмиугольниками выложил разноцветную мозаику, и цветочки как на подбор, такие ладные, такие симпатичные. И ведь за ними кто-то ухаживает — земельку рыхлит, удобряет, поливает и плёнкой, если надо, покрывает… Кстати — как эти цветы называются, Конрад? А Бог их знает… Справа же прямостоячий кустарничек, именуемый жасмином, о чём Конрад тоже не имеет понятия; а подле вон той, свежевыкрашенной лавки (зелёные полосы навсегда запечатлелись на штанах Конрада) зреют ягодки черноплодной рябины, и этого он тоже не ведает. А вон тут уже высыпали ягоды зелёные и твёрдые, твёрже зрелого гороха. Спаржа называется. А у самого крыльца кусты такие белые-белые, и амбрэ у них такое приторно-приятное — и опять же невдомёк Конраду, что это сирень: он-то уверен, сирень по определению сиреневая. В глубине сада прячет лицо под густой вуалью плюща полуклассическая, полукитайская беседка, из тех, в которых сто и двести лет назад прятались от деспотичных бдительных мамаш жеманные барышни и, прижимая к глазам надушенный батист, с замиранием сердца смаковали оброненную вертерами или дубровскими записку. На это хватало фантазии у Конрада, вот только растение плющ он не идентифицировал — плющ должен быть сплющенный, а раз вьётся, значит должен быть вьюн. Несколько позже в толковом словаре он к вящему изумлению прочтёт, что вьюн есть мелкая рыбёшка, а дальше по алфавиту следует вьюнок, который-таки растение — только совсем не это. Кривенькое деревце с многопалыми чешуйчатыми листочками есть, как выяснилось впоследствии, туя, редкий гость в краях нашенских. Неказистая она и высоченная двуствольная голубая ель представляли собой главные раритетные древеса на участке. Между ними были насыпаны крутогорбые камни, как в ботанических садах — чего Конрад, не будучи ботаном, опять же не ведал. Далее справа от дорожки простирался огородец, главный кормилец местных жителей. Что на нём росло, Конрад не понял, да и рановато было для всхода вершков. 26 Между грядок на корточках ползала Анна. Волосы закрывали ей лицо, и она Конрада не заметила. — Доброе утро, — попытка громко крикнуть, но звук, который уже раз совершенно не пошёл. Потоптавшись на месте, Конрад решил, что от второй попытки целесообразно отказаться вовсе. И прежние хозяева, и сами Клиры пестовали свои здоровые тела, чтобы не испарился здоровый дух, и тут был сооружён маленький стадион: турник, где стойками служили стволы деревьев; брусья; самодельные тренажёры. Конрад подошёл к одному из них, потянул на себя пружину и сразу же пожалел об этом: как-никак почти полгода настукало после дембеля. Чтó здесь Конраду понравилось, так это густые заросли папоротника вдоль забора — этого ветерана эволюционного движения он почему-то признал. Здесь вообще вспоминалось, что корни наши в докембрии, что папоротник — наш прапапа, и прамама — мамонт, и дай Бог, чтобы из наших органических останков лопух вырос широкий и сочный. Да, в общем, Конрад попал туда, куда хотел. Он неспешно побрёл обратно. А ещё на участке Клиров было до фига различных времянок. Одна из них оказалась кладбищем механизмов. Его содержимое удовлетворило бы запросы целого рабочего посёлка в запчастях. (Кстати, Анна не гнушалась «толкать» нуждающимся в оных когда то, когда это, когда через знакомых барыг, когда и сама) Сыновья клировского тестя, «технари» (один дотла сгорел на работе, другой перебрался в другое полушарие) маниакально стаскивали сюда рухлядь со всяких помоек и складов — списанные телевизоры, разбитые мотоциклы, раздраконенные компьютеры — и в кратчайшие сроки реанимировали их. Умелых рук и смышлёной головы посредством. Да и сам профессор во время оно, до всяких оттепелей свой трудовой путь начинал слесарем, горбатился на Великих Стройках и даже факультет прикладной физики закончил, а после прикладывал куда ни попадя свою физику, не стесняясь призрака отца своего, теоретика-лингвиста, почём зря загубленного на лесоповале. Однако гуманитарные гены таки взяли своё, и прежде чем встать на скользкую правозащитно-диссидентскую стезю, Иоганнес Клир переквалифицировался в историки (когда ещё было возможно легальным путём получить два высших образования). Ну а сейчас, когда профессору и подавно не до распредвалов и микросхем, в сарае хозяйничает Стефан. День-деньской сидит он там, верхом на раскалённом паяльнике, и всё подряд ремонтирует. С его появлением в доме Клиров начались чудеса: загорелись лампочки, зарокотал холодильник, встали на место покосившиеся двери. Пришёл бы в себя и телевизор, только Стефан до него пока не добрался — он ведь и на себя работал: эквалайзер уже собрал, например. 27 Сидит Стефан, азартно ковыряет инструментом, и вдруг видит: шкандыбает по дорожке вчерашний Ишак С Педалями, такой же скорби исполненный, горем убитый. — О! Какие люди! — заголосил Стефан. — Как почивать изволили? Петушки давно пропели. — Здравствуй, — сказал Конрад с видимым неудовольствием. — Что мы такие кислые-распечальные? Ан случилось что? Мышки спать не давали? Конрад беспомощно переминался с ноги на ногу. — Ну не плачь, дядя, я тебе игрушку сделал. — Стефан проворно нажал клавишу конрадова магнитофона, и тот вполне чисто и достаточно громко заиграл доисторический шедевр полузабытой группы «Дорз». — Спасибо, — только и мог вымолвить Конрад. — На «спасибо» не опохмелишься. Ну да я великодушен и большего не потребую. — (Конрад протянул сигарету без фильтра, но Стефан отвёл его руку и сам угостил клиента сигаретой «Верблюд» по лицензии фирмы «Кэмел»). — Да там делов-то всего было: транзистор заменить да головку протереть… Я думал музончик твой заслушать, да только всё старьё такое, отстой, уши вянут. А ты «Флайинг кондомз» или Зейнаб Фортюно часом не держишь? Конрад таких не держал. Этих суперстаров нахваливали первогодки в армии, и было ясно, что дерьмо непотребное, но сказать об этом вслух язык не поворачивался: с мистическим ужасом взирал Конрад на всемогущего тинэйджера — этот желторотый шибзик как-никак обладал неким эзотерическим знанием о процессах, происходящих во чреве самодвижущихся электронных монстров, оставшихся для Конрада ужасной в своей непознанности тайной. Много слов хранит голова, привычная к кроссвордам, да вот только как бы соотнести их с предметным миром? Вот что это за страхолюдная бомбища валяется у полураскрытой двери сарая? Нешто это трансформер? Или трансформатор? Конрад только трансформаторную будку смутно мог себе представить. — Приятный у вас садик, — он попробовал сменить тему. — Да, да, — сказал Стефан. — Клёво тут. Если учесть, что хозяйка со всей фазендой одна управляется, отпад полный. — Одна? — Ну, меня вот запрягли. И прошлым летом мы с сеструхой помогали. А сейчас сеструха в столице закрутилась. — Мда… мгм… а… послушай, садовод… а что во-он там? — Конрад показал в сторону клумбы. — Где? — Ну такие… фиолетовые, круглые… — Це примулы, — важно объявил Стефан. — А вот это? — Да це ж флоксы, — Стефан, как положено знатоку, надул щёки. 28 — А это? — Сие есть в своём роде знаменитое растение ирис. Не путать с конфетами. Конрад понимающе шлёпал губами и тут же забывал, что как называется. — Да тут вообще заповедное такое местечко. Не всё ещё потравить успели. Слышь — птички. Где ты ещё услышишь птичек? У нас вон даже белки водятся. Ну да, белки — не от слова «белые». Рыжие; ушки с кисточками. — А урла у вас водится? — вдруг спросил Конрад. Стефан цокнул языком — впервые из уст Ишака С Педалями прозвучал дельный и резонный вопрос. — Плодится и размножается, — он смачно харкнул. — К вам поди лазают? — Когда я здесь, не лазают. Мой авторитет их парализует, — пошёл выёживаться Стефан. — А в прошлом году только я свалил — тётушке Анне одни корешки оставили, вершки с собой унесли. Зачем, думаю? — Не подругам же дарить… — А вы капканы ставили? — спросил Конрад. Это было задумано как острота, но Стефан решил, что занудливый гость после секундного озарения опять впал в маразм. — Боюсь, в этом году тоже всё прахом пойдёт. Опять пожалуют, разляляи, — задумчиво сказал он, скорее сам себе. — Значит, некому, говоришь, работать? — Конрад попытался поймать верный тон. — Ась? — Работать некому, говорю. — Да ты зенки раскрой — в доме разруха. Каждая дощечка требует капремонта. Хозяйка одна это не подымет. Так что засучивай рукава, впрягайся. Тут руки нужны. Умелые мужские руки. — И выставив вперёд ловкую длинную кисть, стал загибать музыкальные пальцы. — Забор чинить. Умеешь чинить забор? — Не умею чинить заборы. — Непохвально, — покачал головой Стефан и загнул указательный палец. — Шифер менять. Умеешь класть шифер? — Не умею класть шифер. — Это минус. Электропроводка никуда не годна. Умеешь чинить электропро…? — Не уме… На это электрики есть. — В век электричества каждый должен быть электриком. Недочёт в воспитании, — средний палец прижался к ладони. — Яблоньки надо окапывать. Копать можешь? — Да. Ещё могу не копать, — слабая попытка сопротивления с целью поставить точку. — А мусор выносить умеешь? — Ещё как. — Во-о! А как насчёт дырки в газовых баллонах запаять? — Не знаю, не пробовал. 29 — Стыдно, в ваши-то года, господин вне традиции, — осклабился Стефан, переходя на учтивое «вы». — Пока я жив, имеете шанс пройти ликбез… — На хера мне твой ликбез, — вяло и виновато возмутился Конрад и даже стал было объяснять, почему такой ликбез ему ни к чему, но запутался и махнул рукой. — Во-о, — мурлыкал Стефан, засовывая руку в какой-то ящик. — Первый курс: забивание гвоздей… — Лбом, — сказал вдруг Конрад, а почему — сам не понял. — Не… лбом не надо. Гвоздик погнётся, расплющится… Молотком, как вы убедитесь, не в пример эффективнее. — Козёл ты козёл, братец! Где ты был раньше? — Ых, ых, экие мы сердитые. Грешно злоупотреблять гостеприимством. Тёте Анне пожалуюсь, что вы меня забижаете, тётя Анна пистон вам вставит, ей лишний рот не нужен. Конрад трясущимися руками стал заколачивать гвоздь в какую-то досточку, через раз попадая по шляпке, но почему-то и пальцы не задевая. — На троечку с минусом натянем — вариант не безнадёжный, чувствуется заквас бравого солдата. Ещё гвоздик, будьте добры… Повторенье — мать ученья… Так они ковырялись ещё долго, и Стефан начал всерьёз уставать от бестолковости великовозрастного ученика, от его несуразных дёрганых движений, невпопадных реплик и невидящего взгляда затравленного тушканчика. Он уже сам был не рад своей затее и хотел послать горемычного неумеху куда Макар телят не гонял, но от этой печальной необходимости его избавила Анна, крикнувшая с террасы: «Мальчики, обедать!» Мальчики вымыли порядком испачканные руки и собрались вкушать трапезу. Но и тут Анна отвлекла их внимание. — Стефан, ты собрался на северный полюс? Во как — а Конрад и не заметил, что Стефан весь день проходил в свитере, натянутом до самого носа; с волос, старательно начёсанных на лоб, нескончаемыми струями стекал обильный пот… а Конрад думал — так и надо. — Лишний вес сгоняю, — ответил Стефан. — Какой там у тебя вес… Э… что это? — Анна протянула руку, Стефан попытался увернуться… — Да не бойся ты, — успокаивала Анна, заглядывая ему под чубчик. — Что ж ты такой паршивый? — Я-то хороший. Парша паршивая. — Раздевайся. На горячем лбу Стефана, на шее, на мускулистом торсе полыхали пятна омерзительных лишайных наростов. Грубая шерсть свитера растёрла их так, что кое-где начинал сочиться гной. — Ты сказать не мог? Господи… что ж это такое? Откуда? Зацарапался слабенький голосишко Конрада: — Купался? — Было дело. 30 — В какой-нибудь серной кислоте купался. У нас в роте четверо из самоволки такими вернулись. Слазили в травленый прудик. — Да что вы ерунду… — перебила Анна. — В нашем пруду сколько купаемся, ныряем — и живы-здоровы. Здесь у нас уникальная экологическая обстановка. К нам за тысячи вёрст люди приезжают. — Ваш экологический уникум не накрыт стеклянным колпаком. Вчера уникум, завтра такая же помойка, как везде. Анна возразила, что сама купалась ещё третьего дня, и Конрад не стал настаивать на своей версии, тем более, что бесполезной трескотнёй Стефану уже не помочь. Анна предложила бедняге сходить к старушке-соседке: во всём, что касалось медицины, Анна ей доверяла. И Конрад откушал опять в одиночестве. А затем на цыпочках прокрался наверх, как можно тише чуть приоткрыл дверь комнаты Профессора и глянул в щёлочку: действительно ли у того мёртвый час, согласно предписанию Анны? Старик, вместо того чтобы спать, нацепил на нос очки и вертел в руках газету. Конрад отворил дверь пошире и юркнул в комнату. Так или примерно так начинался роман «Остров Традиции» в конце 80-х годов. В третьем тысячелетии он так начаться не мог бы. — Здравствуйте, здраствуйте… Ну что, обживаетесь у нас? — Обживаюсь. Только вот никаких приказаний касательно садовой деятельности… — Анна первая приказаний не даст. Она к саду относится ревниво… Ревностно, то бишь. Вы бы сами посмотрели, что где приложения труда требует… Или Стефана вон спросите — он у неё доверенное лицо. — Увы, я вряд ли пойму, что именно требует приложения труда. У меня никогда не было дачи. — Счастливец вы… Знаете, не было у бабки хлопот — да купила порося. Хотя пока я не слёг со своей хворобой, любил я переключаться на здоровый сельский труд… Погорбатишься на сельскохозяйственной ниве — и словно воскрес к новой жизни, и мозги словно растуманились. Вот и вы, дитя города, нутром почуяли, что ближе к земле перебираться надо. Конрад на это ничего не сказал. Он рассеянно осматривал небольшую келью старца — здесь ничего не напоминало о его академическом прошлом. Только ворох начинающих желтеть газет в углу — а так главной достопримечательностью были столик с лекарствами и переделанный в стульчак стул, на который без дочерней помощи не мог взобраться Профессор. Поэтому Конрад принялся дежурно расспрашивать Профессора о его здоровье. Тот разговор не поддержал, отвечал односложно — словно показывал, что собственное здоровье интересует его столь же мало, сколь и визитёра. Ибо понятно было, что не здоровьем старика был тот озабочен, а чем-то иным. Профессор даже перехватил инициативу в разговоре и снова осведомился о том, каковы обстоятельства постояльца и насколько тот нуждается в крове. 31 Тот ответил, что мать его — пианистка — давно почила в Бозе, а отец — бывший редактор телевидения — туберкулёзом болен и за бугром, в горном климате здоровье поправляет. Впрочем, отец давно с матерью в разводе, связь почти прервалась. А приткнуться Конраду нынче некуда — пока отдавал долг Родине, злые люди обманом завладели квартирой. Профессор искренне выразил сочувствие. Но в особенности он заинтересовался отцом Конрада и стал вычислять, не могли ли они быть знакомы, но оказалось, что нет — тот был редактором программ детского вещания, которую нынче всецело подмяла под себя музыкальная редакция, так как только попса способна дать адекватную путёвку в жизнь младому поколению. Поахали-поохали касательно заполонившей эфир бездуховности и потихонечку съехали на тему, любезную разуму Конрада, ради которой он и проделал путь из столицы в глухомань, далёкий и опасный. — Господин профессор, вы ставили диагноз посттоталитарному обществу. Теперь не то что диагноз — даже патогенез любому Ёжику понятен. Разумеется, корень Зла — Великий Катаклизм; удобрение, чтобы в рост пошёл, — вульгаризованный марксизм, обобществление всего и вся, лишение человека всяческой инициативы и ответственности за плоды своего труда… — Можно и глубже копнуть, — подхватил Профессор. — Марксизм имел три источника: утопический альтруизм, гегелевский рационализм и приземлённый материализм. Если уж кого и тягать к ответу, то Жан-Жака Руссо с его «человек добр» и Фрэнсиса Бэкона — пионера «религии человека». — Вот-вот, до самых истоков дошли, — согласился Конрад. — Но со времён Фрэнсиса Бэкона кое-что на белом свете изменилось. Причины успели дать следствия, и следствия сами успели стать причинами. — Они и стали причинами, — сказал Профессор. — Отсутствие собственности породило всеобщий пофигизм, уравниловка — ненависть к богатству. Поэтому надежда на то, что в этой стране можно внедрить нормальные рыночные отношения, не оправдалась. — Более того, — напомнил Конрад. — Сразу началась война за новый передел собственности. — Чрезмерно радикально повели себя наши недавние главнятки, вот и разгорелась бойня, — посетовал Профессор. Конрад решительно сократил дистанцию: — Так ведь наша радикальная пресса подстрекала и подзуживала! — Медлить тоже нельзя было, — возразил Профессор. — И если бы идея внедрения рынка была реализована с умом, а не через задницу, войны можно было бы избежать. Но они провели грабительскую ваучеризацию, вместо того чтобы всех сделать собственниками… — Они иначе и не могли, — торжественно возгласил Конрад. — Хищники делиться не привыкли. А вы помните, Профессор, что эти хищники были избраны демократическим путём, в результате всеобщих выборов? 32 — Ну что делать, если главные критики режима оказались наибольшими рвачами и хапугами? — тяжело вздохнул Профессор. — Каюсь, я сам с ними якшался, программы им писал. Не тех мы выбрали. Конрад всем телом подался вперёд, почуяв шанс оседлать любимого конька: — А позвольте спросить — можно ли в принципе было избрать «тех»? Не кажется ли вам, что главное следствие Великого Катаклизма — износ человеческого материала, который, в сущности, и загубил все ваши реформы? — Кажется, — признался Профессор, не чуя подвоха. — Ведь на повестку дня коммунисты поставили создание «нового человека» и преуспели в этом. — Ну!.. — Вы хотите сказать… «новый человек» оказался не готов к демократии? — Нет, я хочу сказать, что он идеально оказался готов к войне всех против всех. Конрад посмотрел на Профессора испытующе. — На это я вам вот что скажу, молодой человек, — Профессор только-только заподозрил неладное. — Знаете слова Новалиса: «То, что было построено революционным путём, может быть разрушено тоже революционным путём»? Так если вспомнить, какая была после Катаклизма развязана лютая гражданская война и сколько народу на ней полегло, придётся смириться с тем, что и сейчас прольются реки крови. Конрад хлопнул в ладоши: — А нужны ли тогда вообще были Переделка, Гласность, Демократизация? Всё то, за что вы так ратовали? — Обществу нужно движение, — ответил Профессор с некоторой горячностью. — Любой застой чреват обильным кровопусканием. Рано или поздно должно было прорвать… Не мне вам объяснять, что если бы диктатура не встала на путь реформ, эффект был бы тот же. Только агония дольше. Я понимаю, вы, как и всё наше население, склонно во всём винить диссидентов… — Уж я-то их винить не собираюсь. Я сам — диссидент похлеще многих. — Ишь ты!.. — Но хотите ли узнать, как я стал диссидентом? — Небось вражьих радиоголосов наслушались? — Ничего подобного. У нас дома не было нужного приёмника. Тем не менее к тринадцати годам я уже возненавидел совдепскую власть лютой ненавистью. — Интересно, интересно… — задумчиво сказал Профессор. — Я-то первое несогласие с властями проявил лет в двадцать пять. При этом какой я диссидент? Так, фрондёр. Две диссертации защитил, работал по любимой специальности, работу не терял, не говоря уж о том, что не сидел. А вы себя таким гордым званием именуете! Конрад обиделся: — Книжки читал, сравнивал с реальностью и видел ложь. В книжках всё было про архигуманные «законы пионеров»… — Вы ещё вспомните «Моральный кодекс строителя коммунизма»… 33 – … а в жизни — в школе, во дворе, в пионерлагерях я на каждом шагу сталкивался с эксплуататорами и экзекуторами. — Звери-воспитатели, людоеды-учителя? — понимающе закивал Профессор. — Вся система образования строилась на подавлении личности… — Нет, — замотал головой Конрад. — Мою неразвитую личность подавляли люди неполномочные и нечиновные. Такие же пионеры — чуть постарше либо сверстники чуть покрепче… Профессор к такому повороту оказался готов: — Каков поп, таков и приход… — … Вне дома приходилось постоянно быть в полной боевой готовности: отовсюду можно было ждать сюрпризов, — почти закричал Конрад. — Сверху тебя могли бомбардировать тухлыми яйцами, из-за угла — натравить собаку, спереди — швырнуть в лицо бронебойной ледышкой, сзади — ни за что ни про что подставить ножку, отвесить подзатыльник, толкнуть с лестницы, уколоть исподтишка булавкой. Недели не проходило, чтобы, угрожая побоями, незнакомая шабла не вымогала у тебя двугривенный… — А что вы хотите, — перебил Профессор. — если каждый третий наш соотечественник прошёл через лагеря. Лагерная мораль инвольтировалась в быт, в повседневность. Сильный реализует право сильного и гнобит слабого. «Умри ты сегодня, а я — завтра»… — Вот! Вот! — Конрад словно этого и хотел. — Живя в столице, я чувствовал всюду запах лагеря. Враждебность человека человеку — вот что я впитал сызмальства. Злобен наш гражданин к ближнему — вот что в нём воспитали-то. — Да, но знаете ли, рыба, как известно, гниёт с головы… — примирительно сказал Профессор. — Будет вам! — Конрад перешёл к главному. — Давным-давно сгнила голова. А вот как там хвост? Что, приятно пахнет? Или регенерирует? Как не так — хвост уже сгнил, последние уподобились первым. А теперь скажите — способна ли самая здоровая, пусть архигениальная голова восстановить давно истлевшие прочие части тела? — Отличная отговорка для того, чтобы вообще ничего не делать и пускать всё на самотёк! — Профессор поморщился. — Я не призываю пускать на самотёк, — отрубил Конрад. — Просто обращаю ваше внимание: коммунистический Дракон давно одряхлел и впал в маразм, но из его давно выпавших зубов уже народились молодые крепенькие Дракончики. Они к настоящему моменту вступили во вполне зрелую пору и клацают зубами в предвкушении поживы… уже поживляются. — Ну что ж, в наследство от рухнувшего режима нам достался homo soveticus. Только вот мне кажется, не те его черты — определяющие. То, о чём вы говорите, — взбрыки воинствующего мещанина, который всех хочет скроить по своей мерке, — беззлобно сказал Профессор. — Помилуйте, какого мещанина?.. — взъерепенился Конрад. — Фокус именно в том, что в нашей стране вообще нет мещанства!. 34 — Отнюдь. Есть мещанство, — убеждённо заверил Профессор. — Оно-то, в конечном счёте, и победило в результате Катаклизма. Оно, оно с его премудростями «пускай начальство думает — у него зарплата большая» и «пускай медведь работает — у него четыре лапы» лучше всех приспособилось к ситуации общественной собственности и очковтирательства. Весь совдепский период был периодом туфты и халявы, панического страха перед новым и талантливым. И вдруг в ходе Переделки уютный мирок совмещанина начал рушиться. А когда рушится мир, мещанин сбрендивает, и нет ничего страшнее сбрендившего мещанина. — Но позвольте… — не уступал Конрад. — Когда меня чморили в детстве и отрочестве, мир не рушился. Он был — сама стабильность. — Стабильность дефицита и бесперспективности… К чему ваши мучители могли приложить свои силы, на что направить свою энергию? А нынче полиция натравливает их на неформалов и инакомыслящих, и те с радостью повинуются. — Ой, да никто их не натравливает… Они бьют первыми, в том числе ту же полицию… Вот вы всё про homo soveticus — а каковы, по-вашему, его главные черты? — Охарактеризовать вам тех, среди кого мы живём?.. Пожалуйста. И в это время в дверях возникла Анна и непреложным перстом указала на часы. Конрад, уперев обе руки в колени, тяжело поднялся с табурета. — Вот видите как… — виновато улыбнулся профессор. — Не волнуйтесь, завтра охарактеризую. Анна молча подождала, пока Конрад выйдет, а затем захлопнула за ним дверь и, не говоря ни слова, упорхнула в сад. За калиткой послышались гоготанье и матюги. Ватага местных пацанов лет тринадцати-четырнадцати, задирая друг дружку и друг перед дружкой рисуясь, издевательски медленно прошествовала мимо участка. — Детки пошли, — сказал себе Конрад. Шелудивый Стефан уединился в своих апартаментах и на свет Божий не вылазил. Доступ в его комнату был строго воспрещён. Там было мертвецки тихо, так как музыку благовоспитанный мальчик слушал через наушники. Но всё-таки Конрад постоял-постоял под безмолвствующей дверью да постучался. Он жаждал распоряжений. Не потому что рвался ишачить, а потому что боялся прослыть сачком. Стефан сидел спиной к двери, действительно, в наушниках, а перед ним на столе красовался непонятный Конраду агрегат. Напрягши память, Конрад решил, что это, скорее всего компьютер — за три года развитие техники могло сигануть вперёд семимильными шагами. На тёмном экране колыхались какието причудливые вакуоли, постепенно менявшие форму и цвет и взаимоперете- 35 кавшие. Конрад зачарованно глазел на трепетные танцы антиматерии и не мог оторваться. Стефан мерно качался в такт неслышной музыке и ни единым вздрагиваньем не выдавал, что почуял чужое присутствие. Наконец, Конрад тронул его за плечо. — Как ты? Был у бабки? — справился он, памятуя о заповедях Дэйла Карнеги. Стефан, не повернув головы кочан, лениво указал на какую-то бутылочку — очевидно, с каким-то целебным настоем или отваром. Ещё какое-то время Конрад проникался беззвучной музыкой, после чего вновь слегка потряс парня. — Монитор вижу, — сказал он на удивление громко. — А где же сам компьютер? Стефан медленно, нехотя, стащил наушники с головы. — А это, видишь ли, «два в одном». Ноутбук называется. Лэптопчик. — А что он умеет? — Всё. Капусту рубить. Огурцы резать. Детей рожать. — А дистанционно забивать гвозди? — Вопрос сформулирован дремуче некорректно, — Стефан снова принялся натягивать наушники. — Буквоед хренов. Ответь грамотно на мой вопрос. — Этим компьютером можно непосредственно забивать гвозди. А его младшим братьям по плечу оперировать тобой, забивающим гвозди. — Стефан одним движением онаушил буйну головушку, давая понять, что аудиенции кирдык. Вечером Конрад сходил в дальний конец сада и созерцал так называемый «лесной участок» — недавно прирезанную к саду широкую полосу леса, с аллеейпросекой посередине. Из хозяйственных построек здесь был только вытянувшийся слева сарай, набитый всяческой экологически чистой рухлядью — досками, фанерными листами, фрагментами старой мебели. Повернувшийся спиной к нему чувствовал близость подлинного леса, грозно высившегося за частоколом. На лесном участке росли раскидистые липы, обхватистые дубы и корабельные сосны. Они укоренились здесь всерьёз и надолго — корни терялись в зарослях чистотела, разрыв-травы и стрекучей — как успел на свою беду ощутить Конрад — крапивищи, но кое-где чётко просматривались уже опознанные параллельные стрелы папоротников, гостей из палеозоя. Подставив обстрёканные ступни лучам заходящего солнца, Конрад закрывал глаза и слышал звуки, для данных широт не характерные. Копошился средь крапивы получеловек, полурастение альраун; стучал в тамбурин полосатый бурундук; сладко запели сирены, плавно запорхали сильфиды, страстно заплясали дриады; звеня золотыми копытцами, поскакали рысью по аллее брутальные китоврасы и невесомые единороги. Зверьми диковинными и невиданными полнился прилесный прелестный вертоград семейства Клиров. И было совсем не ясно, кто здесь чудотворец, а кто — чудотварь. 36 Лощёное золочёное светило кренилось за горизонт, окрашивая небосклон во все мыслимые оттенки розового. Благополучно минуя жадные щупальца закатных лучей, хороводили кучерявые облачка. Заливалась птичка пиздрик, цвёл цветик синеблядик… Вы думаете — это авторское сквернословие? Отнюдь. Эти образы привиделись поэтам эпохи поздней стагнации, могу ссылки дать1… От растерянности перед многоцветьем природы, от преисполненности её многословьем, от её неуместности в нашем бытии актуальном такие слова и придумались. И вдруг китоврасы и единороги словно воплотились въяве. В лесу отчётливо расслышался цокот копыт, замелькали в прогалах забора крупы, холки и гривы. Конрад впрыгнул в тапочки, опрометью опрометчиво ринулся навстречу, но забор не пустил его: здесь он был ещё выше, чем по другим краям сада. Но прижав физиономию к широкой щели, воистину увидел новый жилец Клиров двух идеальных, огнеподобных коней-игреней и две ультраматериальные, целеустремлённые фигуры всадников. Вечером Конрад, весь день просмотревший вглубь себя на лесном участке, приполз в свою каморку. Он уже расстегнул штаны и вознамерился выполнить обычную предсонную процедуру, но перед этим решил заглянуть в старинную энциклопудию. Чтиво, не обязывающее ни к чему — с любого места читать можно и в любом месте бросить. И увлёкся так, что даже про сексуальный зуд забыл. Энциклопудия была ровесницей истекающего века, пестрела ятями, ижицами и конечными ерами. Невзирая на периодические славословия царю Гороху, ещё не скинутому и не расстрелянного коммуняками, в ней сразу почувствовался бодрый дух позитивизма. Каждое явление было однозначно истолковано и подтверждено статистически. Конрад с аппетитом вкушал словеса, выведенные заштатными просветителями, и цифры, собранные земскими статистиками, успокаиваясь объяснённым и прояснённым миром, движущимся от незнания к знанию, от нищеты к процветанию и от мрака к свету. Единственное, что удручало Конрада — ненадёжность дат. Всё время приходилось держать в уме тринадцатидневную поправку — докатаклизменная Страна Сволочей не жаловала Грегорианский календарь и по-прежнему цеплялась за Юлианский, демонстрируя дремучую антипозитивистскую отсталость. По этому календарю выходило, что на дворе только-только началась третья декада мая. И Конрад решил свериться с висевшим на стене отрывным календарём, который вчера вообще не приметил. На календаре значилось первое июня. Сегодня было шестое. На верхнем листке чьей-то корявой, почти детской рукой был нарисован крест и написано 1 И даю. См. эмигрантский журнал «Эхо», № 4/1979 и эмигрантский же альманах «Аполлон-77», соответственно подборки стихов А. Лосева и В. Ширали. 37 несколько слов. Календарь обрывался на гибели Алисы Клир — сестры здравствующей Анны и дочери поверженного фрондёра Иоганнеса. Небольшой текст на листке привёл Конрада в ступор, вывел его из уютного расслабона и заставил внимательно, как в первый раз, обозреть комнату. На стене, несколько ниже календаря, почти загороженная капитальным столом, висела мятая газетная вырезка. По краю шли выходные данные: дата — второе июня, год — нынешний. Содержанием вырезки была криминальная хроника. Не вся. (Под отчёты о свершившихся за день душегубствах и святотатствах в Стране Сволочей отводились целые полосы). Какая-то журналистская особь кратко, но в красках разрисовала свежесвершившееся убийство Алисы. Прилагалась даже фотография трупа — знамо, дошлый борзописец дружил с оперотделом полиции. Чтобы разглядеть фото толком, нужно было отодвинуть исполинский стол от стены. Это отняло бы массу сил и всполошило бы весь дом. Конрад очень хотел увидеть фотку. Но он и так мысленно узрел, что на ней должно быть — фамильярный, на грани стёба, текст излагал обстоятельства убийства доходчивее некуда. И вдруг Конрад понял, что смерть Алисы Клир отныне интересует его во всех подробностях. Далеко не факт, что женщина стала жертвой случайных гоношистых отморозков. Всё естество засвербило: кто и почему? И стало ясно, что пока ответов на эти вопросы Конрад не получит, с участка Клиров он сам, по доброй воле, не съедет. В эту ночь долго не мог уснуть Конрад. При этом зипер его был расстёгнут и маленький друг розовел в расселине. Но очень нескоро решился Конрад помять его на сон грядущий. Если вообще решился. 3. Менталитет и криминалитет И следующий день был несказанно жарок и пылен. Взлетали мухи. Конрад побрился и умылся. Он выпростал из-под рубахи впалую, почти без волос, грудь и возлежал на раскалённом крыльце. Курить ему было лень. Дышать — тем более. Дверь калитки заскрипела, по косой дорожке к крыльцу приблизился довольно молодой детина с развитой мускулатурой. Конрад поймал его периферийным зрением, ибо повернуть голову не хватало мощностей. Детина широко расставлял чуть согнутые ноги, чуть сгибал могучую спину и чуть показывал передние зубы. Он захотел войти в дом, но для этого надо было переступить через распростёртое тело Конрада. Тот прошёлся зрачками сверху вниз по молнии зависших над ним великолепных брюк. — Ну дай пройти-то, — сказал детина. Конрад дал себе команду повернуться, но не послушался собственной команды. — Вы к кому? — поинтересовался он. — Кто тут хозяин? — спросил детина. «Ну ты, ты», — хотел сказать Конрад, прицениваясь к неотразимым брюкам, но не сказал, поскольку они прошуршали над его головой и вновь открыли напряжённую синь безоблачного неба. Вот тут уж Конрад, помогая себе немощными руками, вскочил и проследовал вслед за детиной на террасу. — Куда? А вдруг там голые женщины? — Я их видел, как ты воробьёв. — Куда вы? Из сада вышла Анна с тяпкой в руке и устремила свой взгляд на детину. Тот остановился, сошёл с террасы, второй раз переступив через Конрада, и галантно поклонился Анне. — Добрый день, очаровательная Хозяйка. Вы даже комиссара полиции можете лишить дара речи… Позвольте представиться: поручик Петцольд. — Чем обязана? — спросила Анна. Зрачки-буравчики сверлили комиссарскую селезёнку. 39 — Да видите ли… в старину был обычай… любой свеженазначенный чин — от губернатора до станового пристава… что первым делом делал? Наносил визиты всей местной элите: богатым помещикам, аристократам, почётным гражданам, не забывая и земского врача… — Короче, — сказала Анна как отрубила. «Короче — на выход с вещами», — размечтался Конрад. — … делал визиты также литераторам, знатокам края, просто учёным собеседникам… ну и первым красавицам, конечно. — Если вам захотелось по красавицам, вы ошиблись адресом. — Я вас понимаю: предвзятое отношение к представителям власти… ваша полиция плохо вас бережёт, — комиссар грустно рассмеялся и беспомощно развёл руками. Давно напрашивался какой-то простейший жест, способный смягчить агрессивный настрой Анны. Что ж, артистично сработал Поручик. — … а может мы присядем? Сидя-то лучше беседуется, — он жестом пригласил Анну войти в её собственный дом. — Я посторонних в свой дом не пускаю. — Анна с откровенным вызовом поглядела Поручику прямо в глаза. Поручик как бы невзначай оглянулся на Конрада и выдержал взгляд а-ля Медуза-Горгона. — У меня папа болен. Извольте, пройдёмте в сад. Конрад, как ни был перепуган, с удовлетворением отметил, что Комиссар чуть-чуть замешкался, услыхав из уст безупречно грамотной Анны безграмотное «извольте пройдёмте». (После на досуге Конрад сопоставил реакцию на это первое появление Поручика и первое появление своё собственное. Он подивился: бесстрашная и непреклонная с грозным классовым врагом, Анна-таки чуть стушевалась при знакомстве с жалким сутулым праздношатайкой, раз даже дрогнула — когда он полез за пазуху за треклятыми ксивами. И объяснил это для себя так: Поручик был представителем вполне определённой силы, однозначно страшной в своей определённости, апокалиптически-эсхатологической, но известной, понятной, описанной в самиздатовской литературе, отчеканенной в интеллигентском сознании — составной частью современной сволочной традиции, а он, Конрад — был просто «некто» и тем для традиции страшен. Экий хитрый наворот! И лишь одного не мог смекнуть Конрад — гордиться ему этим или расстраиваться? Прежде чем последовать за Анной, Поручик нарочито громко спросил: — Кто это там у вас загорает на крыльце? — А вы его спросите, — ответила Анна не столь громко, но звонко и звучно. — Ну тоже вот, тайны-секреты… — Этот человек более-менее умеет говорить. — Да… да… более или менее… 40 Тут Поручик не преминул помахать Конраду как старому знакомому, крикнув: — Твоя морально-политическая физиономия известна мне по данным досье… — Досье на меня можно собрать, не выходя из дома, — ответил надсадный хрип. Анна воспрепятствовала продолжению невинной пикировки, увлекая Поручика в обход дома, вглубь сада. Конрад задумался, что ему теперь делать. Собрать пожитки и смыться он не сообразил, так как по жизни ничего не соображал, а только думал. Наконец, он с кряхтением встал, подхватил кассетник, и побрёл к беседке, вроде как помыть руки. Он понимал, что дальше Анна гостя не проведёт. У беседки он как бы случайно забыл кассетник с нажатой клавишей «Record». Здесь прямо на дорожку спускались большие шары гортензий, и под ними аппарат должен был чувствовать себя уютно. Не будем осуждать Конрада за излишнее любопытство. Ведь как иначе рассказать вам, о чём говорили Поручик с Анной, а ведь это куда интереснее того, о чём Конрад говорил с Профессором. А пока что Конрад именно к Профессору-то и направился, и нам предстоит выслушать очередной безблагодатный базар. Конрад не вошёл — вбежал, ворвался в келью старца. Тот возлежал на спине и улыбался своим мыслям. — А-а… диссидент-самоделкин, — приветствовал старик гостя и взял паузу. — Вы, я надеюсь, не обиделись? — Нет, а чего обижаться… — обиженно поджал губы Конрад. — Ну что ж, вы хотели знать, что я думаю о человеке совдепском обыкновенном. Я тут даже набросал по пунктам, — Профессор помахал перед носом Конрада исписанным клочком бумаги. — Не забывайте, что ваш покорный слуга сам во многом и есть типовой «совок». Итак, начнём. Перед нами дурно одетый, плохо выбритый, вечно пьяненький субъект… — Я видел ваши фотографии в молодости! — запротестовал Конрад. — Вы были элегантно одеты и чисто выскоблены… — Это вне пунктов, это вступление. — Профессор поднёс клочок бумаги к глазам. — Органические свойства этого субъекта, в частности, суть… Во-первых, леность, безинициативность, пожизненное иждивенчество. — Да ну что вы!.. Он ещё в младшем школьном возрасте научился добывать деньги, смекнув, что даже мятая гознаковская пятёрка куда весомей «пятёрки» в дневнике. — Не велика инициатива — карманы мелюзги трясти … — Так это ж только разминка перед кражами госимущества из-под носа у вохры и фарцовкой по-крупному. — В этом уклонении от честного заработка есть своего рода безволие… — Не замайте! — голос Конрада ощутимо окреп. — Без спартанского упорства не сумеешь ежемесячно увеличивать диаметр бицепса на целый сантиметр… 41 — Ну пусть… Во-вторых, стопроцентный идеологический конформизм, связанная с пунктом первым неспособность к самостоятельному мышлению. — Да идеология для них — щебет, ничего общего не имеющий с реальностью. — Возможно, в идеологию нынче мало кто верит… — согласился Профессор. — Пункт третий: полное отсутствие чувства собственного достоинства, готовность беспрекословно сносить хозяйский кнут и с благодарностью сгрызть любой заскорузлый пряник. — Ну-ка попробуйте задеть кого-нибудь на улице… Вам косого взгляда не спустят, не то что… — Но то ж на улице… А как насчёт социальной жизни? — не унимался Профессор. — А на социальную жизнь мы предпочитаем класть с присвистом и самоутверждаемся в асоциальной, — веско изрёк Конрад. — Гасим обидчиков в тёмных переулках, — Кто это — мы?.. — Они. У них нет инстинкта самосохранения, а чувство собственного достоинства ещё как есть. Профессор покачал головой и вновь уткнулся в бумажку: — Четвёртый пункт: достойная всяческого презрения трусость, вытекающая из пунктов второго и третьего. — Господь с вами!.. — Конрад даже привстал. — Ну разве что семеро одного не боятся… — Кощунство, неслыханная клевета! — отрезал Конрад — Если вдруг наш соплеменник окажется один против семерых — будьте покойны, драться станет до конца. И возможно, те же семеро, восхищённые мужеством одного, растрогаются и предложат ему стать восьмым. Что-что, а «Трёх мушкетёров» читал, помнит, как д’Артаньян стал четвёртым. — Ну, читал-то вряд ли. — улыбнулся Профессор. — Скорее фильм смотрел… — А если и не смотрел? Он постоянно посвящение проходит, инициацию. В группировку поступить — инициация, в камеру войти — инициация… Ты-де кем хочешь стать — лётчиком или танкистом? И прыгай с нар на бетонный пол или лупи башкой в железную дверь! Тут какое мужество нужно… Профессор улыбнулся ещё шире: — Эх… Продолжаем. В-пятых: вытекающее опять же из конформизма и отсутствия чувства собственного достоинства холуйское пресмыкательство перед сильными мира сего. Угодничество, подхалюзничество, лизоблюдство. — Какой там подхалимаж? — замахал руками Конрад. — Какое угодничество? Он метелит ментов, в глаза материт прокуроров, насилует дочек партийных шишек, не страшась ни дисбата, ни зоны, ни вышки. В каждой зоне, в каждой роте есть такие, рядом с которыми самый свирепый начальник и командир робким тюфяком выглядит. Более того — он старается на них «опереться». — Ну как же, это те, кто сам метит в начальники и командиры! — Профессор тоже возвысил голос. — Карьеристы… 42 — Всё так, только ни о военной, ни о партийной, ни о хозяйственной карьере они не помышляют. — с готовностью отрезал Конрад — Их прельщает успех в «альтернативных структурах» — карьера пахана, главаря, крёстного отца, а лизоблюдам такие чины заказаны. Они берутся кровью. — Но при этом они всё равно желают вписаться в некую структуру! — настаивал Профессор. — Субординация сохраняется везде. — Ещё бы, — фыркнул Конрад. — Бицепсы у всех неодинаковые, мозги — тем паче. Кто-то выбивается в «бугры», кто-то обречён всю жизнь ходить в «шестёрках»… Но выбор, кому служить — королю ли, кардиналу ли — это свободный выбор, выбор по любви. Выбираешь того Хозяина, который меньше других будет ущемлять твою свободу. Хозяина — друга и заступника. — Делать хозяину нечего, как заступаться? — возразил Профессор. — Из общака «подогревать»! Профессор недовольно заворочался под одеялом: — Ну допустим… Шестой момент. Склонность к совершению подлостей, в частности, страсть к доносительству. Миллионы безвестных анонимщиков в фундаменте отлитого в бронзе Пауля Фроста. (Здесь нужен комментарий. Лет семьдесят назад, во время «раскулачивания» мальчик-пионер Пауль Фрост сдал властям родного папу и был за это причислен к лику совдепских святых). — Шиш вам! — Конрад в самом деле показал шиш. — Кто же сейчас унизится до такого смертельного позора как стукачество. «Подставить» чужого — раз плюнуть, «разобраться» со своим — всегда пожалуйста, но чтобы своих «заложить»… Сейчас это — единственное табу для самых отпетых подонков и головорезов. — Правда? — обрадовался было Профессор. — Так это же прекрасно. Хоть в чём-то лагерный опыт пошёл нашему человеку на пользу. — Как же, ваш брат не терпит стукачества! С лагерных пор… — сказал Конрад с досадой. — А вот если, скажем, пилот стукнет на своих не совсем трезвых товарищей, которым вверены жизни десятков пассажиров? В Америке — это норма жизни, ваша же газета писала. — Писала, писала, помню-помню… — Профессор совсем спал с лица. — Эх… Наконец, пункт седьмой: уравновешивающая предыдущую графу верность своему стаду и ксенофобия. — Кто свободен выбирать себе друга, способен выбирать и врага. — Конрад рубанул воздух ладонью. — Притом руководствуясь новыми критериями. Сволочи и татары бьются «за свой район» против таких же сволочей и татар. — Но стукаческая-то Америка — в любом случае для них враг! — Профессор почти оторвал голову от подушки. — Ни под каким соусом! — Конрад был непреклонен. — Кто, как не она подарила новые поведенческие модели и сценарии, вдохновляющие на славные подвиги — «Рэмбо», «Рокки», «Терминатор»?.. — Ну что мне вам сказать? — вздохнул Профессор. — Я вам про «совка», а вы мне про маргинала. 43 — Маргинализировался ваш совок. — диагностировал Конрад. — Вот в чём фокус-то! — Когда это он успел? — искренне занедоумевал Профессор. — А вот пока вы наукой занимались и острые статьи писали, он как раз и выпал из социальных ячеек, — ответил Конрад злорадно. — Слава Богу, если так… — успокоился Профессор. — Значит — стремление к воле не задушишь… Но воля — ещё не свобода. — А что такое, по-вашему свобода? — ухмыльнулся Конрад. — Свобода свободе рознь! — докторально сказал Профессор. — Нельзя путать «свободу от» и «свободу для»! Да и «свобода от» лишь тогда оправдывает своё название, когда она — свобода от дурных страстей, от грязных соблазнов, от памяти обид… Но высшая свобода — деятельная, «свобода для» — для служения ближним, человечеству, Родине… Конрад словно только этого и ждал: — Эх, профессор, профессор… А ещё плюралист… С какой радости вы сочли себя вправе монополизировать дефиниции, канонизировать понятия? Чтой-то ваша свобода так боится мирного сосуществования со «свободой от» стыда и совести, «свободой для» господства и кайфа? — Но вам ли не знать, — строго спросил Профессор, — что коррелятом к «свободе» является «ответственность»? — Ну пусть так, только Бога ради потише… вдруг кто-нибудь услышит… — Конрад притворно понизил голос. — И перепутает вас с ненавистными гадами-коммунистами. Вот кто обожал про «ответственность» потолковать! В одной пионерской книжке так и значилось: «За всё, что происходит на Земле, отвечаешь и ты…». В гробу видали нынешние жлобы такую «общественную нагрузку», да ещё сегодня, когда общество созрело для прозрения: залог его благополучия — в личном благополучии каждого из его членов. — Но простите, вы же наверняка слышали про ответственность «за базар»?.. — Только она и осталась. — Ну вот. — Профессор перешёл в контрнаступление и для этого даже взял маленький тайм-аут. — А вообще-то, индивид может стать свободным только в любви! Делай, что хочешь, говорил Блаженный Августин, только сперва полюби… — А кто вам сказал, что теперь никого и ничего не любят? — парировал Конрад. — Любят, и ещё как — трэш-метал, мотоциклы, «Челси», холодное пиво и тёплых тёлок… — Но Блаженный Августин-то Бога имел в виду! — Профессор наставительно воздел перст. — «Полюби Бога — и делай что хочешь»! — Ну и Бог с ним, а загляните-ка в собственноручные проекты либеральных конституций… — усмехнулся Конрад. — В каждом чёрным по белому вашим почерком написано: «Каждый свободен исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». Вот никакой и не исповедуют, разве что религию Силы. А в пасмурные дни — религию Ненависти. — То есть ваша свобода… 44 — Их свобода… — … их свобода — это свобода агрессии. Но источник агрессии — комплексы, то есть внутренняя несвобода… — Гм, уж не возьмётесь ли вы сосватать каждому психоаналитика? — спросил Конрад ехидно. — Знаете ли, специалисты подобного профиля, как правило, интересуют тех, кто свою агрессию направляет против себя самих. Только мазохисты стонут под ярмом своих комплексов; садистам такое ярмо не в тягость. Принудительное же лечение с разговорами о свободе не вяжется. — Но разве свободен тот, кто посягает на свободу других? — Профессор воздел уже целый кулак. — Вы экзистенциалистов, что ли, не читали? — Мало ли, что я читал, мало ли, кого они не читали… — заёрничал Конрад. — Но спокойствие, уж в этом-то пункте они с вами совершенно согласны. Любой уважающий себя лох скажет вам, что уважает чужую свободу. Как же иначе-то? «Я свободен опустить тебя, но и ты свободен опустить меня. В первом случае ты волен сопротивляться мне, во втором — я тебе. Ещё вопросы?» — Где же тут свобода, спрашивается? — воспламенился Профессор. — Это какое-то первобытное рабство, слепая покорность элементарному закону природы, известному как «закон джунглей». Или — «закон — тайга»… — Э нет, — теперь уже Конрад взял докторальный тон. — Если это и законтайга, то исправленный, чересчур вольно истолкованный. Сфера его действия расширена от границ тайги до границ мироздания. Что может быть скучней и банальней типичной животно-растительной заботы: грызть глотки стоящим поперёк дороги, чтобы только дорваться до кормушки и всласть накушаться? То ли дело, не сразу загрызать, а мелкими глотками сосать кровь… не обязательно из стоящих поперёк, можно из стоящих в стороне, на кормушку не претендующих — даже ценой замедления продвижения к кормушке… Изощрённо так — голь на выдумки хитра! Профессор молчал. Торжествующий Конрад победоносно продолжил: — Свобода для нашего компатриота начинается не с «от», не с «для», и не с «чтобы» или «потому что», а с «просто так». То, что мы называем садизмом, есть апофеоз его личной свободы. Он самореализуется через садизм, в садизме проявляет свою индивидуальность. В садизме ему открывается такой простор для творческой фантазии, такой спектр ярких впечатлений и острых ощущений… достойный не унтерменша, а сверхчеловека. Эту речь вместе с Профессором выслушала вошедшая без стука неумолимая и неминуемая Анна, и от этого триумф Конрада показался ещё более триумфальным. — Вот так. Стоило мне отвлечься, и вы превысили лимит времени, — сказала Анна отцу. — Всё на сегодня. — Да, что-то мы сегодня заболтались, — сверился Профессор с часами. — А у вас сегодня гость, — поделился новостью Конрад. Анна метнула на него испепеляющий взор, и он прикусил язык. — Сосед. Зашёл за насосом, — объяснила Анна. 45 Утомлённый беседой, но с чувством исполненного долга Конрад вновь разлёгся. Жарынь несусветная, время сиесты. Мухи дохнут в трясине варенья, мир их мушиному праху, земля им пухом, семь футов под килем, так их маму. Пулемётами стрекочут цикады, глубоко удовлетворены пулемётчики. Свежее мясо удобряет истощённую почву. Плазматические тела людей наполнены плазматическими мозгами, а те в свою очередь, — плазматическими маразматическими идеями. Например, был такой Иисус Навин, ради превозможения супостатов догадавшийся остановить в небе солнце. Прям как сегодня. Не любил Конрад Священное Писание из-за Иисуса Навина. Господу Саваофу потребовался массовый убийца и военный преступник, положивший тьмы своих и чужих, чтобы возблагоденствовал избранный народец. Незваный гость, оказывается, ещё не ушёл. Похоже, ему во что бы то ни стало надо было познакомиться со Стефаном. У того пятна на теле уже поблёкли, но на ласковый оклик комиссара полиции он не отозвался и спешно затерялся в глубине сада. Не помогло и вмешательство Анны. Поручик развёл руками и продолжил любезничать с хозяйкой. Та за истекший час явно изменила своё первоначальное отношение к представителю власти и на прощанье даже пожала ему руку. Сие настороживало. Когда Поручик вновь переступал через Конрада, тот спросил точно старого знакомого: — Господин Поручик, когда меня арестуют? — За что? — равнодушно переспросил Поручик. — «Был бы фраер, статью подберём», — напомнил Конрад. — А смысл? — ответил Поручик. — У тебя мания величия. На лесоповале толку от тебя как от балерины. И вообще — арест надо заслужить. И сделал пару шагов к воротам, но потом медленно развернулся и поманил Конрада пальцем. Тот с готовностью повиновался. — А вообще у меня к тебе разговорец есть, герр Мартинсен. — Таки есть? — струхнул Конрад. — Угу. Ты насколько сюда вселился? — Пока не выгонят. — А столоваться за так будешь? — За ударный труд… на огороде. — Да уж, я смотрю, огород Клиров под серьёзным ударом. Ты хоть тяпку от мотыги отличаешь? Шпинат от щавеля? — Не-а. — Так вот. У меня к тебе есть предложение получше. Пойдёшь к нам осведомителем. Конрада как в землю вкопало. Он будто не верил, что это не вопрос, а приказ. — Стучать, значит? 46 — Сказано — осведомлять. — Но о ком? О лежачем старце? Или о его дочери? Н-нет уж… — Насчёт дочки не волнуйся — я сам у ней о чём хошь осведомлюсь. А о старце ты зря… этак неуважительно. Он тоже электорат, между прочим. Но вообщето первое задание у меня к тебе будет другое. В последнее время в наших краях завелись неформалы. Кто такие, чего хотят — пока не ясно. Вот ты и разузнай, кто и чего. Наводку я тебе дам… — Господин Поручик, но я ведь с людьми-то… не очень. Не смогу я к ним втусоваться. Вы же проинформированы, я уверен. — Разговорчики! Втусуешься — получишь зарплату и отдашь Клирам. А не втусуешься — накажем. Вот и весь сказ. И без промедления выдал Поручик Конраду хрустящую краснокожую ксиву с печатью и фотокарточкой — всё-то у него было припасено заранее, даже фотокарточка, хотя Конрад не помнил, чтобы в последние три года фотографировался. Впрочем, выглядел он на фотке молодо — шея тонкая, уши прозрачные, глаза беспомощные. В каком-нибудь архиве — в военном, например, вполне могла заваляться таковская. Должность Конрада называлась «секретный сотрудник». Его благородие популярно объяснил, что тугамент этот простым гражданам показывать ни-ни — разорвут на части, а вот коллегам по ведомству предъявлять обязательно — сразу все ворота для предъявителя раскроются. А в наши дни вход за иные ворота дорогого стоит. Подчас — жизни. Свежеиспечённый сексот взял ксиву в руки как ежа или как гадюку, но всё-таки взял — а как не взять? Так пополнилась его коллекция документов, заменявшая биографию. — Кстати, свою предрасположенность к оперативной работе ты уже проявил, — прокомментировал полицай-комиссар. — Смел, смел, конечно. Даже забыл, что когда сторона кассеты кончается, клавиша издаёт громкий хлопóк. Но я упросил хозяйку ничего не стирать. Послушай, что получилось, послушай… Там и для тебя много ценного было сказано. Держи свою кассету… Какую музыку стёр-то? — «Лето, я изжарен как котлета», — признался Конрад. — Ничего страшного, переживу. «Лето, я изжарен как котлета». «За горизонтом где-то ты позабудешь лето». «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно со мной умчалось»… Кот Лето, пёс Трый. Официальный и неофициальный музыкальный фольклор. Сознание иглой прошило вискú, штурманы отхлёбывают вúски. Жарко, мразно, заразно… — В общем, держи свою кассету и слушай на здоровье. Ты узнаешь, что батька Петцольд не только карает и гнобит — что от него и созидание исходит, — Поручик протянул Конраду вещественное доказательство его плохого поведения. 47 На прощание он оставил новому сексоту адрес, по которому тот должен был передавать оперативную информацию. Конрад затосковал, но дело в долгий ящик решил не откладывать. Сегодня же в шесть вечера он пойдёт к центру посёлка, к главной водокачке, где как штык в это время должны будут тусоваться неформалы, и попробует установить контакт. Скорее всего, контакт зубов с кулаком и промежности с коваными башмаками. Но перед смертью не надышишься. Скорей бы уж. А пока что Конрад уполз на лесной участок и, никем не тревожимый, слушал кассету. — Прежде всего я хочу сказать, — послышался ровный голос Поручика, — что убийца вашей сестры найден и арестован. Это известный гангстер по кличке Землемер, выходец из здешних краёв. Он сидит в губернской тюрьме и ждёт расплаты за множество преступлений. Он стократ нагрешил на высшую меру, но у следствия к нему очень много вопросов, поэтому надо бы запастись терпением, пока свершится возмездие. Но можете быть покойны: возмездие свершится. — Спасибо за информацию. Увы, так или иначе — сестру мою не вернуть. — Да, и я выражаю вам своё соболезнование. Но если наказание будет неотвратимо, как это происходит при нашей власти, злоумышленники поостерегутся творить свои злодеяния. — Землемер… Какая странная кличка. — Ничего странного. Он учился в губернском городе в землемерном училище. Весьма старинное, уважаемое учебное заведение. Только вот в последнее время оно превратилось в рассадник крамолы и половых извращений. Чистим. — Сажаете и расстреливаете? — Не без этого. Но надо учесть, что народ вымирает — поэтому чистим мы в рамках. Особо не зверствуем. — Как можно провести границу между особым и неособым зверством? — Чутьё иметь надо. Чувство справедливости, то есть. — И у вас оно, разумеется, верное? — Я облечён принимать решения. Если они вам не нравятся, заступайте на моё место… В конце концов, что прикажете — миловать головореза Землемера, а ваша сестра пусть гибнет? Возникла пауза. Только чириканье птиц. — Народ — зверь, — сказал, наконец, Поручик. — Гражданская война, не хухры-мухры. — Пока ещё здесь спокойно… — не сразу ответила Анна. — Спокойно? Как сказать… Куда, думаете, ваши соседи все подевались? Они ж тут тоже спокойствия искали. Старуха тут… в трёх домах от вас — где она? А изнасиловали её в прошлом месяце. — Кто? — А шпана местная. Или, как нынче говорится, урла… Но вот появился я. — Появились вы. И что же? (Вновь пауза. Только пташки своё тень-тень выводят). 48 — Скажите, у вас хороший урожай яблок в этом году? — А вы к чему это? — К тому, что хороший, и к тому, что вам все плоды вашего труда достались. А в прошлые сезоны что? Местнота всё срывала? Так? — Бывало. — А теперь не бывает. У меня с местнотой джентльменский уговор. Резвитесь во все тяжкие, насилуйте старух, жгите, крушите, но клировский дом — табу. — Джентльменский уговор… — удивилась Анна. — В этой среде есть джентльмены? — Ни одного. Когда забываешь запах мыла, джентльменство испаряется. — Так что, они вас слушаются? — А чего ж не послушаться? Кто их приёмчикам научит? Кунг-фу, таиландский бокс?.. — Вы их на собственную погибель тренируете? — Полноте, милая… До моего уровня им не дотянуть. Нужна система, воля, режим… А эти что накачают, то мигом пропьют. Но для внутреннего употребления хватает… для выяснения междуусобных отношений. — И что ж, они вам так за это признательны, что заодно и нас не трогают? — Они мне кругом признательны. Я же у них добрый гений, ангел-хранитель, благодетель. У них орган самосохранения атрофирован — крайняя стадия дегенерации, но вот поди ж ты, методом убеждения удалось внушить им, что мир — это благо. — Ну-ну, вы их не трогаете, они вас не трогают… — Это всё для них бирюльки. Нейтралитет для них не благодеяние. Они только на активную любовь откликаются. А вот запчасти к мотоциклам у них откуда? А порнушное видео? А новые бейсболки? — Пряничками умиротворяете? — Воспитываю. Ненавязчиво так. Кнутом постоялец ваш пусть воспитывает, а я по педагогике. Мотоцикл — это уже проблески цивилизации. Порнушные видео — для правильной канализации либидо. Бейсболки — лучше, чем бейсбольные биты… Сперва, конечно, тугонько начиналось. Меня в мае, сразу как пришёл, пёрышком пощекотали. Но я бесчувственный, щекотки не боюсь. Для профилактики я одному переместил челюсть на затылок, а потом вернул в исходное положение. У одного мотоцикл был на грани — ещё чуть-чуть и взорвался бы на ходу — я починил. Вот так авторитет делается. Уважают теперь. (Очередная пауза. Вот бы знать, что это за пигалица заливается…) На сей раз молчание нарушила Анна. — Так почему ж всё-таки так избирательно? Меня вы патронируете, а старушек кидаете как кость голодным собакам? — Ну что, рассказать вам про моральный облик старушек? Хотя бы той, жертве своей сексапильности? Сколько у меня в столе доносов от неё лежит на вас и вашего отца? — Да сколько бы ни… 49 — Интеллигентский максимализм. Всё или ничего… Я один всех облагодетельствовать не в силах. И если надо кем-то жертвовать, оставьте мне право выбрать — кем. И выбрать, кого защищать. На этом сторона кассеты кончилась. Дальнейший разговор остался тайной. В кармане кололась жёсткая корочка. Конрад рассмотрел её как следует. Аббревиатура на обложке показалась незнакомой. Но всё стало на свои места, когда он вспомнил, что недавно в Стране Сволочей было осуществлено слияние органов полиции и госбезопасности — во избежание ведомственного соперничества. Вдруг ему очень захотелось проконсультироваться со Стефаном — тот жил у Клиров уже давно и должен был знать некоторых обитателей посёлка. И он в самом деле пошёл в дом и постучался к строптивому подростку. Тот не открыл и вообще никак не проявился, словно шестым чувством уловил суть момента. Наверное, оно к лучшему. Без пятнадцати шесть Конрад взял пустое ведро (хотя в доме была вода), вышел за калитку и зигзагами стал приближаться к водокачке. По дороге ему никто не встретился, и даже собаки благоговейно молчали. Поджилки Конрада тряслись, колени подгибались, ноги в целом подкашивались. Холодный пот, вызванный страхом, струился вперемежку с горячим, вызванным жарой; одежда противно липла к ватным членам. Безоружный в полный рост пёр на танки. У полуразобранной на кирпичики водокачки действительно сидели на корточках юные субъекты и передавали по цепочке некое курево — возможно, косяк. Было их человек восемь, в том числе две девахи. Парни были одеты в камуфляж, девахи — в короткие майки. Ничего неформального. Лиц Конрад не различал — перед глазами всё плясало и расплывалось. Однако ж он заметил, что причёски у парней были короче короткого (что свидетельствовало о их близости к урле), а у одной из девиц — длинные ведьминские космы. У второй же девицы полголовы было выборочно выщипано, с другой половины свисали длинные сосульки — то ли асимметричные причёски снова вошли в моду, то ли глазомер непросохшего цырюльника-кустаря безнадёжно испортился, то ли безудержная страсть очередного любовника подкреплялась выдёргиванием волос целыми пучками — для обеспечения полноценного оргазма. Конрад знал: называть себя эти «неформалы» могут как угодно, а на поверку окажутся урлой. Достаточно вслушаться в то, на каком языке они между собой общаются. Правда, на этом языке при его жизни вся Страна Сволочей общалась, но именно потому Конрад для себя называл своё отечество Урляндией. — Трах-тах, ля-ля в пам-парам на трана-на, — бритоголовый высказал предложение. — Тирим-пим ля-ля до трах-тах, — патлатая высказал сомнение. 50 — Нам-дам-труля-ля, — асимметричная высказала непоколебимую уверенность. — Парапа-на-нина, — всё сообщество высказало глубочайшее удовлетворение. Язык урлы был в чём-то сродни оруэлловскому новоязу, в силу простоты синтаксиса и бедности вокабуляра. Язык этот отличался своеобразным синкретизмом: одно и то же слово могло значить как «тотальный крах», так и «высшее блаженство». Но, вопреки ожиданиям Джорджей Оруэллов, он не включал слова «минилюб» и «мыслепреступление», зато включал слова «трам-там», «ля-ля» и «тирьям-тирьям», некогда легко переводившиеся как медицинские термины. Но повторим, на урловом языке говорили абсолютно все сволочи, включая тех, что давно покинули родину, опасаясь урлы. И сам Конрад в своё время, дабы преодолеть коммуникативный голод, установить контакты с рядом однокурсников, долго и мучительно осваивал их язык. Проблема была в том, что новояз должен был пронизывать собою старый язык, вовремя прорезаясь в нём, вовремя с ним сращиваясь и совсем ненадолго расходясь с ним, чтобы вновь срастись воедино. Жаль только, что освоив, в конце концов, новую знаковую систему, Конрад не шибко продвинулся в освоении старой… но она, по большому счёту, никому и не была нужна. В остальном урла как урла, типовые мутанты, детки карнавала. Металлический папа, сваренный из забоев Оззи Осборна, лязга танков, кулаков Брюса Ли, дребезга тяжёлой индустрии сношался с химической мамой, смешанной из удушья промышленных отходов, жгучей горечи питьевого спирта, бурлящей чачи чёрной желчи, чернющей чифирной гущи… — Здравствуйте, ребятки, — поимел в виду Конрад, но посыл его несомкнувшихся связок никем услышан не был. Поэтому ребятки сразу надвинулись на чужака и взяли его в кольцо. Плотно. Конрад ещё пуще затряс поджилками. Сейчас он услышит вопросы «Кто ты по жизни?» и «К чему стремишься?», а потом получит в рог. — КТО ТЫ ПО ЖИЗНИ? — спросили его. — Конрад, — бесшумно ответствовал Конрад. — Он хотел добавить: «вне традиции», но вовремя смекнул, что урла вряд ли знает слова с суффиксом «-ция» и смолчал. — Повтори, сука, кто ты по жизни? — Конрад, — тщетно попробовал форсировать звук Конрад. — Немой, что ли? — Конрад, — изо всех сил дал петуха Конрад. — У меня дисфония. Болезнь голосовых связок… Голос плохо слушается. — Ничего, вылечим, — сказала урла. — А ты знаешь, кто мы такие? — Местная…, — в отчаянии прошипел Конрад, глотая слово «урла». — Местная урла, ты хочешь сказать. Это ты зря. Ты настоящей урлы не видел. Они бы тебя без всяких вопросов замесили. К ЧЕМУ СТРЕМИШЬСЯ?