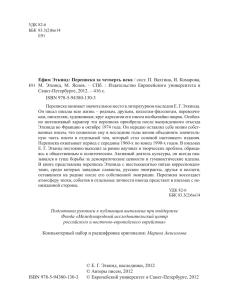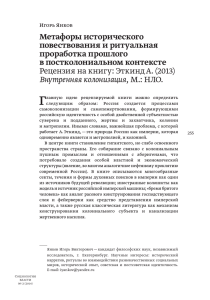Д.В. Лукьянов Эткинд А. Стр. 1 из 3
реклама

Стр. 1 из 3 Д.В. Лукьянов Эткинд А. ХЛЫСТ (СЕКТЫ, ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ) М.: Новое литературное обозрение, 1998. - 688 с. Рецензируемая книга А. Эткинда – расширенный и более тщательно структурированный по сравнению с его предыдущими работами (в России вышли его книги «Эрос невозможного. История психоанализа в России» (СПб. 1993) и «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века» (М. 1996)) итог размышлений автора о судьбе российской культуры и истории конца XIX – начала ХХ вв., которые на этот раз по-новому открываются в их предельной и универсальной метафорической форме – сектантстве. В смысловом поле последнего автор рассматривает не столько события конкретной истории русских сект от Смутного времени до Серебряного века, сколько общую специфику «возрастающего влияния» мистических элементов на развитие «русской цивилизации» (с.675), формирование в результате этого влияния к началу ХХ в. особой «конспиративной политической культуры» (с.40), продуктивность и одновременно исходную предельность «социально-экономической архаики» в процессе модернизации русского общества рубежа веков (с.29), особую роль представлений о «реальности народной культуры» в складывании официального «дискурса власти» в начале 1920-х гг. (с.34) и т.д. Однако за всем многообразием сюжетных линий, дискурсов и «ролевых моделей» русского сектантства, представленных вниманию читателя, угадывается едва ли не основная тема автора – анализ специфической реальности самой русской революции. Для А. Эткинда, как и для многих современных историков, в целом, очевидно, что с интеллектуальной деформацией прежней научной онтологии советской историографии, этатистской по качеству и целям социального познания, а также с развитием новых способов «семиотического освоения мира» советской истории, современная историографическая феноменология революции предстает как сложно структурированный социально-политический дискурс, в котором элементы идеального, мифологического и реально-исторического тесно переплетены и взаимообусловлены. Прежний «доминирующий» тип исторической реальности рубежа веков, представленный в «объективной методологии» марксизма лишь феноменологией единственно активного субъекта исторического действия – государства – изначально не устраивает автора: государство само по себе органически не способно понять ни своей природы, ни своей миссии. В поисках реального субъекта отечественной истории А. Эткинд настаивает на единственно реальным – «массовом, действенном, вооруженном – участии русских сект в революционной борьбе» (с.20). Доминанта социальнополитической феноменологии конца XIX – начала ХХ вв., таким образом, изначально отступает перед важностью анализа общих представлений человека рубежа веков о самом себе в мифологизированном пространстве большого времени истории. В работе на первый план выступают ожидания, эмоции, иллюзии, поверья, страсти людей той эпохи, поособому преломленные и унаследованные социальной мифологией и культурой на протяжении двух столетий российской истории. При этом основной формой существования «мифологии Нового времени» (с.65) в России А. Эткинд называет отечественную литературу с изначально присущим ей механизмом взаимной символизации «реального» (конкретно-исторического) через «воображаемое» (историю идей). Императивом звучит утверждение, что «революции совершались в текстах, а оттуда смотрелись в свое историческое отражение, тусклое и всегда неверное» (с.21). В этом смысле самостоятельным значением обладают лишь «тексты, разразившиеся революцией». Автор неоднократно повторяет в книге, что цель его работы – написание «истории не событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу» (с.6); главный предмет его исследования - «не события как история, а история как нарратив» (с.586). Как уже отмечалось, А. Эткинд не ставит акцент на социализирующих детерминантах культурного творчества Серебряного века. Наоборот, автор воспринимает человеческую культуру рубежа веков как единый интертекст, в котором происходит интертекстуальное растворение суверенной субъективности человека в текстах-сознаниях культурной традиции данной эпохи, а сам автор такого текста превращается в пространство проекций интертекстуальной игры. В «Хлысте…» распознаваема основная интертекстуальная «презумпция» (с.108), которой располагает техника доказательств Эткинда и которая в значительной мере определяет степень субъективности всех заключений авторской мысли. Важным признанием наличия единого интертекстуального пространства file://D:\Работа_НЕБ\nivestnik\Проба\24.html 14.07.2007 Стр. 2 из 3 рубежа веков при этом является авторская возможность рассматривать любой вновь появившийся текст в его интертекстуальном предтексте. В данном ключе «интертекстуальность» вовсе не случайна в новой работе Эткинда, она, как и прежде в его работах, является уточнением поиска «сверхприродного единства» в метафорической форме культурного творчества рассматриваемого периода. В связи с этим сектантство в книге А. Эткинда предстает дополнительно еще и как принципиально открытая метафора, смысл которой может определяться, с одной стороны, через авторскую методологию сочетания интертекстуального анализа с «новым историзмом» (с.6), с другой - постигаться самим читателем с помощью совместного с автором «чтения-написания», с третьей - на определенной стадии своего успешного освоения базовая метафора может вообще «перестать нуждаться в индивидуальном авторе» (с.107), разомкнув свои условные границы до многообразия «текста-жизни» (с.6). В этом плане позиция «радикального эмпиризма», которую отстаивает А. Эткинд, базируется на том, что «в человеческих делах существуют только две эмпирические реальности: тела и тексты» (с.109), все остальное в пространстве между ними – лишь различные разыгрываемые ими же спекуляции. А. Эткинд определяет «тему» книги как «одну и ту же стихию», которая «живет в текстах русской литературы и в явлениях народного духа» (сектантстве), и именно ее (стихии) поиском, отражением и выражением издавна становились в силу национальных особенностей великие русские писатели. Благодаря им данная стихия «становилась доступной всем» и именно «со ссылкой на <…> данных писателей о стихии можно писать дальше» (с.235). Реальное выражение интеллектуального и интуитивного «уловления» подмеченной «стихийности» как ключевого и повторяющегося элемента в поисках отечественной культурной идентичности автор находит в различных социокультурных мифах личного происхождения (от К. Селиванова и В.С. Соловьева до различных деятелей советского государства). При всей своей интертекстуальной насыщенности именно сектантство в качестве метафорического знака отечественной культуры способно, по мысли автора, и описать столь неопределенное явление как «русская душа», и в целом дать ключ к пониманию важного феномена антиномии русской культуры (с.162). Историко-философская модель А. Эткинда фиксирует важную составляющую русской истории, которая наследуется в ней в качестве культурного кода: «буквальность осуществления» (с.106) самых невообразимых социальных проектов, политических утопий и политических мифов. Общекультурный контекст исполнения данных установок связан, по мнению автора, с тягой человека элитарной культуры ко всему подлинному, настоящему, первоначальному, которая с одновременным отказом от собственной культуры принимает вид «нисходящей динамики культурного опрощения» (с.261) и оборачивается в результате лишь жалким воспроизводством неверных копий с подлинной историчности (с.166). Драматическим итогом такого нисхождения высокой культуры в сакрализованный мир подлинной народной культуры явилась Октябрьская революция. Последняя осуществила, по мнению А. Эткинда, переход «от культуры к природе, от интеллигенции к народу, от мужского к женскому» (с.186), реализовав тем самым хотя и новый по качеству, но в целом «традиционно» бытовавший в низовой культуре проект социализации, претворив в жизнь «апокалиптическую» природу универсальности собственных целей. Поэтому для автора «Хлыста…», в контексте его собственных размышлений, естественно видеть в окончательной победе большевиков 1917 г. «победу старообрядцев XVII в.». При этом в качестве «общего врага» в свершившихся переворотах выступает «петровская Россия», а главной целью явился «рай на земле» (с.488). Рассматривая многообразное «движение религиозного протеста», А. Эткинд констатирует, что «страна, которая целое столетие стояла на пороге Реформации, так и не прошла ее» (с.595), в ней на рубеже веков был реализован иной исторический «текст», приведший к деструктивной социальной практике и соответствующим реальным метаморфозам (изменение отношения к собственности, классовости, полу, культуре в целом), воплотившим различные «идиомы русской утопии», среди которых сектантство (скопчество, хлыстовство и т.д.) является, по мнению автора, смыслоопределяющим. Тип концептуализации российской культурно-исторической действительности ХIХ – начала ХХ вв., который предложил А. Эткинд, используя для этого метафору сектантства, по-своему актуален и плодотворен. С помощью нее автор по-новому структурирует наше восприятие известных событий прошлого, предлагая особую эвристическую модель, в которой полученные символы исследовательского опыта и мышления автора относительно рассматриваемой эпохи даны в виде строго и научно обоснованной и систематизированной репрезентации. Однако, как и любая модель, file://D:\Работа_НЕБ\nivestnik\Проба\24.html 14.07.2007 Стр. 3 из 3 конструкция автора построена лишь на известном соотнесении (референции) с моделируемой реальностью (историей) и поэтому в известном смысле исходно культурно и исторически локализована. В целом в контексте конструирования отечественными авторами принципиально иного исследовательского опыта создания «общей теории российской смуты» (В.П. Булдаков) книга А. Эткинда, несмотря на ее относительную претенциозность, может оказаться полезной. file://D:\Работа_НЕБ\nivestnik\Проба\24.html 14.07.2007