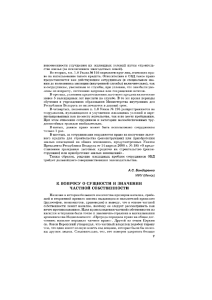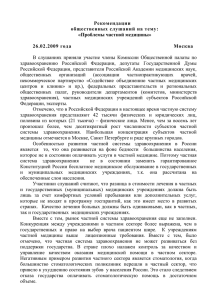99. 03. 009. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной
реклама

70 99.03.009. ЧЕЛОВЕК В КРУГУ СЕМЬИ: ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В ЕВРОПЕ ДО НАЧАЛА НОВОГО ВРЕМЕНИ/ Под ред. Бессмертного Ю.Л. – М.: РГГУ, 1997. – 376с. Реферируемая книга представляет собой первый выпуск исследований, осуществленных участниками научного семинара “Индивид и частная жизнь в Европе до начала нового времени”, руководимого историком–медиевистом Ю.Л.Бессмертным. Возникший в середине 90–х годов в ИВИ РАН этот семинар объединяет историков разных специальностей – античников и медиевистов, занимающихся странами Западной Европы и Россией, исследующих проблемы современного историографического процесса, методики и методологию новой культурной истории. Научная программа Семинара. в рамках работы которого подготовлено данное издание, является новаторской, во–первых, – методологически, так как ставит целью разработку новых (не только для отечественной, но и для западной науки) конкретных подходов и методик социо–культурных исследований; во–вторых, – с точки зрения самой избранной для изучения области: сферы частной жизни, как специфического социокультурного пространства в доиндустриальных обществах и в этом контексте – индивидуальных поведенческих форм, поступков и действий конкретных людей различного социального статуса, их способности к выбору индивидуальных, расходящихся с обычаем, порой ломающих культурный стереотип решений. Важность конкретно–исторических исследований в этом направлении тем более велика, что они открывают перспективу для уяснения одной из ключевых проблем (и трудностей) современной исторической науки, а именно, того как соотносятся в истории детерминизм, причинность и человеческая свобода, коренящаяся в способности человека выходить за пределы наличного бытия и собственные мыслительные пределы – стереотипы сознания, поведенческие клише. Исследования в этом направлении подводят историка к возможности “уловить” социокультурную “симптоматику” поступательного развития общественных систем, становление нового качества культуры и вклад индивида в этот процесс. Располагающееся в этом проблемном поле издание представляет собой коллективную монографию. Четырнадцать глав-очерков, систематизирующих ее содержание, связывает не просто общность темы – “частная жизнь, человек в кругу семьи”. Монографичность обеспечивается общностью исследовательской позиции авторского коллектива в трактовке самого понятия “частная жизнь” применительно к рассматриваемым в книге историческим эпохам и подходом к изучению 71 определяемой этим понятием сфере человеческого бытия в Античности, Средневековье, раннее Новое время. Единство исследовательской стратегии прямо декларируется руководителем авторского коллектива и ответственным редактором книги Ю.Л.Бессмертным в Предисловии (с. 5–8) и методологической 1 главе “Частная жизнь: стереотипное индивидуальное. В поисках новых решений”; констатируется в заключительном разделе “Частная жизнь и индивид. Предварительны итоги”. Сознавая условность категориального аппарата современной исторической науки, тем более таких социологических по своей природе понятий как “частная жизнь”, “публичность”, выработанных применительно к новоевропейской действительности, подчеркивает Ю.Л.Бессмертный (с. 346–347), авторский коллектив тем не менее считает возможным их использование как рабочих, инструментальных, позволяющих оттенить историческую специфику соответствующих сфер социального бытия, также как и своеобразие их отнесения друг с другом в конкретно–исторических условиях каждой из изучаемых эпох. Уточняя методологические ориентиры данного исследования и подчеркивая его “поисковый” характер, Ю.Л.Бессмертный отмечает в данной связи, что авторам особенно импонирует дефиниция понятия “частная жизнь”, предложенная А.Геленом для современности, утверждающим, что “главным прибежищем” частной жизни является семья, как “сфера непосредственного общения людей” и “единственный противовес всякой публичности в современном обществе” (с. 13). Аналогично и понятие “семья” в данной работе определяет скорее формальное пространство исследовательского поиска, чем его предмет: “тот гетеро–половой союз, который выступал исходным элементом семейной ячейки, интересует нас, – пишет Ю.Л.Бессмертный, – прежде всего как функция внутренних переживаний участников этого союза более или менее сокровенных, более или менее индивидуализированных” (с. 13). В центре внимания авторов книги, таким образом, находится один из “срезов” сферы “частной жизни”, один из ее “сюжетов” – эмоционально–окрашенные родственные отношения между супругами, родителями и детьми; сентиментальные отношения между мужчиной и женщиной, раскрываемые на конкретно–историческом материале разных эпох и различных конкретных “казусов”. Авторы очерков ставят своей целью в каждом индивидуальном случае понять поведение своих героев и их переживания в сфере частной жизни как взаимосвязанные проявления, с одной стороны, “ментальных стереотипов”, а с другой – “индивидуальных импульсов” (с. 14). В этом стремлении изучить индивида “в его неповторимости” и одновременно в его ”культурном 72 ряду”, “повторяемости” заключается, отмечает Бессмертный, своеобразие и актуальность творческого замысла данного издания. С этой точки зрения оно располагается в русле эпистемологических исканий современной исторической науки и ориентируется на ее обретения в данной области во 2–й половине нынешнего столетия и особенно в последние полтора десятилетия. В двух специальных глав (автор Л.П.Репина): “Выделение сферы частной жизни как историографическая и методологическая проблема” (с.20–34); “История женщин сегодня. Историографические заметки” (с. 35–73), дан фронтальный анализ представительного корпуса научных публикаций (конкретно–исторических и теоретических) по проблеме соотношения частного и публичного в историческом прошлом, реконструируя по своим масштабам и глубине картину перемен в области исследовательского пространства современной мировой науки и профессионального сознания самих историков. Они сегодня в целом едины, – пишет Л.П.Репина, в своем стремлении к преодолению “абсолютизации языковых дуализмов, отражающих иерархические оппозиции типа: частное/публичное, индивидуальное/коллективное, центральное/маргинальное и т.п. Вопрос о полном обособлении частной и публичной сфер социальной жизни, относя начало их отчуждения не к началу Нового времени (“когда возникает понятие “частного”, как находящегося “вне сферы публичного” (но к середине XIX, когда получает распространение “культ семьи и очага”. Оперируя понятиями “частное–приватное”. “личное–персональное” историки сегодня стремятся в своих исследованиях к “стереоскопичности изображения”, чему способствует отсутствие жестких дефиниций, их “нарочитая безразмерность”. Л.П.Репина акцентирует внимание на тех перспективах культурно–исторического синтеза, которые открывают для исторической науки современные гендерные исследования и “преобразуемые на их основе” “женская история”. “демография женщин”, “история семьи”, “частной жизни”. Плюридисциплинарные по своей природе и исследовательской стратегии, ориентированные на понимание внутреннего мира человека и индивидуального своеобразия, специфики культурно–коммуникативных связей не только групп и общностей, но также и отдельных индивидов, пишет Л.П.Репина, они “имеют объективное основание стать важным стратегическим плацдармом как для изучения истории частной жизни, так и для реализации проекта “новой всеобщей истории” (с. 55). Этой методологической ориентации в той или иной мере следуют и авторы конкретно–исторических глав–очерков, составляющих основное содержание книги. Очерки систематизированы в двух разделах: 73 “Мужчина и женщина, различия в статусе. Супружеские и вне супружеские контакты: Стандартное и нестандартное поведение” (гл. 4– 8); “Родители и дети. Связи притяжения и отталкивания. Семейное и родовое самосознание. Нормативное и индивидуальное” (гл. 9–13). Авторы предполагают два уровня рассмотрения темы “частная жизнь”: раскрытие ее конкретно–исторических форм выражения, с одной стороны, и выявление роли индивида и индивидуальных форм ее переживания, с другой. Разностороннюю реализацию замысел этот получал в исследованиях И.С.Свенцицкой (“Греческая женщина античной эпохи путь к независимости”) и М.Л.Абрамсон (“Супруги, их родные и близкие в южно–итальянском городе высокого Средневековья. X–XIII вв.”). Оба исследования сближает последовательно реализуемое стремление их авторов к рассмотрению эмоционально–духовной жизни мужчины и женщины, их внутреннего мира в широком социокультурном контексте меняющихся во времени представлений и поведенческих форм, касающихся отношений с родными и близкими в семье и вне ее, их возможностей как субъектов деятельности и пределов ее ограничения со стороны семейно–родственной группы, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур. Привлекая источники разного типа (жизнеописания, мемуары, автобиографии, эпитафии, морализаторские трактаты, литературные тексты, нормативные памятники, судебные расследования и т.п.) И.С.Свенцицкая демонстрирует условность грани. отделяющей семейную сферу частной жизни от публичной. Менее выраженная для мужчины, чем для женщины, грань эта вместе с тем никогда не была абсолютной, непреодолимой даже в Афинах классической поры, пишет автор. Одной из особенностей семейной сферы частной жизни в античную эпоху, как показывает Свенцицкая, было то, что большинство правил поведения, в частности касающихся брака, взаимоотношений мужчины и женщины, определялись здесь не только “обычаем и обычным правом”, но и повседневными житейскими практиками, предполагавшими подчас отклонения от нормы, постепенно подтачивавшие и ломавшие ментальные и поведенческие стереотипы, в том числе касающиеся представлений об образе жизни женщины и о браке, как союзе, исключающем эмоциональные отношения. И.С.Свенцицкая демонстрирует случаи девиантного, отклоняющегося от нормы поведения женщин и мужчин, в браке и вне его и реконструирует разные уровни социальных взаимосвязей своих героев и соответственно – социального резонанса на нестандартность их поведенческих практик и, в конечном счете – в основных своих звеньях сам процесс 74 социокультурной трансформации и становления нового качества культуры на уровне ее базовой сферы. И.С.Свеницкая прослеживает “нестандартность поведения древних гречанок” в области внутрисемейных и сфере сексуальных отношений; их участие в религиозных неофициальных культах, группах, общинах, союзах, отношений, констатируя одновременно с расширением свободы их выбора в матримониальном и сексуальном поведении конституирование в общественном сознании неоднозначного и противоречивого их восприятия: “идеальная женщина” – “злодейка”, “колдунья”. Исследование М.Л.Абрамсон посвящено высокому Средневековью. Оно базируется на анализе частно–правовых актов, касающихся конкретных случаев сделок, договоров, брачных и завещательных контрактов и т.п. Дополняя в отдельных случаях эти в массе строго формализованные документы литературными источниками и материалами дидактического характера, М.Л.Абрамсон стремится “расслышать живые голоса прошлого, истинные настроения, эмоции жителей городов, апробировать в контексте конкретных житейских ситуаций топосы, “клишированные выражения” своих документов, фиксируя случаи “нестандартного поведения”. Это выводит автора одновременно на проблемы специфики института семьи, брака, брачного и имущественного права, наследования, в городах итальянского Юга, ставя таким образом перед необходимостью апробации и выяснения социальных взаимосвязей и поведенческих практик разного уровня в различных сферах, в том числе домохозяйственной и семейной жизни горожан и, соответственно, личностных и эмоциональных отношений между мужем и женой, членами семьи, родителями и детьми, дядьями и племянниками, старшими братьями и т.п. (с. 105–112). В исследовании М.Л.Абрамсон семейная сфера частной жизни в южно-итальянских городах X–XIII вв. являет собой, в отличие от Античности, специфическое пространство приватных отношений, регулируемых не только обычаем, но и правом, писаными законами, скрепленное эмоциональными отношениями между супругами, родителями и детьми, моральными обязательствами по отношению к близким и престарелым родственникам. Но как в Античности грань между сферой частной жизни супружеской семьи и в целом “фамилии”, “городского линьяжа”, домохозяйственной общины. с одной стороны, и сферой “публичности” (соседская община, деловые сообщества, братства и корпорации, магистрат и т.п.), с другой – остается условной и прозрачной. Автор показывает это, реконструируя обширные “пограничные полосы”, где интересы индивида и групп, в которые он входил, сталкивались с интересами внесемейных, “публичных” 75 общностей, в том числе и с интересами государственной власти. Фиксируя участившиеся в XIII в. случаи девиантного поведения в супружеском союзе, в деловой практике мужчин и женщин (с. 121–129). М.Л.Абрамсон обращает внимание на происходившие параллельно усиление нуклеарной семьи, ослабление ее зависимости от родственной группы, “усложнение гаммы человеческих чувств” и “возрастание духовной близости между супругами”. “повышение в целом статуса женщины как хранителя и передатчика семейной памяти и ценностей. «По мере того, – пишет М.Л.Абрамсон, – как трансформируется, хотя и медленно система нравственных ценностей и крепнет самосознание индивида, чаще можно наблюдать и случаи его девиантного поведения» (с. 131). Об условности, подвижности грани между “частным” и “публичным”, их взаимопроникновении идет речь и в очерке В.А.Блонина “Любовные связи и их литературное преломление во Франции XII века” (гл. 7). Автор исследует “мир любви и куртуазии” во французских литературных памятниках конца XII в., развиваемые их авторами концепции любви, нормы, куртуазного поведения мужчины и женщины, общие правила и представления об эмоционально–интимных отношениях между ними. Исследование базируется на текстуальном анализе трактата Андрея Капеллана “De amor” и письмовников с образцами любовных диалогов и посланий. Следуя в анализе своих источников от “общих правил” к “конкретным казусам”, от нормативных образцов любовных диалогов к менее формализованным поэтическим образцам любовной переписки, к конкретным описаниям бытовавших представлений о любви, В.А.Блонин стремится отделить литературный вымысел, игру, жанровые клише от социокультурных реалий конца XII в. и пересматривает традиционную оценку своего источника – трактата Капеллана. Это сочинение, пишет Блонин, не является лишь “сплошной пародией на куртуазию или ироническим осуждением плотской любви”, “в некоторой своей части оно могло восприниматься современниками всерьез” (с. 174). Сравнительный текстологический анализ показывает, пишет автор, что “куртуазный мир”, хотя он и находился вне семьи и даже противопоставлялся ей, “исходя из соответствующих принципов куртуазии”, не противостоял родственно–брачным отношениям абсолютно. Правильнее говорить, полагает Блонин, об их взаимодействии и взаимовлиянии, сложном переплетении “игры”, публичности и вместе с тем приватности, оставлявшем за конкретным индивидом “определенную свободу выбора, прежде всего “благодаря неоднозначности и рекомендательному характеру формулируемых норм, своеобразной “ритуальности” этой особой “куртуазной игры” (с. 175). 76 Хронологически в тех же рамках XI–XII столетий развертываются исследования в главах С.И.Лучицкой и П.Ш.Габдрахманова. “…Как в жизни конкретного человека решается извечный конфликт между общественными и частными интересами, между долгом и чувством? – ставит вопрос С.И.Лучицкая в своем очерке о графе Стефане Шартрском (1047–1102), одном из предводителей Первого крестового похода в Святую землю, и его супруге графине Адели Шартрской (“Семья крестоносца: супружеский конфликт в начале XII века”). С.И.Лучицкая реконструирует историю их частной жизни по фрагментам писем графа к супруге, соответствующих свидетельствах хроник крестовых походов и сочинений французских историков XI–XII С.И.Лучицкая создает впечатляющий образ высокого эмоционального чувства, связывающего обоих супругов, которое в критической ситуации толкает одного из них – графа Стефана – на “девиантное поведение” (отъезд из Святой семьи домой), нарушение общественного долга, а другого – графиню Адель – ставит перед дилеммой: радость супружества, или честь дома, детей, рода. Она выбирает последнее, обрекая супруга на гибель и утверждая в общественной памяти потомков доброе имя свое и своей семьи. В центре внимания П.Ш.Габдрахманова (гл. 9) крестьянская семья XII в. из числа зависимых людей крупного мужского монастыря близ Гента (Фландрия), к пониманию семейно–родового сознания которой он стремится приблизиться путем антропонимического анализа практики имя наречия по материалам ее генеалогии, прослеживаемой на протяжении столетия. Сопоставляя историю этой семьи с судьбами других крестьянских семей, П.Ш.Габдрахманов фиксирует специфику восприятия самими крестьянами собственного рода, родства, семьи, внутренних взаимоотношений внутри ее. Автор констатирует, что частная жизнь и судьба каждого из крестьян зависели не столько от него самого, сколько от тех семейных традиций и норм, которым “с неизменным постоянством следовали из поколения в поколение члены семьи и рода и которые отводили каждому из своих членов заранее определенную роль и функцию”. Все это однако, как показывает исследователь, не исключает вовсе возможность выбора, “хотя бы на уровне семьи”, о чем свидетельствует реконструированное им разнообразие наследственных семейных имен. Еще в большей мере. полагает он, возможность индивидуального выбора можно предположить “у родителей”: доля крестьян лишь с однократно встречающимся именем составляет у мужчин и женщин, примерно, половину от всех фигурирующих в исследованных генеалогиях (234–235). М.А.Бойцова (гл. 10) интересует другая социальная среда – высшая германская знать XIV–XVI вв. Его источники – жизнеописания, 77 автобиографии глав некоторых рыцарских семейств, переписка между членами отдельных княжеских фамилий, что позволяет автору поставить вопрос о “своеобразии соотнесения в сознании авторов” этих исторических памятников и документов тех сфер человеческого бытия, которые “современный человек определяет при помощи понятий “приватное”, “публичное”. М.А.Бойцов констатирует “достаточно глубокую укорененность” такого различения и в сознании персонажей своих источников: об этом свидетельствует “последовательное разведение “семьи” и “служения” в исследованных текстах. Но, как подчеркивает автор, в отличие от современности речь в данном случае шла не об индивидуальной, а “семейной приватности”. “Частные отношения”, как показывает исследователь, могли “легко складываться и в рамках, казалось бы “официальных” общественных институтов, таких как, например, сеньориальный двор”, а “публичное” – проявиться в “приватном” (с. 255). Очерк М.А.Бойцова содержит выразительный в этом отношении конкретно–исторический материал, раскрывающий динамику и специфику внутрисемейных отношений отцов и детей, но также и отношений служения и службы в среде германской знати в их взаимосвязях и “перетекании”. В центре внимания П.Ю.Уварова (“Старость и немощность в сознании француза XVI века. Сцены из нотариальной практики времени Генриха II”) другая социальная среда: горожане, крестьяне, пригородных деревень, буржуа, университетские магистры, теологи, юристы, священники и иной тип источников – акты дарений, завещательные документы. Автор стремится на основании “заявлений или умолчаний дарителей” воссоздать “фрагменты реальности”, отражающие “восприятие старости”, ее забот и проблем и, соответственно, норму и “личный выбор”, неординарные поступки в этой связи (с. 262–264 и др.). Исследование П.Ю.Уварова базируется на архивных материалах, образующих серийный источник однотипных документов. Это последнее позволяет автору уяснить не только специфику их “языка”, “формирующего идеальную норму”, артикулирующего принятые в обществе культурные стереотипы, но и выявить нестандартность “речевого поведения, отражающую “индивидуальную поведенческую стратегию” и нотариуса и стоящего за ним его клиента (с. 281–285). Большое внимание анализу языковых форм и стилистических особенностей текста своего источника уделяет Л.П.Найденова – автор очерка “Свои” и “чужие” в Домострое. Внутрисемейные отношения в Москве XVI века”. Л.П.Найденова вскрывает важную роль Домостроя в оформлении самой сферы “приватного, личного”, реконструируя 78 нравственные принципы и поведенческие нормы внутрисемейной жизни, организации домохозяйства как единого хозяйственного, социального, психологического пространства, строго иерархизированного, скрепленного кругом обязанностей его сочленов, закрытого по отношению к внешнему миру. Характеризуя психологический климат сферы внутрисемейных отношений, ролевые функции каждого из супругов в рамках “дома”, автор обращает внимание на лежащий в их основе принцип дополнительности, определявший диалогический характер взаимоотношений и взаимодействия противоположных полов, обеспечивающий социальную устойчивость, эффективность и социальную важность этой структуры в общественном целом и укрепление малой супружеской семьи, ее выделение и возвышение в рамках семейно–родственных отношений. Л.П.Найденова подчеркивает в целом высокую оценку автором Домостроя статуса женщины как жены и матери, ее роли как “регулятора эмоциональных отношений в семье”, защитницы, “заступницы” за детей и слуг перед “государем”, главой домохозяйства, как наставницы в благочестивом поведении (“нищелюбие”). Обладающая своим кругом обязанностей по содержанию дома, воспитанию детей и “слуг” женщина– супруга и мать и в реализации их обладает “долей самостоятельности и правом на уважение”. Касаясь “пресловутой главы о наказаниях”, Найденова подчеркивает, что декларируемые в “теоретической части”, телесные наказания в “практической части предлагаются как мера крайняя”, – “только за вину и ослушание “великое и страшное”, но осуждаются те, кто “с сердца и кручины бьет”, вымещая на близких свое раздражение и досаду” (с. 303). На русском материале строится и очерк Н.Л.Пушкаревой “Мать и материнство на Руси X–XVII вв.”. Резюмируя результаты своего исследования “роли в частной жизни материнства и материнского воспитания в Древней Руси X–XV вв. и в Московии XVI–XVII вв.” (с. 329–331), автор, в частности, подчеркивает, что эмоциональные отношения между родителями и детьми становятся постепенно “значимой составляющей повседневного быта и, следовательно, частной жизни женщин”, и приобретают законченную форму в XVI–XVII столетиях. Материнство и все, что с ним связанно, самими женщинами воспринималось “амбивалентно”, как благо и тяжелая обязанность, порождая “двойственность эмоционально–психологических связей матерей и детей – “небрежение”, но “любящее небрежение”, которое особенно хорошо просматривается по ранним памятникам (с. 329). Церковь и народный обычай на протяжении веков “упорно формировали идеал женщины – многодетной матери. Это сказалось и на 79 кристаллизации определенного отношения к женщине: в повседневной, частной, семейной сфере жизни, да и вообще в сообществе” (там же). Автор подчеркивает “определенную стабильность позитивной динамики развития частной сферы жизни древних руссов и московитов”, объясняя ее особенностями русской семейной организации, характеризовавшейся большой устойчивостью межпоколенных связей, значительной ролью старших женщин в доме (бабушек), уважительным к ним отношениям со стороны детей и внуков, что особенно хорошо прослеживается на поздних (XVII в.) материалах” (с. 330). Прослеживая “увеличение удельного веса эмоциональности” в отношениях матери и детей и в семейно–родственной сфере в целом, с конца XVII в., Н.Л.Пушкарева подчеркивает, что это происходило “параллельно с процессами обмирщения духовной сферы, ростом значимости и ценности частных, личных переживаний, что характеризовало зачатки нарождавшихся в России XVII в. индивидуализма и гуманизма” (с. 331), и имело своим следствием, в конечном счете, обогащение частной жизни и в перспективе – становление женского самосознания. Следующий очерк “Любовные связи и флирт в жизни русского дворянина начала XIX в.” (авторы Н.Л.Пушкарева и С.А.Экштут) имеет своим источником интимные “Дневники” (1827–1843 гг.) А.Н.Вульфа, современника А.С.Пушкина, в круг общения которого он входил. Авторы ставят задачей реконструировать “бытовое поведение и частную жизнь российского дворянина той поры”; поразмыслить о том, “насколько важную (или, напротив, незначительную) роль играли в частных переживаниях мыслящих и образованных людей пушкинской поры”, соображения, далекие от политики – «о духовной и физической близости с женщинами, о мужском тщеславии, чести и порядочности, о роли любовных связей в достижении карьеры и их нравственной допустимости, о соотношении и весомости связей любовных и родственных, о месте флирта в личной жизни дворянина, о ценности личной жизни» (с. 182–183). Вместе с тем, “Дневники” А.Н.Вульфа привлекают исследователей сугубо личным, интимным характером своих записей, тем, что они “отразили индивидуальный облик А.Н.Вульфа просто как человека – его характер, речь, привычки. Все описанные (им) поверхностные любовные увлечения были неотъемлемой сущностью его эмоционального склада. И индивидуальность, и внеиндивидуальность духовного мира Алексея были фактом культуры пушкинской эпохи – обусловливались ею и, в конечном счете, ее же и обогащали” (с. 199). Завершает книгу очерк “Частная жизнь и индивид”. Предварительные итоги”. Автор его, Ю.Л.Бессмертный, обобщая 80 результаты рассмотренных выше конкретных исследований, возвращает читателя к обсуждению специфики различения человеком Средневековья и раннего Нового времени сфер “частной” и “публичной” жизни, своеобразия соотнесения стереотипа и нестандартного поведения у индивидов в разные исторические эпохи и в разных социальных средах, воздействия нестандартного поведения индивида на массовые стереотипы и т.п. “Ни анализ объективного восприятия содержания отношений в кругу близких, ни изучение субъективного восприятия современников в эти периоды, – пишет Ю.Л.Бессмертный, – не обнаруживают того четкого различения частного и публичного, к которому привыкли люди нашей эпохи” (с. 345). Обособленность сферы частного далеко не всегда осознавалась и, соответственно, не вызывали протеста, меры властей по урегулированию тех аспектов поведения (например, выбор брачной партии), которые современным человеком воспринимаются, как попытка вторжения в приватную сферу его жизни. Размытость грани частного и публичного была характерна в рассматриваемые эпохи для восприятия людей, независимо от их социального статуса. Так в средние века всякое уединение воспринималось как предосудительная странность. Отшельничество выглядело, как явное отклонение от стереотипа и как подвиг” (с. 346). Но насколько оправданно, с этой точки зрения, категориальное вычленение “частной сферы жизни” по отношению к историческому прошлому? Обращает на себя внимание, пишет в этой связи Ю.Л.Бессмертный, существование в изучаемых обществах некоей “социальной сферы”, объективно и в глазах современников все же отличавшейся “от сферы публичного служения” – будь–то служение полису или императору, или феодальному сюзерену. Наиболее заметное ее различие, пишет автор, состоит в том, что она предполагала “нерегламентированную какими бы то ни было правовыми нормами взаимопомощь сторон”, в противовес “взаимности обязанностей”, юридически предписывавшейся в случаях служения как добровольная, эмоционально обусловленная потребность в удовлетворении как материальных, так и психологических запросов и пожеланий контрагентов (см. с. 347). Вне публичной сферы оказываются на первом плане такие эмоциональные связи как материнская любовь, чувственная страсть, ревность, неразделённая любовь. К числу наиболее общих признаков “не–публичной – частной (или квази–частной)” сферы в Европе до начала Нового времени автор считает возможным отнести: “прямую связь с отношениями по поводу рождения детей; непосредственные личные связи между любовниками, побратимами, родичами, соратниками по частному военному союзу или участниками религиозного братства; 81 индивидуальное или групповое пристрастие к какой–либо игре или спорту, или любой иной форме внепроизводственной или неполитической деятельности; погруженность индивида в мир эмоций и сокровенного, например. в связи с религиозным обетом или переживанием, вызванными изменениями в собственном физическом (или душевном) состоянии. Выделяемая с помощью этих критериев сфера до некоторой степени соответствует той, что мы называем сегодня частной, она включала в себя при этом и “личную” и “сокровенную” жизнь (privacy) как самостоятельные подтипы поведения внутри частной сферы” (с. 347). При этом Ю.Л.Бессмертный подчеркивает, что некоторые из вариантов частной жизни (брачные связи и отношения внутри религиозного братства) “могли параллельно выступать и как элементы публичной сферы и иметь публично–правовое оформление” (там же). В этой “феноменологической” и “категориальной неполноте”, в прозрачности границ, “перетекании” приватного и публичного друг в друга, в их диффузии видит Ю.Л.Бессмертный одну из важнейших особенностей “частной жизни” в рассматриваемых обществах (с. 347–348). “Говорить о дихотомии частного и публичного в этих обществах, как и о самой частной сфере в них, можно, следовательно, лишь со значительными оговорками. Но и отрицать существование такой сферы и ее большую или меньшую отчлененность от публичной не приходится” (там же), о чем свидетельствуют уже результаты исследований, представленных в данной книге, раскрывающие “особенности восприятия частной сферы” в разных обществах прошлого (с. 348–350). Обобщая материалы конкретно–исторических исследований Ю.Л.Бессмертный уделяет большое внимание казусам “своевольного, нестандартного поведения”. Христианская идея брака, допускавшая плотскую близость лишь при условии продолжения рода, пишет он, не оставляла места для близости эмоциональной и духовной, для любви в ее куртуазном понимании. Но именно в сфере куртуазной любви, в игровых нестандартных ситуациях индивиду открывалась и возможность нестандартного психологического поведения и, соответственно, пересмотра принятых стереотипов в реальной жизни. Роль игры в отказе от стереотипного поведения не уменьшается и с концом Средневековья. Ю.Л.Бессмертный полагает, что и в среде российского дворянства XIX в. любовный флирт мог выступать как явление, “до некоторой степени родственное в этом отношении средневековой куртуазии” (с. 351). “Но в новых обстоятельствах и при совершенно иных социальных перспективах этот дворянский флирт открывал простор для личного самоутверждения, саморефлексии, переосмысления принятой иерархии 82 моральных приоритетов и ценностей» (там же). Конфликт с принятыми нормами никому не проходил даром и тем не менее самые разные люди – от короля до простолюдина шли на это. “Видимо, в том, что касалось половых отношений, поиск индивидами своего собственного “решения”, готовность отринуть стереотипы существовала вечно” (с. 352). Насколько распространен был выбор индивидуальных решений в сфере касающейся материнской и сыновней любви, чувства отцовства? Хотя этот аспект менее изучен, пишет автор, но некоторые наблюдения все же небезынтересны. Исследования фиксируют, наряду с распространенной практикой “небрежения” матерей и отцов в отношении детей (подкидывание детей) дают о себе знать случаи величайшей самоотверженности материнской и родительской любви, также как и, наоборот, стереотип сыновьего почитания родителей, сосуществует с практикой “небрежения” по отношению к ним и прямого насилия. Ю.Л.Бессмертный обращает внимание на “своеобразное соотношение стереотипа и нестандартного поведения” и у людей, ощущавших приближение старости или тяжелой болезни (см. с. 352). Конкретный механизм воздействия нестандартного поведения на массовые стереотипы с трудом поддается изучению. Но так или иначе, нестандартность поведения вызывала тот или иной резонанс: осуждение, сомнение, подражание. Особенно интересны для исследователя, пишет автор, случаи и ситуации, в которых нестандартное поведение отдельных индивидов со временем “заражало” окружающих, постепенно порождая новую норму. Наиболее яркие формы обнаруживаются при изучении представлений о возможном и запретном для древнегреческой женщины и при анализе воздействия куртуазной любви на эволюцию брачных моделей в период классического средневековья. “Это позволяет говорить о том, что исключительные казусы – при определенных условиях – могли выступать как пресловутые “локомотивы истории”. Фигурировавший в этих казусах индивид не просто варьировал обычные стереотипы, но “выходил на границы своей ментальности”, выступал как творец новых культурных норм. А это значит, что еще до эпохи Ренессанса и до рождения новоевропейской личности, прижизненный опыт индивида мог как бы оттеснять опыт предшествующих поколений, мог становиться движущей силой культурных сдвигов в частной жизни” (с. 352). Говоря об “определенных условиях”, способствовавших нестандартному поведению и последующей смене поведенческих стереотипов в частной сфере, автор послесловия, ссылаясь на исследовательский материал, указывает прежде всего на “роль в этом структурной ломки социальных и культурных установлений”. “В такие периоды обычаи, регулировавшие частную сферу, подвергались особенно 83 сильным испытаниям и не всегда их выдерживали. Свое влияние могло оказывать и усиление инокультурных влияний, связанное с иноземными вторжениями или мирными миграциями. Впрочем, эти гипотезы нуждаются в дальнейшей проверке, в том числе и за счет исследования других сфер частной жизни”. Ю.Л.Бессмертный подчеркивает, что исследования в этом направлении, вместе с изучением сокровенных переживаний, помогут пролить новый свет на своеобразие стереотипного и индивидуального в прошлом, на роль индивида в изменении массовых представлений, на важность внутренней работы души для самодвижения индивида и окружающей его культурной среды” (с. 353). А.Л.Ястребицкая