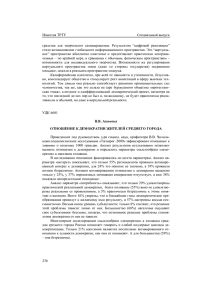Демократия и традиция
реклама
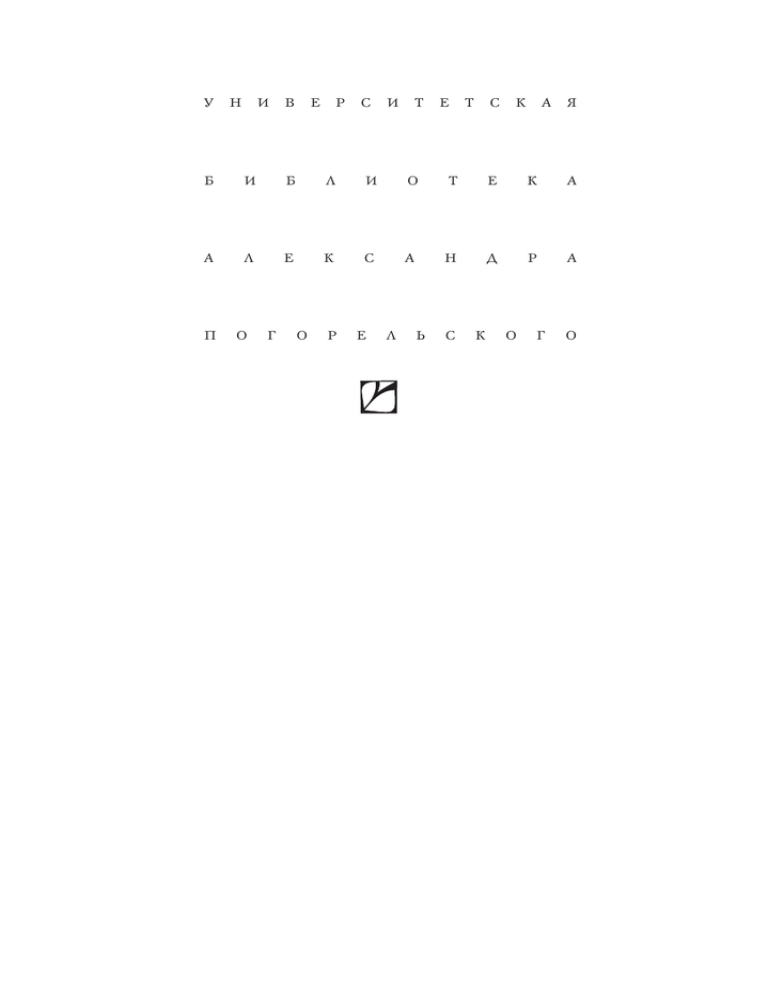
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я Б И Б Л И О Т Е К А А Л Е К С А Н Д Р А П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О 1 С Е И К 2 С У Л Р Т Ь Т И О У Р Р О Л Я И О Г Я И Я ДЖЕФФРИ СТАУТ ДЕМОКРАТИЯ И ТРАДИЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» МОСКВА 2008 3 ББК 63.3 Н 58 : В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский &'&() : В. Л. Глазычев, Г. М. Дерлугьян Л. Г. Ионин, А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов &&() < академик РАН В. В. Алексеев @&A&( доктор исторических наук, г. н. с., профессор А. В. Коротаев доктор исторических наук, г. н. с., профессор Н. Н. Крадин Книга рекомендована к печати Ученым советом Института истории и археологии УРО РАН Книга видного политолога и религиоведа, профессора Принстонского университета Дж. Стаута посвящена анализу двух противоположных тенденций в современной политической мысли Запада — демократического либерализма и религиозного традиционализма. Вниманию читателя предлагается обзор воззрений духовных учителей автора, таких теоретиков демократии, как У. Уитмен, Р. Эмерсон, Дж. Дьюи и их последователей. Большое внимание автор уделяет также разбору положений, выдвигаемых крупнейшими американскими исследователями, стоящими на позициях современной теологии и доказывающими, что современный политический дискурс должен вестись с привлечением аргументации религиозно-нравственного характера. Большое внимание в книге уделяется вопросам этики в современном мире. Автор не противопоставляет друг другу демократию и традицию, доказывая, что демократия — это тоже традиция, укорененная в обществе. Отдельные разделы книги посвящены «новому традиционализму» и «черному национализму», процессам секуляризации общества и ее последствиям, рассматриваемым с различных, порой противоположных точек зрения. Н 58 Джеффри Стаут. Демократия и традиция. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). — 465 с. isbn 5 – 91129 – 026 – O 4 © Издательский дом «Территория будущего», 2008 Книга написана частично на основе издания: Густав А. и Мейми Эфроимсон Памятные чтения (Колледж Еврейского союза, Еврейский институт религии, Цинциннати, Огайо, 30 апреля — 7 мая 1977 г.) Памяти Роба Мислика, учителя атлетов , посвящается Демократия является формой правления лишь потому, что она является формой нравственного и духовного единства. Джон Дьюи, «Этика демократии» (1885) Наследие, которое [народ] оставляет нам… состоит в том, что история выживания людей, система правил, борьба, объединение людей требовали разума и веры в этот коллективный опыт… Это было реально, это создало сегодняшний день. Возможно, это включает и нас. Это глубина, из которой мы восстали. Меридель Ле Сюёр, Страна Северной звезды (1945) Уитмен У. Песня о себе. — Пер. К. Чуковского. — Здесь и далее примечания переводчиков. 5 Содержание СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 • • • • • • • • • • • • 36 39 51 ГЛАВА 2. РАСА И НАЦИЯ У БОЛДУИНА И ЭЛЛИСОНА Стиль «черного национализма» • • • • • • • • • Плот надежды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 68 71 85 ВВЕДЕНИЕ • • • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВОПРОС ХАРАКТЕРА ГЛАВА 1. ХАРАКТЕР И БЛАГОЧЕСТИЕ ОТ ЭМЕРСОНА ДО ДЬЮИ • • • • Вопрос характера и дебаты о благочестии Переосмысленное благочестие • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОЛОСА РЕЛИГИИ В СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ГЛАВА 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПОРЕ • • • • • • • Религия и публичная аргументация • • • • • • Между Кантом и Гегелем • • • • • • • • • • Является ли религия тормозом диалога? (заголовок ?) • • • • • • • • • 94 • 97 • 115 • 126 ГЛАВА 4. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И НЕГОДОВАНИЕ • • • • Как этический дискурс стал секуляризованным и что это означает Отказ радикальной ортодоксии от всего светского • • • • За пределами негодования • • • • • • • • • • • • Теология, площадь и общественный анклав • • • • • • • • • • • • • • • • ГЛАВА 5. НОВЫЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ Проблема точки зрения • • • • • • • • • 169 • 171 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 134 136 146 154 161 & «После добродетели» и далее • • • Как можно не обсуждать либерализм • Традиция и рациональность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 177 • 182 • 193 ГЛАВА 6. ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПУТЬ МИРА Как Хауэрвас сделался традиционалистом Церковь и мир • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 199 • 200 • 208 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ГЛАВА 7. МЕЖДУ ПРИМЕРОМ И УЧЕНИЕМ Этика примера • • • • • • • • • • Значимые примеры в современной жизни • Критический теоретик и ее другой • • • 228 228 237 243 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА. ОБУСЛОВЛЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ ГЛАВА 8. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА • • • • • • • • • Остерегайся лидеров, апеллирующих к необходимости Анатомия проблемы • • • • • • • • • • • Безусловные обязательства как выражения демократической культуры • • • • • • • • • Доминирующие обязательства и важнейшие вопросы • • • • • • • • • • • • 253 • 257 • 259 • • • • • • • • • 266 • 274 ГЛАВА 9. ПОЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Словарь Прав: вот так история • • • • • • • • • • • • • Обмениваясь доводами: почтение, вызов и права • • • • • • • Как Бёрк и Пейн защищали свои позиции • • • • • • • • • Этическое восприятие • • • • • • • • • • • • • • • • 280 281 287 293 298 ГЛАВА 10. ИДЕАЛ ОБЩЕЙ МОРАЛИ • • • • Каковы перспективы общей морали? (Заголовок?) Оправдание • • • • • • • • • • • • • Истина • • • • • • • • • • • • • • • Верховный закон как воображаемая проекция • 308 310 316 324 328 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ГЛАВА 11. ЭТИКА БЕЗ МЕТАФИЗИКИ • • • • • • • • • Является ли разговор об истине метафизическим? (заголовок?) • • • • • • 335 • 337 7 Теология и метафизика: правда, обязательство и превосходство • • 348 ГЛАВА 12. ЭТИКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА Объективность в контексте социальной практики • Индивид и сообщество • • • • • • • • • • Приложение: метод в сравнительной этике • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ЗАКЛЮЧЕНИЕ • • • • • • • • • Демократия и современное зло • • • Три группы избирателей • • • • • За пределами секулярного либерализма и теологического традиционализма • Сообщество • • • • • • • • • Куда текут эти воды • • • • • • • 366 366 376 383 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 389 • 389 • 395 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 398 • 406 • 415 ПРИМЕЧАНИЯ • • • • • • • • • • • • • • • • Введение • • • • • • • • • • • • • • • • • Глава 1. Характер и благочестие от Эмерсона до Дьюи • • Глава 2. Раса и нация у Болдуина и Эллисона • • • • • Глава 3. Религиозные аргументы в политическом споре • Глава 4. Секуляризация и негодование • • • • • • • Глава 5. Новый традиционализм • • • • • • • • • Глава 6. Новый традиционализм • • • • • • • • • Глава 7. Между примером и доктриной • • • • • • • Глава 8. Демократические нормы в эпоху терроризма • • Глава 9. Появление современной демократической культуры Глава 10. Идеал всеобщей нравственности • • • • • • Глава 11. Этика без метафизики • • • • • • • • • Глава 12. Этика как социальная практика • • • • • • Заключение • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • УКАЗАТЕЛЬ • • • • 464 8 • • • • • • • • • • • • • • • • 417 417 418 422 424 428 430 433 438 439 444 446 450 458 460 Благодарности ]^& БЛАГОДАРНОСТИ Я много лет знаю Стэнли Хауэрваса, Алисдера Макинтайра и Дика Рорти. В части второй я спорю с ними, а в основу части третьей легло то, чему я у них научился. Мой долг перед ними носит как личный, так и интеллектуальный характер. Стэнли и Алисдер способствовали началу моей карьеры, побудив меня написать мою первую книгу и опубликовав ее в серии, издаваемой ими в издательстве «Нотр-Дам». Когда Дик еще работал в Принстонском университете, а я был младшим научным сотрудником факультета, он отвлекся от своих дел, чтобы поддержать и ободрить меня. Не один год мне приносило радость его великодушие. Его лучший дар был преподнесен им еще на раннем этапе, без слов, но Уитмен описал его так: «Моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего, Ты выслушаешь и тех и других и профильтруешь все через себя». Эти три человека оказали на меня сильное влияние еще за несколько лет до того, как стали публичными деятелями, в качестве которых они известны сегодня. Хауэрвас в то время ратовал за возрождение этики добродетели и критиковал пацифистов за ложное толкование языка справедливости. Макинтайр как раз недавно порвал как с марксизмом, так и с христианством и сделался независимым критиком радикального толка. Рорти уже тогда преклонялся перед Гегелем и Дьюи, но больше был известен своими строго аргументированными статьями, отмеченными влиянием Селлерса и Витгенштейна. Потому, наверное, неудивительно, что я часто защищал их прежние позиции и выступал против их позднейших публичных заявлений. Тот факт, что я занимался именно этим, впервые потряс меня в 1980-е годы, когда я читал размышления Хэзлитта о Вордсворте и Кольридже в трактате «Мое первое знакомство с поэтами». Уитмен У. Песня о себе. — Пер. К. Чуковского. Хэзлитт, Уильям (1778–1830) — английский публицист и литературный критик. См. изд.: Кольридж С.-Т. Стихи. — М., 1974. 9 Но я также неоднократно испытывал сомнения относительно того, в чем же мы на самом деле расходимся. Трое названных мной исследователей получили известность отчасти благодаря тому, что высказывали утверждения, шокировавшие их аудиторию. В результате у них появились сторонники из числа тех, кто хотел участвовать в чем-то новом и будоражащем душу. За это им пришлось вытерпеть нападки и насмешки со стороны признанных авторитетов. Их критики зашли очень далеко в своих попытках развенчать то, что было дорого для остальных из нас. Их последователи часто говорят, что критики воспринимают их сочинения чересчур буквально. В их работах можно найти места, где они смягчают многие из высказанных ими противоречивых тезисов или даже вовсе открещиваются от своих утверждений. Но если они — лукавые скептики, а не пророки, требующие от нас решительно переменить свои представления о нас самих, можно задать вопрос: а в чем же причина всего этого шума? В конце концов, не могут же они выступать в обеих ипостасях. Мне кажется, что избыточная риторика, вызвавшая активное недовольство, прежде всего пережила полезность их тезисов. Если есть в сочинениях этих авторов нечто, что нам стоило бы запомнить, то оно (в моем понимании) должно быть пересмотрено в серьезном отношении к тому, что они намеревались высказать. Эта книга представляет собой существенно пересмотренную и расширенную версию центрального тезиса моих лекций, прочитанных мной весной 1997 г. в Колледже Еврейского союза в Цинциннати. Было для меня честью читать эти лекции, и я приношу свою благодарность семье Эфраимсонов за то, что они осуществились. В первоначальных вариантах лекций я прежде всего вел речь о Сократе, Уитмене, Эмерсоне и «новых традиционалистах». При пересмотре текстов лекций я значительно изменил предлагаемую мной интерпретацию современных источников и последних вопросов, поднятых ныне работающими философами. Так получилось, что материал о Сократе представился не вполне удачно вписывающимся в дискуссию в целом, поэтому я принял решение опубликовать его в другом издании. Кроме того, я присовокупил материалы, опубликованные — или предназначенные для публикации — в других изданиях: – Ранняя редакция главы 2 опубликована в изд.: Is It Nation Time?, ed. Eddie Glaude, Jr. (Chicago: University of Chicago Press, 2002), 234–256. Копирайт © 2002 г. Чикагского университета. Авторское право охраняется. Перепечатывается с разрешения University of Chicago Press. 10 ]^& – Ранняя редакция части главы 3 должна появиться в изд.: Festschtist, памяти Николаса Вольтерсторффа, ed. by Terence Cuneo. – Части глав 4 и 5 напечатаны в изд.: «Commitments and Traditions in the Study of Religious Ethics», Journal of Religious Ethics 25, no. 3 (25th Anniversary Supplement, 1998): 23–56. Перепечатывается с разрешения нынешней редакции. – Еще одна часть главы 5 вышла в свет в изд.: «Homeward Bound: MacIntyre on Liberal Society and the History of Ethics», Journal of Religion 69, no. 2 (1989): 220–232. Копирайт © 1989 г. Чикагского университета. Авторское право охраняется. Перепечатывается с разрешения University of Chicago Press. – Сокращенный вариант главы 6 был представлен Societas Ethica of Berlin в августе 2001 г. под названием «Virtue and the Way of the World: Reflections of Hauerwas» и затем появился в ежегодном приложении к этому изданию. Перепечатывается с разрешения Societas Ethica. – В главу 9 включены несколько абзацев, ранее появившихся в статье «The Rhetoric of Revolution: Comparative Ethics after Kuhn and Gunnemann» в изд.: Religion and Practical Reason: New Essays in the Comparative Philosophy of Religion, ed. Frank E. Reynolds, David Tracy (Albany: State University of New York Press, 1994), 329–362. – В главу 10 включен материал, взятый из статьи «Truth, Natural Law and Ethical Theory» в изд.: Natural Law Theory: Contemporary Essays, ed. by Robert R. George (Oxford: Clarendon Press, 1992), 71–102, и «On Having a Morality in Common» в изд.: Prospects for a Common Morality, ed. Gene Outka, John P. Reeder (Princeton: Princeton University Press, 215 — 232. – В главу 11 включены материалы из: «Ism-Mongering», The Annual of the Society of Christian Ethics (1990): 55–62. Перепечатывается с разрешения нынешней редакции. – В главу 12 вошли материалы из: «Radical Interpretation and Pragmatism: Davidson, Rorty, and Brandom on Truth», в изд.: Radical Interpretation in religion, ed. Nancy Frankenberry (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). Перепечатывается с разрешения Cambridge University Press. – Часть первая Заключения появилась в «Modernity without Essence», Soundings: An Interdisciplinary Journal 74 (1991): 525–540. Перепечатывается с разрешения нынешней редакции. 11 Я благодарю за сотрудничество многих издателей и редакторов. Второй эпиграф на стр. viii перепечатывается из изд.: North Star Country by Meridel Le Sueur с разрешения University of Nebraska Press. Копирайт © 1945 by Meridel Le Sueur. Эпиграф к главе 4 цитируется по личной переписке с разрешения Джона Р. Боулина. Эпиграф к Заключению приводится по изд.: Bill Holm, The Music of Failure (Minneapolis: Prairie Grass Press, 1990). Копирайт © 1990 by Bill Holm. Печатается с разрешения Milkweed Editions. Майкл Вальцер предложил мне написать главу 8 для израильской газеты, планировавшей специальный выпуск, посвященный проблеме «грязных рук». Увы, в силу внутренних проблем Израиля выпуск осуществлен не был. Тем не менее благодаря Майклу я начал задумываться о проблемах борьбы с терроризмом после событий 11 сентября. Я хочу поблагодарить Роберта П. Джорджа, редактора серии издательства Принстонского университета, за предложение создать эту книгу, а также Чака Майерса, ведущего редактора, за то, что он успешно осуществил всю редакционную работу. Скотт Дейвис и Джерри Шнеевинд выступили в роли официальных рецензентов рукописи в издательстве; они сделали мне содержательные и полезные предложения по содержанию. Многие мои друзья читали хотя бы один полный вариант рукописи и высказали ряд точных замечаний. Это Джон Боулин, Дэвид Бромвич, Розмари Карбин, Нина Элиасоф, Тим Джексон, Клио Кёрнс, Майкл Микелсон, Уэйн Праудфут, Джон Ридер, Чарлз Рейнолдс, Ричард Рорти, Луис Рупрехт, Джим Ветцель и Фил Зиглер. Другие люди сделали ценные замечания по отдельным главам: Бет Эдди, Эдди Глод, Эрик Грегори, Эмми Гутман, покойный Дэвид Льюис, Стив Марсидо, Шаун Мармон, Ховард Родс, Джин Роджерс, Бас ван Фраасен и Ник Вольтерсторфф. Я должен особо отметить вклад Джона Боулина, который привлек мое внимание к работам Билла Холма и Меридель Ле Сюёр, и они убедили меня в том, что традиция, восходящая к Уитмену, не умерла в сердце Америки. Выражаю свою признательность как нынешним, так и бывшим сотрудникам факультета религиоведения Принстонского университета за то, что они приняли участие в осуществлении моего проекта тем, что поделились со мной идеями. Это Леора Батницки, Бет Эдди, Боб Гиббс, Эдди Глод, Эрик Грегори, Марк Ларримор, покойный Виктор Преллер, Альберт Работо и Корнел Уэст. Джон Гейджер, Марта Химмельфарб и Лоррен Фюрман вдохновляли и под12 ]^& держивали меня на протяжении ряда лет. Керри Смит и Пэт Богджиевич также помогали мне, за что я должен сказать им спасибо. Бет Эдди сделала больше, чем кто-либо, чтобы помочь мне преодолеть мои предубеждения и ясно выразить мои этические и политические убеждения. Если бы не ее участие, эта книга не могла бы явиться в том виде, в котором я сейчас ее представляю. Принстонский университет поддержал мой проект, дважды освобождая меня от преподавательских и административных обязанностей для работы над книгой, а также предоставил мне возможность общения с множеством талантливых студентов, которые подсказали мне направление моих рассуждений и снабдили некоторыми деталями. Я благодарю их всех, а также моих коллег из Центра гуманитарных ценностей, Центра религиоведения и философского факультета Принстона. Джордж Кейтеб заслуживает здесь упоминания потому, что это он вновь пробудил у меня интерес к Эмерсону и Уитмену. От него я получал не столько указания, сколько стимул к творчеству. Возможно, Джордж слишком привержен секуляризму, чтобы эта книга действительно ему понравилась, но она все-таки многим ему обязана. Когда Дэвид Бромвич еще работал на факультете английского языка в Принстоне, мы с ним совместно вели семинар для аспирантов под названием «Социальная критика», проходивший под патронажем Совета по гуманитарным наукам. То, что Дэвид рассказал мне об Эдмунде Бёрке, Уильяме Хэзлитте и Джордже Оруэлле, серьезно повлияло на мои мысли и круг моего чтения в период, когда мои планы, связанные с этой книгой, стали принимать конкретные очертания. Знания о сообществе получены мной главным образом благодаря тому, что мне довелось быть членом сообществ. Если не считать времени, затраченного на учебу и путешествия, вся моя жизнь прошла в одном округе; необычная биография для современного человека умственного труда. Я не планировал свою жизнь таким образом; просто так сложилось. Но теперь я знаю, откуда я. Мои первые реальные связи с сообществом более широким, чем моя семья, происходили в рамках местной правозащитной организации и в ходе работы по осуществлению кампании за реорганизацию окружной тюрьмы. Для меня понятие демократии неотделимо от этих ранних впечатлений, формировавших мои представления. Позднее я на протяжении десятилетия занимался репетиторством, был начальником летних лагерей и администратором других программ для молодежи. В течение этих лет работа по завершению моей книги затянулась, и характер ее существенно изменился. Я многое узнал 13 о добродетели, этическом становлении и искусстве достижения согласия моих товарищей по местному футбольному сообществу, и не в последнюю очередь от того из них, кому посвящается эта книга. Мне радостно вспомнить о любви и поддержке моей матери, Стаутов из Бруклина, супругов Макелви, Аштонов, Эвингов, Старки из Льюисбурга, Микелсонов, Левинсонов, Ноя Сковроника и его семьи. Отдельно я должен выразить признательность моей жене Салли и детям — Сюзанне, Ною и Леви. Что бы я здесь ни сказал, слова полностью не выразят моего долга перед ними, ничто не будет действительно точным. По многим причинам, о которых вы можете догадаться, они испытали такое же облегчение, как и я сам, когда эта книга была завершена. 14 Введение & ВВЕДЕНИЕ Солидарность удрученных горем людей может быть опасной. Это наиболее очевидный урок, который преподает нам новейшая история. Всякое общество, членов которого объединяют главным образом воспоминаниях о совершенных в их отношении несправедливостях, склонно действовать несправедливо, обеспечивая свою защиту, и провоцировать тем самым аналогичную реакцию со стороны своих соседей и врагов. Таким образом возникает порочный круг насилия, реализуемого уверенными в своей правоте людьми. Страх и недовольство будут нарастать повсеместно, подвергая риску невинных граждан внутри страны и за рубежом. А это означает, что заново обретенная в эпоху терроризма солидарность Америки вызывает подозрения. Во всем мире очень многие с тревогой ожидают массированного применения военной силы и испытывают вполне понятную обеспокоенность в связи с тем, что мы более не руководствуемся демократическими идеалами и моральными ограничениями. Безусловно, нам будет необходима солидарность в ходе предстоящих конфликтов. Но на каком фундаменте мы должны ее строить? Хорошо бы нам иметь еще что-то общее, помимо возмущения и страха перед врагами. Но до последнего времени мы сосредоточивались на наших этнических, расовых и религиозных противоречиях. Мы не привыкли задумываться о том, что же нас объединяет, — если такие факторы вообще существуют. При таких обстоятельствах, вероятно, не случайно на передний план немедленно выходят религиозные концепции национальной идентичности. Политики единодушны на ступенях Капитолия, когда они поют «Боже, благослови Америку» или в начале каждого учебного дня внушают своим детям, что все должны признавать свою принадлежность к «одной нации перед Богом». Видный сенатор-еврей объявляет, что Америка по сути своей является религиозной нацией. Если судить по его прежним декларациям, он говорит о нации иудео-христианской. Другие политики, произнося те же слова, вкладывают в них несколько более узкий или более широкий смысл. Многие евреи и христиане находят современную гражданскую религию непоследовательной и отчуждающей, то 15 есть видят в ней профанацию истинной веры. Как человек, изучающий эти традиции, я склонен с таким толкованием согласиться. Но в апелляции к религии как к источнику гражданского единства присутствует толика самообмана, некая неявная угроза. Туманные воззвания к Богу с покрытой парчой кафедры все-таки не могут заслонить весь обширный спектр теистических и нетеистических религий, которые исповедуют американцы. Стоит ли добавлять, что диссиденты, приверженцы свободомыслия, атеисты и агностики — тоже граждане? Некоторые критики жалуются на то, что нравственная и духовная сердцевина нашего общества пуста. Нередко они также добавляют, что этическая сущность культуры прошлого смыта либеральным секуляризмом. Взглянем на картину, представляющую резкий контраст, на амишей, сообщество, которое никто не назовет раздробленным или светским. Нетрудно увидеть как факторы, позволяющее охарактеризовать их именно как сообщество, так и ту традицию, которую они воспринимают как данность и к которой обращаются, когда говорят о своих этических разногласиях. Членов любой подобной группы тесно объединяют приверженность к священным преданиям, догмам, ритуалам, которые распространяются по всему миру; их объединяют определенные кодексы поведения, понятия о добродетелях и пороках, их благочестие и устремления. Напротив, в современных демократических обществах, повидимому, отсутствует подобный объединяющий антураж. В глазах многих наблюдателей эти общества по определению не приемлют независимых, всеобъемлющих воззрений, присущих религиозной традиции. Взгляд на современные демократические общества как на морально и духовно опустошенные едва ли можно сопоставить с восприятием амишей и подобных им изолированных сект. Общие черты антимодернистского традиционализма можно проследить на бесчисленных примерах, принадлежащих всей эпохе модернити. Об этом свидетельствовали Эдмунд Бёрк, папа Пий IX, раввин Овадия Йосеф, Рене Генон, Сейид Хусейн Наср, Ананда Кумарасвами и многие другие деятели. Начиная с 1980 года это Амиши — консервативная протестантская секта последователей немецкого церковного реформатора Аммана. Пий IX (1792–1878) — папа римский с 1846 г.; раввин Овадия Йосеф — духовный лидер израильской ультраортодоксальной партии ШАС; Генон, Рене (1886–1951) — видный французский мыслитель традиционалистского направления; Наср, Сейид Хусейн (р. 1933) — мусульманский философ, бывший рек- 16 & утверждение находило поддержку у многих приверженных религии американских интеллектуалов, которые главным образом руководствовались позициями методистского теолога Стэнли Хауэрваса, римско-католического философа Алисдера Макинтайра и англиканского теолога Джона Милбэнка. Движение, представляемое ими, я буду называть «новым традиционализмом». В центр дальнейшего исследования я намерен поставить вызов, бросаемый этим движением демократическому обществу. Философы либерального направления часто вызывают на себя огонь критики традиционалистов двух типов. Во-первых, либеральные философы поддерживают видение современного государстванации как безупречно нейтрального по отношению к представлениям о благе в широком понимании. А во-вторых, они предлагали основать политическую осмотрительность на общепризнанном фундаменте свободного общественного разума, вне зависимости от опоры на традицию. Не все либеральные философы были приверженцами названных доктрин, тогда как традиционалисты не замедлили счесть их определяющими для современной демократии и таким образом представить современные демократические общества воплощениями философского тупика, секуляризма. Мне нет нужды приводить здесь пространное рассуждение, направленное против этих либеральных тезисов, поскольку эту работу еще до меня блестяще проделали другие авторы (1). Моя цель более позитивна. Я намерен представить утверждающий очерк, посвященный иной интерпретации современной демократии. Впрочем, в процессе этой работы я опущу очень многое из наследия либеральной политической философии — от Джона Локка до Джона Ролза. Мой предмет исследования, если воспользоваться терминологией Ролза, — это роль свободного общественного разума в рамках политической культуры, включающей в себя религиозные концепции блага. Но я не пытаюсь создавать теорию общественного договора и потому не могу вкладывать в понятие «общественного разума» то же содержание, что и Ролз. А под предметом «перекрывающего консенсуса» в демократической культуре я понимаю отнюдь не то, что Ролз тор Тегеранского университета и директор шахской академии наук; Кумарасвами, Ананда (1877–1947) — видный индусский традиционалист. Цифры в круглых скобках служат отсылками к соответствующим пунктам раздела «Примечания» в конце книги. Ролз, Джон (1923–2002) — американский философ, автор концепции неоконтрактуализма. В центре его философии — понятие «справедливости». 17 называет «свободно стоящей» политической концепцией справедливости (2). Мы являемся сторонниками легитимности конституционной демократии в условиях, подобных тем, в которых мы оказались сейчас, и стоим за то, чтобы беседовать друг с другом о политике так, чтобы совершенствовать и чтить наши демократические нормы. Понять, что наши убеждения именно таковы, можно по тому, какого поведения мы придерживаемся. Если бы мы не верили в легитимность конституционной демократии, то прилагали бы гораздо больше усилий для продолжения дискуссии, в которой наши демократические нормы совершенствуются и чтятся. Мы бы охотно приняли более жесткие и избирательные способы воплощения в жизнь политической осмотрительности. И все-таки, поскольку в наших нормах заложено самостоятельное содержание, мы нередко спорим о том, как их следует формулировать и что они влекут за собой. Они явственно приводят нас к идеалам равенства голосов и равного отношения ко всем гражданам; это лишь два примера нормативной приверженности, которые отличают нас от наших непростительно преданных идеям иерархии предков. Но вопрос о том, каким образом заявить и осуществить эти идеалы, дискутируется со времен основания Республики. Сомнительно, что мы придем к твердому согласию в отношении их философской интерпретации. Всеобщий консенсус, к которому мы стремимся в наших общественных дискуссиях, лежит в области частных политических вопросов, а не абстрактных концепций справедливости. Этим концепциям принадлежит определенная роль в рамках всеобъемлющих дискуссий, но обычно они приобретают слишком противоречивый и умозрительный характер, чтобы мы смогли прийти к консенсусу, основываясь на них. Демократия, как я намерен показать, как раз и есть традиция. Она прививает нам определенный стиль мышления, отношения к различиям и власти, проявляемого в политических рассуждениях, любовь к определенным благам и добродетелям. Мы склонны реагировать определенным образом на те или иные события, относиться к людям с восхищением, с жалостью или смотреть на них с ужасом. На эту традицию можно смотреть как угодно, но только не как на пустоту. Однако ее этическая сущность более касается устойчивых позиций, долговременных забот, предпочтений и стиля поведения, нежели споров о концепции «справедливости» в том смысле, какой придает этому понятию Ролз. Тезисы о нейтралитете государства и дихотомии целесообразности и традиции не следует 18 & воспринимать как ее определяющие черты. Либерализм в духе Ролза не должен восприниматься как ее официальная эмблема. В наших официальных документах мы провозглашаем свою приверженность фундаментальным ценностям. В преамбуле Конституции Соединенных Штатов ясно обозначены блага, которые призваны обеспечить устанавливаемые институты. Здесь предполагается, что демократический союз, официально закрепляемый Конституцией, является тем, что народ желает, и не без оснований, сделать «более совершенным». Таким образом, люди выражают свое желание «установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать нашему общему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим». Некоторые скептики утверждают, что обращение к воле «народа» является фикцией, выдуманной для того, чтобы замаскировать тот постыдный факт, что подданные никогда не выражали своего согласия с данным утверждением. Но кто же из нас не надеется получить от правительства все то, что обещает нам преамбула? Согласие относительно значимости этих благ и значимости усилий по их обеспечению путем, обозначенным в Конституции, представляется более перспективным фундаментом солидарности, нежели недовольство и страх. Место последних занимает конституционная демократия. Мы согласны признать ее верховенство, когда о нас говорится как о народе, и не ищем альтернатив этому строю. Конечно, почти всякая нация в наши дни не скупится на громкие заявления демократического характера. Пустая риторика едва ли может служить подходящим фундаментом для построения политического сообщества. Приверженность демократическим ценностям, если она чего-то стоит, обязательно коренится в жизни народа, в манере поведения людей. Мы, безусловно, очень далеки от демократических идеалов, которые исповедуем, в любой разумной интерпретации их сущности. В частности, идеал равенства голосов едва ли сочетается с той решающей ролью, которую играют в современной политике большие деньги. И все же мы продолжаем требовать друг от друга обоснований, когда принимаем решения при устройстве политических институтов и при выстраивании политических стратегий. Мы по-прежнему хотим, чтобы наши лидеры несли ответственность за всех нас. Во всяком случае, мы недовольны тем, что толстосумы и важные «шишки» имеют такое влияние, Цит. по: Конституция США: Текст и постатейный комментарий. — М., 1984. 19 и мы ищем средства, которые принесли бы нам надежду на пересмотр существующего положения вещей. Мы обращаемся к нашим нормам не только на торжественных церемониях. Мы призываем друг друга опираться на них при принятии решений. В древнем мире демократия подразумевала господство определенного класса. А именно — простых граждан. В нашем понимании его политическая составляющая — это такая форма правления, при которой все взрослые члены управляемого общества имеют равное право голоса при избрании своих правителей и вольны высказывать свое мнение в дискуссиях по широкому кругу вопросов, а правители обязаны принимать эти мнения всерьез (3). Общественная дискуссия, являющаяся существенной стороной данной формы правления, проводится на разных уровнях. Важнейший из них — это уровень выборных народных представителей в рамках конгресса или парламента. Как показал Оливер О’Донован, принципиальное значение имеет то обстоятельство, что народные представители в современном демократическом обществе играют роль, отличную от той, которая была им отведена в прежнюю эпоху в королевских советах. Совет предназначался для того, чтобы подавать правителю советы о том, каким образом он может достигать поставленных им перед собой целей. Срок правления мог быть завершен по капризу правителя, и представительская функция совета была минимальной. Напротив, конгресс или парламент служит интересам народа, взвешивая свои решения «не от себя лично, но в качестве исполнения воли широкого общественного согласия, открытого для всех и обращенного к тому, к чему следует относиться с осторожностью» (4). Эта ссылка на более широкий контекст обдумывания решений представляет нам связующее звено между демократией как чисто политическим режимом и демократией как широко понимаемым культурным явлением современного мира. Приоритет публичного обдумывания высвечивает символическую связь демократических политических институтов с окружающей культурой, в которой общие вербальные практики граждан имеют первостепенное значение. Осуществляя эти практики, мы участвуем в общественной жизни, которую нужно сделать «более совершенной» и защитить от обвинений в моральной несостоятельности или порочности. Эта книга рассматривает традиции демократической аргументации, намерений и отношений, общих для всего народа. Моя главная задача состоит в том, чтобы разъяснить, что представляет собой этот цементирующий элемент нашей общественной жизни. Моя концепция 20 & гражданской нации носит прагматический характер в том смысле, что в ее центре находится деятельность, являющаяся общей, образующая фундамент политического сообщества. Но деятельность, о которой пойдет речь, не следует сводить исключительно к процедурным моментам. В этих видах деятельности нормативные требования не только обсуждаются; они там укоренены. Они задают направление дискуссий, но и сами непрерывно ставятся под сомнение, подвергаются пересмотру и не являются полностью определяющими. Изначально они присутствуют в наших рассуждениях в неявном виде, но не выражаются открыто в форме деклараций, высказанных философским языком. Поэтому мы должны соблюдать осторожность, чтобы не сводить их к установленной раз и навсегда системе правил или принципов. Поскольку они развиваются, мы нуждаемся в такой исторической категории, как «традиция», чтобы увидеть их в фокусе. Привлекая эту прагматическую концепцию демократического общественного характера, эта книга обращается к читателям в их ипостаси граждан. Она адресована публичной аудитории, противопоставляя ее узкопрофессиональной. Вопрос не в размере аудитории, чье внимание я хочу привлечь; раздумывать об этом предмете бессмысленно. Нет, вопрос в точке зрения, которую я намерен предложить читателю в результате чтения. Я говорю с позиции гражданина, то есть человека, который принимает некоторую толику ответственности за состояние общества и, в частности, за политические соглашения, которые общество для себя вырабатывает. Принять эту точку зрения значит участвовать в живой нравственной традиции народа, понимаемого как гражданская нация. Насколько я понимаю, сформулировать этическое наследие народа, созданного для народа, и подвергнуть это наследие критическому анализу — это задача публичной философии. Призывая читателя встать на точку зрения гражданина, я призываю его тем самым осмыслить философски свою совместную с другими гражданами жизнь. Это занятие требует усилий, как всякое по-настоящему философское занятие. Оно не имеет почти ничего общего с «популярной философией», жанром, который призван сделать философию доступной посредством устранения аргументации — то есть философии. Народ, к которому я обращаюсь, это народ, чье этическое наследие я, как я надеюсь, понимаю и признаю; это мои сограждане, американцы. При этом многое из того, что я намерен сказать, так же оправданно может быть отнесено и к другим обществам, кото21 рые в достаточной степени привержены демократическим подходам и апеллируют к демократическим нормам. Говоря о демократических обществах, я подразумеваю не группы, которые целиком и полностью соответствовали бы данным нормам. Я говорю о группах, члены которых привыкли обращаться к этим нормам в тех случаях, когда требуют друг от друга ответственности за то, что они говорят, что делают и кто они суть. Что же это за нормы, если говорить конкретно? Например, те, что сформулированы в Билле о правах, в частности, свобода публично выражать свое мнение, гарантия должных процедур, запрет жестоких и изощренных наказаний. Но это и нормы, принятые позднее, скажем, те, что в неявной форме содержатся в «Прокламации об эмансипации» и Девятнадцатой поправке, во второй инаугурационной речи Линкольна и в знаменитом восклицании Соджорнер Трус : «Разве я не женщина?» Существуют также нормы, которые еще сколачивают люди, если они чувствуют, что у демократии есть пока не реализованные возможности, относящиеся к интересам семей, церквей, корпораций и других ассоциаций. Продолжающийся процесс взаимного накладывания ответственности как раз главным образом занимал меня, когда я обращался к этической жизни или наследию народа. В центре демократического мышления, насколько я понимаю смысл этого понятия, лежит идея сообщества граждан, которые обсуждают друг с другом разделяющие их этические проблемы, в первую очередь, дискутируют о справедливости или достоинстве политических договоренностей. Отсюда следует, что людям стоило бы прийти к согласию о форме этической дискуссии, способе обмена мнениями об этических и политических проблемах. Я хочу доказать: демократическая практика приведения этических резонов и отстаивания их есть то, в чем жизнь демократии отражается в первую очередь. Демократия — это не пустые разговоры. Так, например, время от времени она предполагает многочисленные шествия. Но ни одна форма этической жизни не порождает такого количества бесед с участием такого числа людей, как это происходит в современной демократии. В демократическом дискурсе находят свое выражение тре «Прокламация об эмансипации всех невольников на территории Южной Конфедерации с первого января 1863 года». Девятнадцатая поправка к Конституции США гарантирует гражданам равенство голосов без дискриминации по признаку пола. Соджорнер Трус (наст. имя Изабелла Ван Вагенер, 1797–1883) — известная американская аболиционистка и борец за права женщин. 22 & бования и доводы участников маршей протеста. Редко бывает так, чтобы протестанты только шли. Они несут лозунги, которые говорят о чем-то. Они распевают песни с определенным содержанием. И они идут туда или оттуда, где произносятся речи. Политическое воззрение, представленное в данной книге, может быть суммировано в двух аргументах, представленных в сочинениях Джона Дьюи. Первый — это его интерпретация известного лозунга. Старое утверждение о том, что в лечении недугов демократии больше демократии, несправедливо, если оно подразумевает, что болезни могут быть исцелены путем применения большего количества инструментов такого же рода, что и уже существующие, или путем оттачивания и усовершенствования последних. Но это утверждение может также указывать на необходимость возвращения к самой идее, очищения ее и углубления нашего представления о ней, применения ее значения для критики и переустройство ее политических воплощений. Дьюи продолжает: «Главная трудность… в том, чтобы определить средства, которыми раздробленное, мобильное и многоликое общество могло бы познать себя, назвать и выразить свои интересы. Достижение этой цели неизбежно должно предшествовать любому фундаментальному изменению инструментария» (5). Другая мысль философа состоит в том, что демократия есть «социальная идея», равно как и система управления. «Идея остается бесплодной, пока она не воплощается в человеческих отношениях» (6). Теологфеминистка Ребекка Чопп высказала такое суждение: «Демократия никогда не бывает лишь набором законов равенства и справедливости. Скорее она есть непрерывная интерпретация самой себя, непрерывное производство новых практик, новых ценностей и форм общественной и частной жизни, которые и составляют демократию» (7). Объединяя эти две мысли, Дьюи рассчитывал способствовать как нашей активной самоидентификации с демократическими практиками, так и неопределенной, но реалистичной программы их совершенствования. «Только когда мы оттолкнемся от сообщества как от факта, мысленно овладеем фактом так, чтобы можно было его прояснить и увеличить каждую из его составляющих, мы сможем подойти к идее демократии, которая не была бы утопической» (8). Наши сограждане могут и дальше не соглашаться друг с другом в том, как выстроить иерархию важнейших ценностей, что бы мы при этом ни делали. Никто из нас не знает, как положить конец ра23 совым конфликтам, бедности, мужскому шовинизму и взаимному недоверию. Тем не менее желательно, чтобы мы упорно трудились над тем, чтобы у нас оставалась возможность демократического обмена мнениями, так как это лучший способ поддерживать друг в друге чувство ответственности. Если мы станем стараться поднять качество нашего общего дискурса различными особыми способами, то нелепо было бы ждать, что мы сможем таким образом добиться конвергенции общих выводов по всем пунктам, в которых мы сейчас друг с другом не соглашаемся. Однако мы также должны признать, насколько чудовищная картина ожидает нас — в эру глобального капитализма, корпоративной коррупции, политики идентичности, недовольства религиозных кругов светским обществом, теократического терроризма, — если большинство граждан не откажется идентифицировать себя с людьми в целом и вообще отвергнет демократические практики взаимной подотчетности. Этическое наследие американской демократии заключено прежде всего в том образе мышления и дискуссий об этических материях, который неявно заложен в поведении рядовых граждан. Вовторых, в деятельности интеллектуалов, которые пытаются извлечь пользу из такого образа мышления и дискуссий на основе рефлексивного, критического видения. Эти предметы, если взглянуть на них в историческом измерении, можно с полным правом назвать «традицией». Я полагаю, что существует значительная преемственность между проектами Дьюи и теми публичными мыслителями, которыми я восхищаюсь, потому что они позволяют нам говорить о традиции демократической мысли, но я все же должен признать, что эту преемственность иногда бывает трудно различить. Одни причины такого положения дел связаны с сомнительными представлениями о том, что же представляют собой традиции; к этим представлениям я обращусь в этой книге. А другая группа причин связана с риторическими привычками самих демократических мыслителей. Любая традиция, рожденная в подозрении о разности, та, что чтит как ключевое достоинство мыслителя отмеченное Хэзлиттом полное владычество над собственной мыслью, названное Эмерсоном самонадеянностью, и которое, возможно, обречено на нетвердое представление о собственной истории. Представим себе мастера дзэн, который настаивает на том, чтобы ученик ударил его по лицу, тогда как того явно переполняют чувства почтения и пиетета к учителю. Признание своей зависимости от предмета для подражания в соединении со способностью обрести такую независимость разума, которую воплощает образцовый мыс24 & литель, — это высокое и редкое духовное достижение. Очень многие традиции довольствуются более подчиненной и тем самым более очевидной формой пиетета для того, чтобы пиетет вообще присутствовал. Таким образом усиливается ощущение принадлежности к традиции, но за счет отказа от духа независимости. Многие крупные представители демократического критицизма ставили независимость выше других, более исполненных духа почтения форм пиетета. Следовательно, их сознание собственной традиции, как правило, не развивается. Они слишком заняты битьем друг друга по лицу, чтобы задуматься, что и кому должны. Тем не менее я убежден, что существуют реальные пути влияния, комментарии и аллюзии, связывающие более поздних авторов с их предшественниками в рамках традиции, которую я имею в виду. В любом случае, моя цель в данный момент не в том, чтобы представить научное исследование истоков и развития традиции, а скорее, в том, чтобы признать источники и уклонения от них, легшие в основу моей работы. Дьюи многое унаследовал от таких своих предшественников, как Эмерсон и Уитмен. Все трое сознательно оставались внутри современной цивилизации. Они не апеллировали к авторитету традиции предшествующей эпохи и не представляли себя посланниками поруганного прошлого. Они также не идентифицировали себя с постмодернистским будущим, не указывали в неопределенном направлении за горизонт, на что-то кардинально иное, нежели та культура, в которой они жили. Они признавали, что принадлежат веку, о котором думают даже в те минуты, когда называют его низким и тревожным. Они были исполнены решимости определить силы, действующие в рамках века, которые можно направить в сторону его улучшения или поддержания демократических надежд, и идентифицировать себя с этими силами. Их критическая работа возделывала почву, на которой они стояли и с которой отождествляли себя по собственному выбору. Они не обещали хранить верность существовавшим обязательствам или привязанностям народа, но они активно идентифицировали нормативные истоки внутри их родного общества, те истоки, которые считали заслуживавшими их поддержки. Уитмен и Дьюи принадлежат к традиции независимой эссеистики, которую в англоязычном мире помогали создавать такие авторы, как Хэзлитт и Эмерсон. Более поздние авторы — Меридель Ле Сюёр, Джеймс Болдуин, Ралф Эллисон и Билл Холм — в итоге нашли свою нишу в рамках этой традиции. Многие наиболее значительные мыслители демократического направления обрели почву под ногами именно здесь. Философов среди них немного. 25 Мои ожидания весьма сродни высказывавшимися теми авторами демократического направления, которыми я восхищаюсь потому, что они сумели сделать приводимые ими прецеденты поучительными. Таким образом, вы знаете, насколько далеко я готов зайти; мое восхищение простирается едва ли не до культа героев. Подобно Эмерсону, я желаю привлечь внимание к оговоркам и ограничениям, встречающимся в творчестве моих любимых авторов, чтобы мой пиетет перед ними оставался в определенных рамках (9). Я только утверждаю, что можно получать моральную и интеллектуальную подпитку от таких мыслителей, а также возможности вести с ними интересные мысленные дискуссии и отвергать их идеи. Каждому поколению следует рассматривать перспективы демократии собственными глазами (и без уклонений в сторону прошлого). Уитмен наиболее полно представляет яркость и жар демократической мысли там, где подчеркивает необходимость отхода от его учения. Уитмен и Дьюи ставили перед собой цель придать выразительность проявлениям демократии в национальной культуре, к которой принадлежали. Свою интеллектуальную задачу они видели в том, чтобы сформулировать сущность демократических взглядов и тем самым помочь гражданам придерживаться этих взглядов сознательно и самокритично. Отчасти это необходимо для того, чтобы иметь возможность противостоять представлению о демократии как о силе в основном разрушительной, в которой отсутствует этическая сторона или независимое культурное ядро. Уитмен выступал как демократ, когда ставил перед американским народом «важный вопрос характера». Он обращался не больше не меньше как к демократической теории добродетелей — теории, разработанной в интересах «не одного отдельного класса», теории, которая была бы совместима с «совершенным равноправием женщин». Как я намерен показать в главе 1, вопрос характера не менее важен и сегодня. Уитмен был прав, когда утверждал, что демократия обязана адресовать этот вопрос самой себе, но в свойственной ей форме. А Болдуин и Эллисон были правы, вновь ставя этот вопрос столетие спустя, когда говорили о необходимости обрести или открыть нашу страну. Наши демократические надежды сосуществуют, хотя и не без осложнений, с нашей ненавистью, жестокостью, праздностью, завистью, алчностью, безразличием к чужим страданиям. Появление новых элит сочеталось с разнообразными грехами, нетерпимостью, заносчивостью, боязнью извратить демократические методы поведения во всех обществах, которые мы легкомысленно на26 & зываем демократическими. Всегда и везде в мире справедливость, в принятом демократической мыслью понимании, была добродетелью, которой заметно не хватает. Но если это суждение применимо к нам, а не только к обществам, где нет свободных выборов и защищаемых конституцией прав, зачем нам продолжать доверять своим согражданам и представляющим их лидерам? И если у гражданина нет оснований для доверия своим, зачем ему вообще оставаться верным членом демократического сообщества? В наши дни эти вопросы ставятся в дискуссиях о расовом неравенстве, о разделении церкви и государства, о сохранении моральных ограничений в условиях, когда людей необходимо защищать от атак террористов, и во многих других контекстах. Американские дебаты о характере по большей части ведутся по поводу трех добродетелей, причем все они трактуются в религиозном духе (10). Первая из них, благочестие, обращена в прошлое. Она основана на правильности интерпретаций источников нашего бытия и нашего жизненного пути. Вторая — надежда — направлена в будущее. Она связана с нашей способностью находить в себе этические и политические цели в моменты, когда успех представляется сомнительным или маловероятным. А третья — любовь или щедрость — может быть обращена к прошлому, будущему, направлена на отдаленные объекты, но более всего она связывает нас с теми, кто живет с нами, в одном месте и в одно время. Здесь главное — наша способность правильно воспринимать наших ближних, считать их не менее достойными наших устремлений к ним и заботы о них, нежели мы сами. Главная цель первой части — дать описание того, что некоторые наиболее влиятельные американские мыслители говорили о названных предметах, и тем самым напомнить себе содержание диалога, в котором мы можем увидеть в действии как то, что нас объединяет, так и то, что нас разделяет. Я буду больше говорить о благочестии, чем о надежде и щедрости, поскольку именно благочестие было предметом наиболее обширных дискуссий на протяжении нашей истории. Во второй части анализируются возникшие в последние несколько десятилетий различия между секуляристским и традиционалистским прочтениями нашей политической культуры. Здесь мы опятьтаки должны будем обратиться к глубоким религиозным различиям среди наших граждан. Мы погрешили бы против истины, если бы посчитали, что принадлежность к той или иной религиозной группе вовсе не оказывает влияния при демократическом принятии решений или в дискуссиях, так как одна из функций религиозных тра27 диций состоит в том, чтобы устанавливать иерархию важнейших ценностей и интересов, многие из которых, вне всяких сомнений, имеют политическое значение. Тем не менее некоторые видные политологи и философы недоверчиво относятся к тем из своих коллег, кто оперирует аксиомами религии ради достижения политических целей. Они основывают свое недоверие на представлении о том, что споры по важным политическим вопросам в конечном итоге обязательно будут основаны на таких принципах, которые ни один разумный человек на разумных основаниях отрицать не станет. Я нахожу это представление крайне неверным в качестве посылки, с которой с большой долей вероятности согласится каждый. Но мне важно не столько опровергнуть его, сколько выстроить альтернативную концепцию общественных дискуссий. На мой взгляд, все граждане демократического общества вполне свободны объявлять, на каких именно постулатах они основывают свои утверждения. Уважение к человеку (простая учтивость!) предполагает, что оно будет наиболее полно проявляться при обмене мнениями, то есть когда самые глубокие убеждения признаются в качестве таковых и оцениваются соответственно. Попросту неразумно требовать, чтобы граждане «заключали в скобки» такие свои убеждения при обсуждении фундаментальных политических вопросов. Религия по своей сущности не является тормозом для диалога, из чего часто исходят светские либералы и о чем открыто заявляет Ричард Рорти. Но религия не является также и фундаментом, без которого демократический дискурс обречен на умирание, как полагают традиционалисты. Религиозные составляющие нашей политической культуры рассматриваются, как правило, на таком высоком уровне абстракции, что просматриваются всего две позиции: традиционализм в его авторитарной форме и антирелигиозный либерализм. Каждая из этих позиций набирает силу за счет сокращения значимости другой. Они используют друг друга и выводят на передний план свои собственные страхи и предлагаемые средства их преодоления. Каждая из них нуждается в «темной силе», чтобы в противостоянии ей представить себя «силой света». Результатом такого противопоставления становится манихейская риторика культурной войны. Проповедники хотели бы, чтобы мы поверили: все мы втянуты в двустороннее противостояние в вопросах культуры демократии. Академические авторитеты на удивление мало способствовали повышению качества результатов этого противостояния. Дебаты на такие темы, как аборты или однополые браки, вырождаются в настоящее время, и их точнее будет опреде28 & лить не как полномасштабную войну, а как беспрерывные нецивилизованные стычки, во всяком случае, если взглянуть на них в исторической или межкультурной перспективе. И можно опасаться, что дуалистическое изображение нашей культурной ситуации станет реальностью, если будет принято достаточно большим количеством людей. В той мере, в какой и верующие, и неверующие принимают предлагаемые им сегодня карикатуры и взаимоисключающие варианты выбора, повышается вероятность образования двух отдельных лагерей, не признающих дискуссий и мирного сосуществования. Верно, что изложение религиозных постулатов иногда приводит к возникновению дискурсивных тупиков в политических дебатах. Но существуют вопросы, которые не могут быть разрешены исключительно на основе общепринятых принципов. Это означает, что если мы не без пользы обращаемся к таким вопросам, то там, где возникают тупики, нам нужно тем или иным путем обходить их. Я назову такой обходной путь диалогом. Под диалогом я подразумеваю такой обмен взглядами, при котором участвующие в нем стороны высказывают свои постулаты настолько подробно, насколько считают уместным, и в любой форме, которую изберут; при этом они стараются идти к пониманию перспектив друг друга и остаются открытыми для любой критики своих тезисов. Вторая часть в основе своей призвана продемонстрировать ценность ведения диалога такого рода с религиозными традиционалистами. Моими партнерами по диалогу здесь являются выдающиеся христианские мыслители. Их я избрал в качестве партнеров отчасти потому, что они представляют религиозную традицию, приверженцами которой являются большинство американцев. Наверное, очевидно, что аналогичные формы традиционализма представляются привлекательными определенной прослойке мусульман и иудеев. Я надеюсь призвать их, а также представителей других конфессий, к более широкому диалогу. Однако человек не может вести серьезный диалог одновременно со всеми, поэтому в этой книге я буду дискутировать главным образом с теми формами традиционализма, которые привлекают большинство христиан в Соединенных Штатах. Я думаю, традиционалисты правы, когда утверждают, что этическая и политическая аргументации суть порождения традиции, и подчеркивают их жизненную зависимость от обретения таких добродетелей, как здравый смысл и справедливость. Однако они неправы, когда представляют себе современную демократию как ан29 титезу традиции, как заведомо разрушительную, разъединяющую общественную силу. Отстаивая последний пункт, я мог бы пойти по другому пути и обратиться к работам мыслителей-христиан, которые открыто объявляют свою традицию более демократической; я имею в виду Лайзу Кейхилл, Ребекку Чопп, Джеймса Форбса, Питера Гоумса, Марка Джордана, Сюзан Фрэнк Парсонс, Розмари Рэдфорд Рутер, Эндрю Салливана и Гарри Уиллса. Было бы удобнее в процессе рассмотрения персонифицировать голоса отдельных христианских публицистов. Но книга, посвященная названным фигурам, не привлечет внимания читателей, приверженных новому традиционализму. Поэтому я решил главное внимание в главах 4–7 уделить трем самым влиятельным новым традиционалистам: Хауэрвасу, Макинтайру и Милбэнку. Моя критика их взглядов в немалой степени носит феминистский характер и создавалась под влиянием Глории Альбрехт и Сюзан Моллер Окин; здесь даже неявно используются некоторые из их тезисов. При этом я атакую традиционалистов и в другом ключе, противопоставляя их позиции взглядам таких теологически консервативных, но политически прогрессивных мыслителей, как кальвинистский философ Николас Вольтерсторфф и последователь Барта теолог Джордж Хансинджер. Один из моих центральных тезисов состоит в том, что современная демократия, в сущности, не является выражением секуляризма — вопреки заявлениям некоторых философов и опасениям некоторых теологов. Современная демократическая мысль является светской, но не в том смысле, что она препятствует выражению религиозных принципов или не позволяет гражданам принимать для себя религиозные постулаты. Те, кто сетует на неспособность нашей нации прийти к единству во взглядах по вопросам святости жизни эмбриона или сексуального поведения и семейной жизни, могут свободно представлять остальным нашим гражданам свои аргументы. Кто-то рассчитывает в конечном счете опустить священную завесу над тем, что священник Ричард Джон Нойхаус называет «нагой общественной площадью», и спасти дискуссию от угрозы светского либерализма. На практике это намерение оказывается либо неприемлемым, либо нереалистичным; неприемлемым, если для его осуществления требуется использование силовых методов со стороны государства для предотвращения секуляризации общественной дискуссии, нереалистичным — если этого не требуется. При этом не менее важно, что оно основывается на неверном понимании того, что включает в себя понятие секуляризации гражданской дискуссии. 30 & Традиционалисты заявляют, что демократия роет подкоп под самое себя, разрушая традиционные механизмы передачи добродетелей от одного поколения другому. Поскольку традиционалисты считают демократию негативным в основе своей явлением, силой давления (в отличие от культуры), они склонны недооценивать жизнеспособность демократических практик на протяжении долгого времени. Поскольку они полагают, что моральный дискурс, не основанный на твердом благочестии, представляет собой, по существу, один из видов греха, у них имеется желание отстраниться от демократической дискуссии с небесами. Некоторые традиционалисты активно поддерживают отчуждение от общественной дискуссии граждан по вызывающим разногласия этическим вопросам и выступают за единение граждан с досовременными традициями и религиозными сообществами. Я утверждаю, что данные действия являются некорректной формой опасений, вызванных современным этапом этического дискурса, и представляют в значительной степени искаженное изображение общества, в котором мы живем. Может ли население страны трансформироваться в сообщество, которое более полно гарантировало бы исполнение упований, существенных для демократических практик, — этот вопрос остается открытым. Давайте все-таки надеяться, что ответом на него будет «да», поскольку единственная альтернатива открывает перед нами мрачные перспективы. Риторика новых традиционалистов и «черных националистов» (обратимся к этим двум примерам) свидетельствует о том, что они уже отказались от демократии. Они заявляют, что гражданское общество или современная цивилизация вообще изначально греховны. Поэтому традиционалисты, не имея альтернатив, твердо идентифицирует себя с сообществами, кардинально отличными от демократического общества в целом. Но эта позиция значительно ухудшает ситуацию. У нас есть практические резоны для противостояния такой позиции. Демократические нормы изначально незримо присутствуют в том, что мы делаем, если нуждаемся в обоснованиях определенных акций, обязательств и договоренностей, что происходит, когда мы действуем в одностороннем порядке; или если мы делим основания на существенные и несущественные; или если реагируем на что-то без размышлений, просто восторгаемся или возмущаемся тем или иным объектом. Но эти нормы также могут быть выражены в форме принципов и идеалов, которые формулируются в текстах основополагающих документов и речах публичных ораторов. Наша политическая культура мало-помалу движется в сторону чет31 ко сформулированных норм. Это наиболее очевидный инструмент, позволяющий нам обеспечивать подконтрольность народу как наших лидеров, так и наших рядовых сограждан. С прагматической точки зрения, функция вербальных принципов в отношении этической жизни народа особенно ярко выражается в прояснении того, что в противном случае осталось бы скрытым, темным. Публичная философия, в моем понимании этого термина, — это осуществление экспрессивной рациональности (11). Третья часть представляет собой попытку пролить свет на то, какие элементы включает в себя концепция публичной философии. Там утверждается, что своего рода прагматизм может просачиваться через барьер, разделяющий светских либералов и новых традиционалистов, и тем самым приносить каждой из сторон важнейшие прозрения. Для Уитмена словесное описание этической жизни демократии — это прежде всего поэтическая задача, а свою идею миссии поэта он позаимствовал более всего у Эмерсона (12). Молодой Дьюи узнал из эссе Эмерсона и трудов Гегеля, что эта задача не в меньшей степени, чем на поэтах, лежит и на философах. Его зрелый прагматизм обернулся попыткой перевести философский экспрессивизм Гегеля на язык простых американцев, которым нет нужды знать гегелевскую логику идентичности Гегеля. У Гегеля Дьюи перенял одно: концепция рациональной самокритики и концепция придания этической жизни народа такой составляющей, как сознательное выражение, при этом они лучше всего понимались как две фазы, или два измерения, одной концепции. Эта концепция является сократической, поскольку подразумевает приверженность самоанализу и устремленность к самосовершенствованию, но осуществляется она одновременно на личностном и на социальном уровнях — как и публичная философия. Прагматизм Дьюи стремился объяснить — в терминах, понятных простому гражданину, говорящему на простом языке, — как человек мог осознанно хотеть открыто выражать этическую жизнь своей культуры, затем критиковать ее, не выставляя при этом требования (лукавого, самообманного) подняться над перспективой стабильного, убежденного участника составляющих эту культуру практик. Многие пионеры современной демократии, испытавшие влияние философии Просвещения, провозглашали себя герольдами полного разрыва с прошлым. «Традиция» — имя тому, от чего они отрекались, «разум» и «современность» — имя тому, что они отстаивали. Многие из них были революционерами; они стремились 32 & полностью перевернуть мир роскоши и привилегий. Их риторика подразумевала, что они ничем не обязаны прошлому. При ретроспективном взгляде мы обнаруживаем концептуальные цепочки, связывавшие их с предшественниками и оппонентами. Мы многое выиграем, если откажемся от образа демократии как сущностной противоположности традиции, как силы отрицания, силы, которая по своей природе склоняется к тому, чтобы подрывать культуру и культ добродетели. Демократия — это культура, это традиция, и по праву. Она обладает своей этической жизнью, которую философы старательно описывали. Более всего прагматизм видится как попытка объединить элементы демократической мысли и традиции в единое философское воззрение. Прибегая к парадоксальному афоризму, скажем: прагматизм — это демократический традиционализм. А если оставить парадоксы, то можно сказать: прагматизм — это философское пространство, в котором демократический бунт против иерархии соединяется с традиционалистской любовью к добродетели, в результате чего возникает новая интеллектуальная традиция, многим обязанная обоим своим предшественникам. Частью демократическая программа касается сторонних людей и врагов, равно как и сограждан, то есть вербального процесса поддержания взаимной ответственности. Это означает, что нормы, зародившиеся в одной традиции, начинают применяться другой стороной с расчетом на то, что граждане и группы, не приверженные демократии, пойдут на обмен аргументами. Философы представляют эту задачу более простой, нежели она есть, когда утверждают, что все человеческие существа уже обладают общей моралью, одной общей моралью, просто в силу того, что они — люди. С моей точки зрения, это скорее рассуждение о желаемом. Здесь не учитывается сущностная роль традиций в формировании человеческой мысли. Среди центральных тем главы 3 — экспрессивистская концепция норм и утверждение, что оправдание веры во что-то есть контекстуальный вопрос. Хотя можно с уверенностью сказать, что эти две идеи восходят к Дьюи, однако есть немало пунктов, в которых я отхожу от первоначальных формулировок Дьюи, так как мне было бы утомительно уделять много времени разъяснению деталей. Я прямо перехожу к самым последним и наиболее важным, на мой взгляд, достижениям философии прагматизма. Мое наиболее очевидное отступление от Дьюи состоит в следующем моем утверждении: истина не есть по сути своей относительное понятие. Многим читателям моих предыдущих работ было непонятно, как можно соотнести это отношение с моими восторженными отзывами о других поня33 тиях в учении Дьюи. Но я стою на том, что акцент на приоритете социальных практик, присущий прагматизму, не запрещает нам видеть в этическом дискурсе попытку, в которой развернутые суждения о правде играют существенную роль. Основной движущий мотив прагматизма как публичной философии состоит в том, чтобы преодолеть недоверие к его способности адекватно разграничить правду и такие понятия, как гарантированная доказуемость и оправданная вера. В других отношениях прагматизм, как представляется, подрывает или уничтожает существенные черты этического и политического дискурса, который он призван выражать и отстаивать. Трудность, которую эта книга представит читателю, не имеющему философской подготовки, возникает в главах 3 и 8–12. Именно здесь я больше времени посвятил анализу различий, которые всегда предлагают нам философы, которые пишут в основном для других философов. Публичная философия же адресована публике, общественности, и предмет ее — общественная жизнь, но тем не менее это — философия, и потому должна брать на себя ответственность за то, что философы говорят в своем кругу. Следовательно, мне вслед за Дьюи придется двигаться то вперед, то назад, балансировать между разъяснением идей, шлифуемых в академической философии, и обращением к моральным, политическим и религиозным проблемам, которые ежедневно обсуждают на людях рядовые граждане. Конечно, со времен классического прагматизма произошла профессионализация философии, что способствовало расширению пропасти между двумя языками, которые публичная философия хотела объединить, возможно, хотела до такой степени, что это может бросить тень на мост, который я хочу навести здесь, в этой работе. Но я ринулся вперед, надеясь, что другие коллеги успели создать аудиторию для смешанного жанра, вклад в развитие которого призвана внести данная книга. Я надеюсь, что таким образом этическое наследие современной демократии можно сделать более доступным, во всяком случае, для тех, на кого она оказала влияние. Мне хотелось бы думать, что читатель, который не пожалеет времени и внимательно изучит все исследование, выйдет из этого процесса с более точным пониманием того, что происходило в последнее время на интересующей нас территории, где пересекаются философская, политическая и религиозная мысль. Мое исследование адресовано читателям, — и, в первую очередь, молодым, — которые 34 & отчаянно стараются разобраться в социальной критике, философии и религиозной философии, господствующих в наши дни. Мое внимание на протяжении всей книги будет сосредоточено на демократии в Америке. Живи я в каком-нибудь другом месте, я написал бы другую книгу, надеясь оказать влияние на другое общество. Эта книга как акт социальной критики может понадобиться узкому, так сказать, сообществу. Но она, будучи вкладом в сравнительную этику, участвует также в глобальном диалоге, в котором всякое общество с демократическими устремлениями должно быть услышано и понято в том смысле, какой оно вкладывало. Если демократия нигде не реализована вполне и повсюду подвергается опасности, то всем нам есть чему учиться на отдельных примерах. 35 Глава 1. ХАРАКТЕР И БЛАГОЧЕСТИЕ ОТ ЭМЕРСОНА ДО ДЬЮИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВОПРОС ХАРАКТЕРА В этих Штатах мы, и мужчины, и женщины, должны полностью преобразовать типы высшей личности по сравнению с тем, что завещали нам восточные, феодальные, клерикальные миры… Конечно, останутся старые, неумирающие элементы. Задача состоит в том, чтобы успешно приспособить их к новым сочетаниям, к нашему времени. Уитмен ^ 1 ХАРАКТЕР И БЛАГОЧЕСТИЕ ОТ ЭМЕРСОНА ДО ДЬЮИ Уолт Уитмен утверждал, что «общество в Штатах искалечено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы политики, таковы и частные лица». И тем не менее он стоял на том, что энергичный демократический этос рвется из людей, таких, какие они есть, и ждет акушерской помощи от и аналитиков, которые будут счастливы увидеть его зрелым и открыто выраженным. «Важный вопрос характера», как определяет его Уитмен в «Демократических далях» (1), — этот вопрос о том, какого типа людьми мы можем обоснованно рассчитывать стать, принимая во внимание дестабилизирующее состояние реально существующего общества и влияние, которое оно уже оказало на нас. И сегодня этот вопрос в значительной степени сопровождает нас, но мы во многом забыли, как вывести его Уитмен У. Демократические дали. — Пер. К. Чуковского. 36 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ на тот демократический путь, на который выводил его Уитмен. Мы почти потеряли из вида традицию рефлексии, которую представляют нам «Демократические дали». Часть задач, которые я ставлю перед собой в этой главе, сводится к тому, чтобы напомнить Америке о том, что эта традиция существует. Я намерен наносить на большой холст широкие мазки, представляя — в форме комментариев к цитатам из Эмерсона, Уитмена и Дьюи — то количество деталей, какого будет достаточно, чтобы оспорить сложившееся мнение о том, что собой представляет нравственный и религиозный облик Соединенных Штатов. Взгляните на эту работу как на фреску Бена Шана в прозе. Названные мной фигуры представляют только одно направление в американских дискуссиях о религии, этике и политическом сообществе, которые ведутся с конца 1830-х годов, когда Эмерсон выступил со своими эссе и лекциями. Другое направление, не менее значимое, но в гораздо большей степени осознающее себя в качестве традиции, — это ортодоксальное христианство, от пуритан Плимут-Рока до существующей сегодня каши из множества сект. Еще одно направление, которое я кратко охарактеризую в следующей главе, представляет собой нечто вроде традиции блюза, корни которой восходят к африканскому политеизму. В джазе, роке, фильмах, равно как и в романах, эссе, стихотворениях, дух блюза и эмерсонианская борьба за совершенство зачастую подпитывают друг друга энергией и порождают сложную культурную силу, в которой ортодоксальные христиане видят источник серьезной угрозы; но эту силу они, как правило, неверно интерпретируют как проявление либерального секуляризма. Некоторые аналитики, такие как Корнел Уэст, сознательно интегрируют все эти направления. Как указывает Харолд Блум, многие американцы, называющие себя христианами, по существу являются в большей степени эмерсонианцами, нежели августинианцами в перспективе. Многих других больше заботит суета перекрестка, нежели муки креста. Блум, как это для него характерно, гиперболизирует, когда провозглашает Эмерсона пророком-основателем американской религии (2). Обобщающее единственное число сводят сложное и противоречивое явление к чему-то простому и единому. Американская религия — это бурлящая круговерть религиозной энергии и иска Шан, Бен (1898–1969) — американский живописец и график. Темы его экспрессивных произведений — несправедливость современного буржуазного мира, одиночество человека. 37 ний, сопровождаемая многочисленными открытыми конфликтами. В этой главе я намерен противопоставить эмерсонианское и августинианское направления внутри американской религиозности, не преувеличивая степени их расхождений. После того, как в 1838 году появилась «Речь перед выпускным классом школы богословия» Эмерсона, ее автор и его последователи оказались вовлечены в состязание по перетягиванию каната с ортодоксальными христианами, и его предметом стало будущее благочестия в Америке. Христиане, никогда не забывающие о величественном трактате Августина «Град Божий», не устают проклинать эмерсонианцев за недооценку потребности человеческого духа в твердых институциональных и общепринятых формах, в том числе в структуре церковных авторитетов, в избытке их духовной власти. Эмерсонианцы, в свою очередь, готовы скорее покинуть церковь, но не признать, что некий служитель церкви или даже демократически организованная коммуна вправе определять, где проходит граница между спасенными и проклятыми, святыми и грешниками, пророками и лжепророками, Писанием и апокрифами. А главное, они изначально убеждены, что идея первородного греха чужда человеческому духу. Во всем этом ортодоксальные христиане усматривают отголоски древних еретических заблуждений (уточним — монтанистских или пелагианских) и неустанно проповедуют против них (3). В этой главе мое внимание будет сфокусировано на том, что эмерсонианцы говорили о добродетелях. Более всего я сосредоточусь на одной добродетели — благочестии, так как вопросы благочестия всегда были центральными в более широких дискуссиях о религии, этике и политическом сообществе. В этом контексте благочестие понимается в первую очередь не как чувство, сопровождаемое актами религиозного почитания, а более как добродетель, отличительная моральная сторона характера. Суть благочестия — справедливая или правильная реакция на источники бытия и жизненного пути человека. Семья, политическое сообщество, мир природы и Бог считаются источниками, от которых мы зависим и которые требуют от нас правильной реакции. Эмерсонианцы и августинианцы согласны с тем, что благочестие в принятом нами смысле есть ключевая добродетель; как те, так и другие стремятся прояснить сущность должных взаимоотношений между гражданским и религиозным благочестием. Но они расходятся в представлениях о том, как воспринимать источники и в чем должно состоять адекватное признание нашей от них зависимости. Примечательно, если учесть обозначенные выше расхождения, что сторонам все еще удается на38 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ ходить общий язык; ведь они очень часто подозрительно и непонимающе косятся друг на друга. На самом же деле они в основном согласны относительно ценности религиозной свободы, разделении церкви и государства и легитимности конституционной демократии в нашу эпоху. И за время своих дискуссий они многому научились и многое почерпнули друг у друга. Одна из целей этой книги состоит в том, чтобы описать поновому политический консенсус эмерсонианских и августинианских демократов, полностью принимая во внимание его непрочность. Политические мыслители приблизились к вопросам «параллельного консенсуса» и «общественного разума», разработав теорию общественного договора, центральные тезисы которой восходят к либерализму эпохи Просвещения, к Джону Локку и Иммануилу Канту. В силу причин, которые будут подробно изложены в главе 3, я нахожу модель политического сообщества, построенного на идее общественного договора, и в особенности концепцию общественного разума, недостаточно исторической и социологической. Как человек, изучающий религию, я склонен рассматривать данные предметы более конкретно. А такой подход предполагает, что начать следует с религиозных воззрений и проектов совершенствования, которые всегда были по-настоящему важны для большинства американцев, и лишь затем приступать к построению философской интерпретации о потенциальных благах и опасностях, заложенных в нашей политической культуре. § O< ]( ]^' Социальная критика Уитмена базируется на следующем постулате: характер и общество взаимосвязаны, они влияют друг на друга. Мы несем ответственность как за нынешнее состояние общества, которое могло бы быть другим, если бы мы обладали иными добродетелями и грехами, так и за его будущее состояние, которое будет зависеть от того, что мы сделаем с собой сегодня и завтра. Если мы видим, что общество пребывает в плачевном состоянии, то у нас есть основания страшиться влияния, которое такое общество может оказать на нас. Может быть, мы ослабляем — а то и вовсе уничтожаем — нашу, как народа, способность к преображению. Чем хуже представляются нам общественные условия, тем глубже становится подозрение, что мы — персонажи трагедии и лишь ожидаем последнего возмездия за черные пятна в наших характерах. А чем глубже делается это подозрение, тем сильнее бывает соблазн воз39 ложить свои надежды на нечто, что лучше, выше, сильнее народа, на то, что не есть народ. Вопрос характера важен, по мнению Уитмена, именно потому, что не очевидна наша пригодность для выполнения задач, которые ставят перед нами обстоятельства, если мы хотим жить на демократический лад. Уитмен писал: «Суть в том, что необходимо признать опасности, о которых я пишу, и взглянуть им в лицо. Для того или той, в чьем рассудке идет битва, наступления и отступления, битва между убеждениями, устремлениями демократии и людской грубостью, грехами, капризами, я в основном и создаю этот труд» (ДД, 3). Только поздравить свой характер с присоединением к демократическим песнопениям, не взглянув «на нашу страну и на нашу эпоху испытующим взглядом, как смотрит врач, определяя глубоко скрытую болезнь» (ДД, 16), — это самоуспокоенность. Этот вопрос может также включать некую форму расового мистицизма или шовинистического идолопоклонничества — жалкие виды благочестия. Тот факт, что Уитмен сам был подвержен грубости и предрассудкам — возьмем хотя бы его высказывания о «саксонизации» Мексики или об изоляции негров в Орегоне, — свидетельствует о том, что и сам целитель демократии может страдать от тех же недугов, которые диагностирует у народа. Критику, демократически идентифицирующему себя с народом и при этом критикующему народ за сползание в самолюбование, за «лихорадочный блеск» и «мелодраматические выкрики» (ДД, 16), следует помнить о том, что он должен излечиться сам. Я не стану превозносить Уитмена за то, что он освобождает от гордыни и предрассудков своих присных, с которыми он идентифицирует себя. В том, что касается вопроса характера, исполнение следует сразу за приговором, и не только со стороны тех, кто поклоняется народу как расе или нации, помещая таким образом характер вне сферы каких бы то ни было вопросов, но и со стороны тех, кто верит, что наша политическая и экономическая системы структурно защищены от любых возможных человеческих недостатков. По мнению Уитмена, вторая группа людей не в меньшей степени исполнена предрассудков, чем первая. Эти люди страдают от «господствующей иллюзии, будто установление свободных политических институтов, достаток интеллектуальной изощренности плюс хороший общий порядок, материальное изобилие, индустрия и Ко... сами себя детерминируют и приносят демократическому эксперименту плоды успеха» (ДД, 15). Дело вовсе не в том, что наша политическая система способна полностью обойтись без гражданской добродетели 40 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ и все-таки оставаться демократией. Наша конституционная система сдержек и противовесов в состоянии в какой-то мере нейтрализовать негативные эффекты своекорыстия людей. Наша экономика порой наказывает невидимой дланью тугодумие и глупость, когда «поднимает массы, погрязшие в трясине материального развития, продуктов и некоей чрезвычайно обманчивой, поверхностной всеобщей интеллектуальности» (ДД, 16). Но ни в той, ни в другой системе ничто не гарантирует нам, что мы будем на протяжении длительного времени обладать всеми добродетелями, необходимой для поддержания раскованности, свойственной истинно демократической политике. Никакая конституция не в состоянии без содействия народа помешать богатому и могущественному классу воздействовать на избирательную систему так, чтобы она отдавала преимущество сильным и богатым. Если такой класс возьмет под свой контроль правительство, то последнее получит возможность использовать все доступные конституционные инструменты, включая налогообложение, бюджетные расходы, регулирование, для установления плутократического правления. В этом случае оно может преуспеть в поощрении таких условий, при которых пропасти между классами общества будут расширяться и демократическое участие деградирует. Эти условия, в свою очередь, будут способствовать укреплению положения олигархии у власти и одновременному ослаблению способности народа противостоять складывающемуся положению вещей. Результат едва ли можно будет назвать демократическим. Точнее будет сказать, что сложится кастовая система в современном обличье, феодальный режим без рыцарственной утонченности. Нечто очень напоминающее этот кошмарный сон об олигархии преследовало Уитмена, когда он публиковал «Демократические дали» в 1871 году; то было время начала становления новых промышленных и профессиональных элит после Гражданской войны. Будучи демократом-джексонианцем, Уитмен не мог не следить с тревогой за развитием событий: «Испорченность деловых кругов в нашей стране не меньше, чем принято думать, а неизмеримо больше. Общественные учреждения Америки сверху донизу во всех ведомствах, кроме судебного, изъедены взяточничеством и злоупотреблениями всякого рода. Суд начинает заражаться тем Иначе говоря, приверженцем курса Эндрю Джексона (1767–1845), 7-го президента США (1829–1837). 41 же. В крупных городах процветает благопристойный, а порою и открытый грабеж и разбой». В ретроспективе это наблюдение Уитмена кажется пророческим, но эти слова были написаны в эпоху, когда юристы Уолл-стрита, банкиры Северо-Востока, производители вооружений и строители железных дорог начинали свое восхождение к высотам, откуда они смогут управлять политической экономией Позолоченного века. Сегодня, похоже, возникает новая потенциальная олигархия в лице нового класса менеджеров и профессионалов. Этот класс сосредоточивает в своих руках политическую и экономическую власть в эпоху, пришедшую на смену «новому курсу». Нарождающаяся американская институциональная элита — высший эшелон правительственных чиновников, менеджеров крупных корпораций, представителей бухгалтерских фирм, престижных университетов и фондов всей страны — в последнее время стала объектом жарких нападок со всех сторон. Каждая идеологическая группа выработала — в своих собственных интересах — свое определение и представила социальный анализ элиты. Однако никто не отрицает, что представители новой элиты извлекают немалые преимущества из своего влияния на избирательную систему, систему высшего образования, систему профессионального лицензирования и экономическую систему. С демократической точки зрения, на возникновение подобной элиты стоит смотреть с подозрением как на потенциальную угрозу демократии. И тем хуже, если в элите доминируют представители одного социального класса, и она уже обеспечила себе контроль над ключевыми рычагами власти и значительно расширила пропасть между собой и остальными гражданами Америки (4). Разумеется, у людей сохраняется право голоса, равно как и конституционные гарантии, но эффективность политического голоса граждан падает с такой же быстротой, как и доля заработной платы среднего трудящегося в общественном продукте. В тех условиях, свидетелем которых был Уитмен, а сегодня являемся мы, когда потенциально антидемократические силы сзывают союзников и пытаются расколоть противников или привлечь их в свои ряды, для друзей демократии вопрос характера приобретает первостепенное значение. Он оборачивается вопросом, смо Уитмен У. Демократические дали. — Пер. К. Чуковского. «Позолоченный век» — сатирический роман Марка Твена и Чарльза Д. Уоррена, посвященный эпохе неограниченного предпринимательства, наступившей после окончания Гражданской войны. 42 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ гут ли люди призвать на помощь свои духовные ресурсы, моральную стойкость и действовать во имя демократии, пока демократия как таковая не капитулировала. Мы, как управляющие своего общества, несем ответственность за его выживание и совершенствование. В то же время демократические реформаторы и критики, будучи продуктами того же общества, сами неизбежно слабеют или деформируются под воздействием процессов и институтов, которые представляются «искалеченными, развращенными, полными грубых суеверий и гнилыми», если взглянуть на них с демократической точки зрения. Трудно понять, каким образом мы, народ, могли бы обладать добродетелями, необходимыми для демократических усовершенствований в социальных условиях, преобразований, для которых так отчаянно необходимы наши усилия. Чем выше потребность в демократически инициированной реформе, тем, как нам представляется, меньше вероятность того, что граждане будут этически и политически полномочны ее проводить. В демократическом обществе вопрос характера приобретает высочайшую значимость в те регулярно повторяющиеся периоды, когда жизнеспособность демократической реформы оказывается под вопросом. По-видимому, сейчас мы переживаем как раз такой период. Обращаясь к событиям повседневной жизни моих сограждан, я начинаю опасаться, что мы в большой степени: • игнорируем положение бедных во всем мире; • позволяем американскому государству насаждать за рубежами страны бесчисленные тиранические режимы; • не принимаем меры, чтобы избежать жертв наших милитаристских акций среди мирного населения и не воздаем им должных почестей; • не можем заставить профессиональные элиты нести ответственность перед народом; • приобрели привычку уступать мнениям сильных; • справедливости предпочитаем материальную выгоду и престиж; • более не верим в свою компетентность и не проявляем инициативу при начале каких-либо акций; • укрываемся в анклавах, формирующихся по признаку этнической, расовой принадлежности или образа жизни; • иными путями переходим от участия в политике к покорности, апатии или пессимизму. Если некоторые или все эти опасения оправданы, то не находится ли наша политическая экономия в непосредственной опасности, не 43 откажется ли она быть демократией на практике, а не только в чисто формальном смысле? Достаточно ли одних наших конституционно закрепленных избирательных механизмов, сдержек и противовесов и официально признанных прав для того, чтобы дать нам правление народа, посредством народа и для народа? Пока что я только поставил вопрос о характере в терминах, близких к уитменовским; это риторика убежденного демократа. Теперь же я хочу обратиться к антидемократическим версиям этого же вопроса, осветив при этом ту роль, которую в них играет концепция благочестия. Уитмен сознательно отнимал данный вопрос у своих оппонентов, показывая, что его можно превратить в вопрос, который демократия задает сама себе. Однако, как и в дни Уитмена, сейчас этот вопрос задают Америке преимущественно авторы, недружественно настроенные по отношению к демократии. Уитмен выделяет «Расстрел Ниагары» Томаса Карлейля, отмечая, что «вначале испытал сильный гнев и обиду от этого опуса мистера Карлейля, нашел теорию Америки оскорбительной... поскольку в ней высказываются определенные суждения с точки зрения феодальной в высочайшей степени» (ДД, 25 прим.). Но он также глубоко знал, как и полагается всякому поэту-романтику, версию Вордсворта, которой тот, в свою очередь, во многом был обязан Эдмунду Бёрку. Равным образом был он знаком и с теологической версией рассматриваемого вопроса, циркулирующей в кругах американского протестантизма. Во второй части мы увидим, что данный вопрос в последние годы стал предметом глубокой озабоченности для ведущих христианских мыслителей Америки. Хауэрвас, Макинтайр и Милбэнк при его постановке используют формулировки, восходящие к Аристотелю, Августину и Фоме Аквинскому (5). Между трактовками этих традиционалистов существуют немаловажные различия, однако все они склоняются к негативному по отношению к демократии заключению. Демократический индивидуализм, считают они, подрубает структуры традиции и сообщества, тогда как только в их рамках возможно взрастить добродетели, на которых строятся моральное воспитание и политическая жизнь. Демократия — одна из современных сил, которые уничтожают достоинство и добродетель наряду с иерархией, непроизвольно расчищая пространство, которое за См. Геттисбергскую речь Авраама Линкольна (1863). — Пер. И. Косича. Это название, перефразирующее английское идиоматическое выражение, можно интерпретировать как «Отчаянный шаг». 44 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ ймет тирания большинства. Разрушая досовременные социальные различия, она создает раздробленное общество, которое при этом, как ни парадоксально, в большой степени устремлено к согласованности. Многие обвинения подобного рода были высказаны в адрес демократии в последние годы; источниками их, вероятно, послужили теории Лео Страусса и Фридриха Ницше, которые наиболее часто изучаются в университетах. Но в этой книге я буду учитывать и труды целого ряда современных христианских авторов, которых считаю типичными критиками демократии. Их интерпретации вопроса о характере заслуживают реакции, и моя книга представляет собой попытку ответа. Я начинаю с Уитмена в первую очередь оттого, что он и множество вдохновленных им аналитиков с большим трудом вписываются в ту картину Америки, которую упомянутые мной современные авторы нам представляют. Уитмен с упорным недоверием относился к облеченным в вопросительно-требовательные формы тезисам, в которые облекали данный вопрос представители предыдущих поколений традиционалистов. Чему удивляться или из-за чего беспокоиться, если мыслитель, изучающий концепции, которые восходят к «феодализму» (ДД, 4), другим досовременным источникам или источникам из Старого Света, находит неполноценным характер американского народа? «Цель демократии» состоит в том, чтобы «вытеснить старую веру в необходимость абсолютизма твердо утвердившегося династического правления... как единственного ограждения от хаоса, преступлений и невежества» (ДД, 24). А значит, само собой разумеется, что демократический характер, увиденный с антидемократической точки зрения, тянется к хаосу, преступлениям и невежеству. Вопрос о благочестии является центральным в дискуссии. Демократия представляется ее противникам внутренне неблагочестивой, а следовательно, греховной, отчасти оттого, что они видят в ней решительное наступление на общественные структуры, которые на протяжении долгого времени считались источниками нашего бытия и жизненного пути. Благочестие, понимаемое как почтение к иерархии сил, от которых зависит общественная жизнь, вроде бы просто смыто приливной волной демократического самоутверждения. Некогда простые люди склонялись в почтительном изъявлении благодарности и униженности перед всем, что находилось выше них в цепи бытия. Ценность такого благочестия частью состояла в его вкладе в обучение добродетелям. Благоговение перед властью, незримо заложенное в таком благочестии, воспитывало покорность, которая, в свою очередь, позволяла традиции 45 и сообществу формировать характер индивида в духе добродетели. Демократия же, напротив, приветствует доверие к себе и презирает покорность. Она побуждает индивида распрямляться, думать самостоятельно и требовать признания своих прав. Уитмен писал: «Слишком долго наш народ внимал стихам, в которых простой человек униженно склоняется перед высшими, признавая их право на власть. Но Америка таким стихам не внемлет. Пусть в песне чувствуется не согбенная спина, а горделивость, уважение человека к себе — и эта песня будет усладой для слуха Америки» (ДД, 106). Плач над судьбой благочестия в демократический век может приобретать как светскую, так и теологическую окраску. От Цицерона к Макиавелли и далее, вплоть до наших дней, философы и политические мыслители нередко подвергали религиозное благочестие инструментальному толкованию. Это означает, что они выступали на стороне религии не во имя религии как таковой, а скорее видели в ней удобное средство поддержки светской добродетели. Истинным предметом их интереса было благочестие гражданское, то есть направленное в сторону структур гражданского общества и политического порядка вообще. Если религиозным благочестием можно управлять, поглядывая на благосостояние республики, тем лучше — с точки зрения перспективы, понимаемой в духе Макиавелли. Любые формы религиозного благочестия пригодны там, где дело касается благоразумного государя, если только их широкое распространение способствует укреплению стабильности и прочности общественного порядка и добродетели. Этот конкретный аспект сближает Эдмунда Бёрка с Макиавелли. Бёрк проявлял мало интереса (если вообще проявлял) к теологическому вопросу о том, как следует постигать Бога — верховный объект нашего благочестия. Для него было важно, что английская конституция (под которой он понимал всю совокупность унаследованных предрассудков и привычек, присущих английской жизни) по сути включает в себя установившуюся религиозную традицию, в которой характерные формы поклонения и почитания несли стабильность и крепость всем звеньям общественного устройства. Он писал: «Мы знаем и, что еще лучше, внутренне ощущаем, что религия есть фундамент гражданского общества, источник всех благ, всех удобств» (6). Здесь он апеллирует к религии, а не к Богу, и содержание его аргументации весьма отличается от того, к которому прибегли бы некоторые последователи Августина. Все августинианцы стоят на том, что истинного Бога следует признавать тем, кто он есть, и поклоняться ему так, как он требует от 46 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ нас, ибо это есть единственная манера поклонения, по-настоящему соответствующая его природе и должным образом отражающая нашу зависимость от него. Следовательно, теологическая истина имеет преобладающее значение, какого не приобретет ни одна иная форма религиозного благочестия. Только одна форма может быть признана правильной, ибо только одну форму можно расценивать как адекватную для обращения к конечному источнику нашего бытия и жизненного пути. Что-либо меньшее, что-либо иное будет грехом, не добродетелью. Образ жизни, в котором нет благочестия, обращенного к Богу как его центру, имеет в той или иной мере испорченный характер, так как в нем недостает наиболее важной составляющей справедливости. Как говорил Августин, «истинные добродетели могут существовать только в тех, кто обладает истинным благочестием» (7). Есть августинианцы — и августинианцы. Все они согласны в том, что современная демократия в значительной мере нездорова по причине отсутствия истинного благочестия. Но одни августинианцы приветствуют современную демократию, пусть небезоговорочно, как промежуточную станцию на долгом пути к окончанию истории человечества. Рейнхольд Нибур и Пол Рамсей отстаивали эту позицию в двадцатом столетии; Джин Бетке Элштайн отстаивает ее сегодня. Нибур любил ссылаться на знаменитое замечание Черчилля о том, что демократия — это наихудшая форма правления, если не считать всех прочих. Это изречение превосходно отражает двойственность Нибура. Между тем традиционалисты-августинианцы считают, что современная демократия глубоко и повсеместно испорчена исполненной гордыни и катастрофической секуляризацией политической сферы. А в результате характерная для августинианцев двойственность по отношению к политическому порядку ужесточается, трансформируясь в традиционалистское неприятие светского общества. Отсюда должно быть ясно, что те, кто апеллирует к традиционному благочестию как составной части добродетели, и те, кто презирает демократический индивидуализм, видя в нем кислоту, разъедающую структуру добродетели, не во всем одинаково смотрят на благочестие и добродетель. Однако они при этом часто склонны описывать и отвергать демократию при помощи одних и тех же риторических средств. Возможно, самое важное из этих средств — противопоставление демократии, понимаемой как уравнительная сила, чему-то другому, тому, что можно называть традицией, культурой, цивилизацией или сообществом, от чего, как предполага47 ется, зависит возможность добродетельного совместного проживания. Современная демократия — это сила, результат действия которой заключается в раздробленности, а не культура, готовая радушно принять собственные отличительные добродетели и характерные положительные типы. Характерные для нее формы морального дискурса состоят во взаимном отстаивании индивидуальных прав, а не в рефлексии или культивировании добродетелей. Сущность ее — уверенность индивида в собственных силах и самоутверждение, а не благочестие. Она разрушает характер граждан, вовлеченных в нее. К этому сводятся стандартные суждения традиционалистов. Уитмен считал: давно пришла пора переформулировать вопрос характера в демократических терминах. Создается впечатление, что в некоторых местах он отказывается от античных и средневековых традиционных представлений о добродетелях. Так, например, он говорит, что «модели личности, книги, манер и Ко., которые соответствовали прежним условиям и европейским землям, здесь предстают не более чем экзотическими изгнанниками» (ДД, 66). Может показаться, что этот пассаж попросту призван опрокинуть опыт оппонентов Уитмена и вывести таким образом данный вопрос из компетенции демократической стороны. Его вполне можно обвинить в произвольном отказе от всех стандартов, использование которых могло бы с какой-либо долей вероятности привести к вынесению решительного суждения о демократическом характере, на том лишь основании, что эти стандарты старые или завезены извне. Его гимн во славу уникальной молодости и новизны Америки часто субъективен и преувеличен; он восходит корнями к тому же источнику, что и его песнь о триумфе мистики над англосаксонской основательностью. Но Уитмену подвластны и более тонкие формулировки, которые ближе прагматической концептуальной стратегии, которую я намерен описать при анализе демократической модификации добродетели. В одном месте он утверждает, что «типы высшей личности», представляемые нам как «восточные, феодальные, клерикальные миры», образуют «странный анахронизм в наших ландшафтах и посреди наших нужд», и затем решительно добавляет: «Конечно, останутся старые, неумирающие элементы. Задача состоит в том, чтобы успешно приспособить их к новым сочетаниям, к нашему времени» (ДД, 84). Эта задача имеет кардинальное значение, и для ее решения нам необходимо привести наши рассуждения в соответствие с традиционными концепциями добродетелей, равно как и с 48 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ современными, с демократическими условиями и личностями. Абзацем ниже он заговаривает о том, что Америке нужно «прекратить признавать теорию характера, выращенную на почве феодальных аристократий» и «твердо пропагандировать свои новые стандарты» (ДД, 85). Он также говорит — впрочем, снисходительно и прагматично — о «принятии старых, вечных элементов, сочетании их в группах, блоках, совместимых с современностью, с демократией и с практическими задачами и потребностями наших городов и сельских районов». Он утверждает, что нужно выковать критический язык, на котором можно будет поставить вопрос характера — адекватно и с пользой — перед демократическим обществом; адекватно — то есть так, чтобы этот вопрос не оказался направлен против демократии, с пользой, чтобы стало возможным вынесение разумных критических суждений. Решив приспособить понятие «культура» к своему демократическому проекту и тем самым выбить риторическое оружие из рук тех, кто воспринимает демократию как противоположность культуры, Уитмен делает примечательное заявление: «Мы неожиданно оказались в соседних районах с врагом» (ДД, 67). Его риторический вызов состоит в том, что может существовать демократическая культура, причем в этом сочетании оба слова имеют значимость. Культура — это долгосрочная совокупность социальных явлений, встроенных в рамки институтов специфического типа, отраженных в характерных обычаях и институтах и способных порождать узнаваемые виды человеческих характеров. Он выступает за «программу культуры, выработанную не для одного класса, не для гостиных или лекционных залов, а такую, которая бы включала в себя взгляд на практическую жизнь», и подчеркивает необходимость принять во внимание одновременно «рабочих» и «безусловное равенство женщин». Далее он обобщает тему: «Я буду требовать от этой программы, или теории, масштаба, достаточного для того, чтобы она могла быть распространена на самую широкую человеческую сферу. Ее стержневой задачей должно стать формирование типической личности с характером... не ограниченным условиями, неприемлемыми для масс» (курсив в оригинале). Уитмен не отходит от своей демократической приверженности правовому языку, когда обращается к программе культуры и рассуждает о том, что могут представлять собой добродетели индивидов подлинно демократического толка. Насколько он может судить, две названные ветви демократического дискурса взаимно совместимы. Само существование «Демократических далей» способно породить 49 сомнение в справедливости предлагаемой Макинтайром интерпретации, согласно которой правильные размышления и тексты, посвященные добродетелям, потускнели приблизительно в то время, когда философы Просвещения начали теоретические споры о правах (см. ниже, гл. 5). Истинная суть предмета в том, что «Демократические дали» принадлежат традиции оживленных современных споров, в которых участвовали и другие выдающиеся идеологи демократического направления, такие как Уоллстонкрафт, Хэзлитт, Эмерсон, Торо и Дьюи, равно как и представители конкурирующих традиций. Несомненно, академические ученые уделяли добродетелям значительно меньше внимания в эпоху, когда Кант и Милль сделались непременными персонажами университетских курсов, но ведь академическая философия — это не более чем поле для этических дискуссий. В рамках более широкой традиции общественной дискуссии представления Уитмена о правах и добродетелях как о взаимодополняющих компонентах едва ли могут претендовать на уникальность. Конечно, в традиции демократической теории добродетели непосредственным предшественником Уитмена является Эмерсон, так же, как Дьюи — его прямым наследником. Задача Уитмена в «Демократических далях» — распространить то, что Стэнли Кэвелл назвал эмерсонианским перфекционизмом, на область политической рефлексии в периоды национального кризиса (8). Термин «перфекционизм» в этом контексте может в какой-то степени ввести в заблуждение, поскольку он как будто бы отсылает нас к «состоянию, единому для всех, к которому должна прийти личность (self), к фиксированному месту, где ей предназначено возвратиться к себе» («Условия», 13) (9). Ни один эмерсонианец не занимает такой позиции. Эмерсон и Уитмен привержены этике добродетели или самосовершенствования, которая всегда пребывает в процессе защиты концепции высшей личности, к которой следует идти, и ухода от обретенной личности (но не от принятых ею обязательств). Здесь сила «всегда» призвана отменить стабильный телос совершенства, к которому направлялись прежние импульсы перфекционизма. Эмерсонианская личность постоянно находится в процессе преображения под влиянием собственного стремления достичь высшей формы добра или достоинства. Эмерсон называет этот Уоллстонкрафт, Мэри (1759–1797) — английский публицист, одна из основоположниц феминистского движения. Конец, завершение (греч.). 50 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ процесс «восхождением, или продвижением души к высшим формам» (10). Это не уравнительная доктрина, во всяком случае, в той ее части, которая трактует о добродетели. Она является демократической в силу выражаемого в ней убеждения в том, что всякая душа обладает призванием к восхождению, и реалистической в силу признания, что многие люди — возможно, большинство современных людей — довольны тем, что пребывают в подчинении у масс. Эмерсонианский перфекционизм не допускает колебаний в том, чтобы называть достоинство, посредственность и грех своими именами. Ближе всего к выражению замысла «Демократических далей» подошел Кэвелл в следующем пассаже: «Если существует перфекционизм, не только совместимый с демократией, но и необходимый для нее, то он находится не в рамках существующей демократии в силу ее неизбежных несовершенств и не стремится эти последние преодолеть; он — в учении о реакции на эти несовершенства, о компромиссе человека с ними, причем не через извинение или отступление» (Условия, 18). § ¤( && ]^' Мы видели, что Уитмен охотно соединил концепции, извлеченные из теорий добродетелей, заимствованных у Старого Света, с местными умозрительными продуктами, произведенными поклонниками демократии. У него осталось бы немного материала для работы, если бы он решил избавиться от всех слов с неоднозначной историей. Даже само слово «добродетель» могло бы показаться сомнительным демократу-пуристу из-за его как бы связанной с полом этимологии; но Уитмена это обстоятельство не смущает. Есть ли в его демократической программе культуры место для добродетели, достойной названия «благочестие»? Сопутствует ли этому слову «затхлая и нездоровая атмосфера» феодализма (ДД, 53)? Или мы сумеем окружить его свежей, демократической атмосферой? И не так уж важно, восстановим ли мы слово. Единомышленники Уитмена — Эмерсон, Торо, Дьюи — были больше, чем он, озабочены проблемой слова. «Благочестие» было одним из излюбленных слов Эмерсона, и он отводил благочестию видное место в перечне демократи Английское слово virtue (добродетель) восходит к латинскому vir (мужчина, муж). 51 ческих ценностей: «Мужество, благочестие, любовь, мудрость могут учить; и каждый человек вправе открыть свою дверь перед этими ангелами, и они принесут ему дар языков» (11). Но легко можно увидеть, что это понятие представляет собой часть проекта Уитмена: спросить, как поэты демократии должны воспринимать источники нашего бытия и жизненного пути и реагировать на них. Этот вопрос составлял значительную часть его литературных забот. А следовательно, у него было что сказать по поводу благочестия. Ибо благочестие, в том смысле, в котором оно рассматривается здесь, — это добродетельное признание зависимости человека от источников его бытия и жизненного пути. Когда традиционалисты приходят к заключению, что демократия вообще является антитезой благочестию, они должны основываться на том, что благочестие в своей сущности состоит в почитании существующих иерархических сил. Но с демократической точки зрения, единственный вид благочестия, заслуживающий, чтобы его именовали добродетелью, это благочестие, связанное со справедливым или адекватным признанием источников нашего бытия и жизненного пути. Философское выражение этого аспекта впервые явилось в диалоге Платона «Евтифрон», затем к нему обращались такие мыслители, как Цицерон и Фома Аквинский, и дошла эта традиция до современной эпохи. Эмерсонианцы согласны с содержащемся в тексте Платона утверждением Сократа о том, что справедливость всегда находится в центре внимания во всех акциях, связанных с благочестием. Они уверены, что к категории справедливости следует относиться с опаской, если учитывать вопрос силы почитания. Когда они отрицают благочестие как грех, то понимают его в том смысле, какой в это понятие вкладывают традиционалисты. Когда они оценивают его положительно, как добродетель, то представляют себе источник нашего бытия и жизненного пути в некоем ином смысле и конструируют свои, демократические средства признания. Представляя или осмысливая эти источники и выбирая этически и эстетически оптимальные выразительные средства зависимости от них, поэт или эссеист эмерсонианского толка ожидает, что на него и будет возложена ответственность за эти процессы. Можно предполагать, что у Уитмена есть свои интерпретации источников, равно как и свои императивы относительно того, как друзья демократии должны к ним относиться (12). Он едва ли рассчитывает, что сказанное им не встретит возражений, но надеется, по его словам, что его читатели смогут распознать идеи, которые у них уже имеются, но, возможно, до сих пор ускользали от фиксации сознанием. 52 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ В гиперболической и пророческой манере Уолт Уитмен говорит: «Скоро не будет священнослужителей», и я полагаю, что он имеет в виду людей, преклонение перед которыми мы должны ощущать своей обязанностью, видя в них хранителей этого творческого труда (13). Для Уитмена «священнослужитель» — это поэтическое наименование того, кто, как принято считать, обладает достаточным авторитетом, чтобы объявить такой труд оконченным. Причина того, что скоро не будет священнослужителей, состоит в том, что уверенные в себе демократические индивиды находятся в процессе принятия ответственности за такой труд, давая за «грубые обожествляющие наброски» прошлого «столько, сколько они стоят, и ни цента больше» (14). Он не имеет в виду, что скоро не останется руководителей праздничных богослужений, проповедников, несущих боговдохновенное слово, духовных наставников. Примечательно — и поразительно, — что в Америке пророчество Уитмена в большей части оправдалось. Так, в современном американском католичестве существуют люди, называемые «священниками», и они играют немаловажную роль в жизни своих сообществ. Но их прихожане, по большей части, уже не несут им плоды своего воображаемого благочестивого труда. И «священники» сами это знают; знает их паства; и Ватикан упорно ищет средства против создавшейся ситуации. Феодальный порядок уничижения перед церковной властью скоро не возвратится. Жаль, что традиционалисты склонны свысока смотреть на это достижение как на грех, а не приветствовать его как способ взять на себя ответственность за благочестие. Некоторых традиционалистов беспокоит, что практикуемые во многих американских приходах религиозные опросы эквивалентны допросам на суде божественного источника нашего бытия. В «Листьях травы» Уитмен иронизирует по поводу таких авторов, применяя к ним нарочито двусмысленную фразу: «Брать на себя точную мерку Иеговы» (15). Разве это не неблагочестиво? Кто мы такие, чтобы решать, достоин ли Бог поклонения? В этом пункте согласны и Сократ, и Аквинат, и Уитмен. Всякое божество, ожидающее актов благочестия и при этом запрещающее акты идолопоклонства, должно мириться с мыслительными актами — обращением к концепциям, вынесением суждений, использованием воображения, — которые помогают нам принимать решения, какие сущности достойны поклонения и есть ли таковые вообще. Это означает, что каждый человек применяет, пусть даже и неявно, свои собственные критерии достоинства. Полагающееся на себя благочестие стремится взять на себя ответственность за свою привер53 женность, формулируя ее открыто, в поэтической или философской форме, в виде требования, для обоснования которого могут потребоваться резоны. Принимая во внимание присущую человеку гордость, скажем: непросто мыслить самостоятельно, пребывая в поисках самокритичного, но искреннего благочестия, и не поддаваться при этом искушению отрицания самих условий собственного бытия или не уходить иным образом от источников, от которых зависит критическое мышление. Насколько я понимаю, это и есть грех, который Дьюи имел в виду, когда проклинал «воинствующий атеизм» с той же яростью, с какой он критиковал столь же подозрительные положения традиционалистской теории сверхъестественного (16). Как я полагаю, под воинствующим атеизмом он полагал беззастенчиво пренебрежительное отношение к источникам человеческого бытия и жизненного пути. Дьюи восставал против воинствующего атеизма, а не против атеизма как такового. Он верил, что атеист в силах сохранять «естественное благочестие», то есть «простое ощущение природы как целого, частичками которого являемся мы». «Внерелигиозное в своей сущности отношение состоит в том, что достижения и цели человека приписываются самому человеку в отрыве его от мира физической природы и его ближних» (ОВ, 25). Дьюи видел правоту традиционалистов там, где они утверждали, что мы должны найти подходящий способ признания первичных источников нашего бытия. Однако, с его точки зрения, традиционалисты неправы в том, что требуют от всех нас поступать одинаково, идти по неизменному пути. Его тревожило, что «определенные религиозные традиции сейчас не дают нам, из-за тяжести исторического бремени, религиозного качества нашего опыта, прийти в сознание и найти выражение для того, что необходимо, чтобы представить условия, интеллектуальные и нравственные» (ОВ,9). За этой озабоченностью просматривается эмерсонианский вопрос: «Почему нужно полагать, что изменениям в концепции и порядке действий ныне пришел конец?» (ОВ, 6). Эмерсон сетовал на «застойность религии» и на нашу склонность становиться «идолопоклонниками Старого» в вопросах религии. Обращаясь к истории древних учителей и царей, Эмерсон писал: «Допустим даже, что они действительно были людьми достойными, но разве достоинство — их привилегия?» (17). Возражая против эмерсонианского Эмерсон Р. У.. Возмещение. — Пер. С. Пономаренко. Эмерсон Р. У... Доверие к себе. — Пер. А. Зверева. 54 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ антиклерикализма, некоторые августинианцы утверждают, что не может существовать ничего, напоминающего добродетель, не может быть путей участия в священной жизни в согласии с Богом вне общины, признающей структуру власти и придерживающейся распорядка действий, завещанных Богом. Согласно их взглядам перед нами выбор не между свободой и надменностью, а между анархией и порядком. Дьюи искал духовную тропу, проходящую между крайностями воинствующего атеизма и жестоковыйного традиционализма. Другой вопрос, конечно, — нашел ли он такую тропу. Мне кажется, что вариант религиозного натурализма, предложенный им в «Общей вере», сам по себе носит чересчур агрессивный характер, в нем слишком много уверенности в возможности развенчать традиционные формы веры путем объявления их иррациональными, то есть сыграть предназначенную ему Дьюи роль в публичной философии. Дьюи был прав, когда говорил, что в благочестии большая роль принадлежит действию воображения. Это справедливо не только в отношении тех случаев, когда мы сознательно создаем для себя зримые религиозные образы, но и когда склоняемся перед духовным авторитетом других людей. Если быть честными, то мы должны признать, что поле заблуждения в религиозных вопросах охватывает едва ли не весь предмет дискуссий. В наших религиозных исканиях все мы как будто ощупью движемся во тьме. Как иначе объяснить всю историю религиозных противоречий? Высокомерие, принятие желаемого за действительное, садизм, мазохизм — все это способно исказить наше религиозное мышление. Несомненно, воздействием этих темных сил можно объяснить, почему мы в такой большой степени расходимся в истолковании вопросов, связанных с религией. Но если вера во что-то основывается на внешних факторах, которые разнятся у каждой индивидуальности, и если подходящие критерии обоснования действительно столь зыбки, как это следует из установок прагматизма, то Дьюи не вправе провозглашать теорию сверхъестественного лежащей вне рамок обоснованной веры. Если соблюдать налагаемые прагматизмом ограничения, сверхъестественное не является предметом, которому можно дать определение, абстрагированное от жизни конкретных людей. Следовательно, было бы неразумно разрешать конфликт между сверхъестественным и естественным на формальных основаниях. Очень возможно, что Дьюи был вправе принять натурализм как свою личную систему взглядов. Вопрос же заключается в том, может ли теория сверхъестественного служить существен55 ным компонентом общей веры, которую он предлагает демократически настроенным гражданам. Что дает нам основания полагать, что натурализм сможет сыграть в общественной культуре роль, предписанную ему Дьюи, если большая часть граждан отвергнет его? Отвечая на этот вопрос, Дьюи прибегает к вторичной конструкции, которая напоминает нам построения Огюста Конта. По-видимому, история демонстрирует нам три стадии роста. Считается, что на первой стадии человеческие взаимоотношения настолько поражены скверным влиянием испорченной человеческой природы, что нуждаются в целительном вмешательстве внешних и сверхъестественных источников. На следующей стадии большое значение приобретает их соответствие ценностям, которые рассматриваются как исключительно религиозные. К этому ныне пришли теологи либерального направления. На третьей стадии станет ясно, что на деле ценности, чтимые в рамках религий, включают в себя идеальные элементы и являются идеализациями предметов, характерных для естественных союзов, которые проецируются в область сверхъестественного, где сохраняются и получают одобрение. Дьюи не был единственным прагматиком, развивавшим такие мысли. (Другим был Ричард Рорти.) Но в отсутствии подтверждающих аргументов данное рассуждение кажется своего рода выдаванием желаемого за действительное, поиском поля деятельности в области сверхъестественного. Используя слова «станет ясно» в последнем предложении, Дьюи неявно признает, что последняя стадия его эволюционной схемы не работает так, как того желал бы натуралист (18). Натуралистическое благочестие предполагает натурализм. Он истолковывает источники нашего бытия и жизненного пути в натуралистических терминах и представляет попытки признать эти источники адекватным образом. Те натуралисты, которые не являются воинствующими атеистами, пожелают выразить свое благоговение перед тем, что Дьюи назвал «матрицей человеческих отношений», от которой все мы зависим (ОВ, 70), и перед «окутывающим миром, который воображение ощущает как вселенную» (ОВ, 53). Но они остановятся на грани признания еще одним объектом благоговения сверхъестественного источника этого окутывающего (естественного) мира. Возможно также, что они захотят возвестить: «упоминания о сверхъестественном и потустороннем местопребывании скрывают» «истинную природу» «человеческого жилища» и ослабляют силу «благ, испытываемых в индивидуальных 56 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ отношениях в семье, соседстве, гражданстве и поиске искусства и науки» (ОВ, 71). Сверхнатуралисты, поборники сверхъестественного, в свою очередь, увидят в этой остановке в шаге от признания неспособность адекватно воспринять первичный источник нашего бытия и жизненного пути. Не исключено, что им также захочется представить эту неспособность как результат горделивого самолюбия, добровольный отказ от настоящего статуса человека как падшего создания совершенного Творца. С нашей стороны было бы самонадеянно думать, что спор между натуралистическим и сверхнатуралистическим благочестием будет разрешен в обозримом будущем. У нас нет никаких оснований провозглашать какой-либо из названных видов благочестия религиозным фундаментом общественного порядка. Впрочем, возможно, нам удастся найти несколько больше общего, чем обыкновенно замечают сторонники натурализма и сверхнатурализма, когда им удается разоблачать иллюзии и грехи, приписываемые ими друг другу. Если оправданность веры во что-то является вопросом контекста и если разница в воспитании и жизненном опыте также является совокупностью контекстуальных факторов, тогда, наверное, вера наших религиозных оппонентов тоже оправдана. Во всяком случае, это признание даст нам передышку, прежде чем нам придется безжалостно диагностировать наши различия в области религии. Слабость нашей позиции в том, что наши ближние вправе верить в то, во что они верят. Если мы являемся добросовестными интерпретаторами, то мы станем смотреть на людей, чьи религиозные воззрения отличаются от наших, как на тех, кто делает все возможное, чтобы адекватным образом признать свою зависимость — если только у нас не будет ясных доказательств обратного. Пока же они признают эту зависимость должным образом (с учетом их представлений об источниках нашего бытия и жизненного пути), мы можем сказать, что они являют нам пример восприятия, достойного нашего уважения, если и не полной поддержки. Мы можем восхититься этой чертой характера как добродетелью по той же причине, по какой мы восхищаемся мужеством, сдержанностью или мудростью тех, кто противостоит нам на поле битвы или в пылу дискуссий. Мы можем оставить открытым вопрос о том, удовлетворяет ли этот характер высочайшим стандартам достоинства, на которые можно ориентироваться, является ли обсуждаемая черта добродетелью в самом полном смысле этого слова. Натуралисты и сверхнатуралисты по-разному описывают изначальный источник бытия; соответственно, по-разному они и призна57 ют свою зависимость от источника. Никому не известно, как можно разрешить раз и навсегда рациональным образом противоречия в вероучениях и в религиозных действах. Конечно, в каждом лагере есть люди, называющие тех, кто следует иным путем, нежели они сами, попросту грешниками. Но эта привычка свидетельствует о недостатке великодушия, что трудно согласовать с социальной добродетелью вообще. Как бы то ни было, это не полезно для демократии. Если отделить выдвинутую Дьюи концепцию естественного благочестия от его же приверженности натуралистической метафизике, то станет очевидно, что его теория принадлежит традиции, восходящей к Эдмунду Бёрку. Этот вывод может показаться парадоксальным, если учесть, что Бёрк является также и прародителем современного традиционализма. Как же тогда получилось, что такие последователи Эмерсона и Уитмена, как Дьюи, стали рассматривать природное благочестие как добродетель, имеющую значение для демократии? Лучший выход из этих запутанных дебрей интеллектуальной истории, который я могу предложить, это сказать, что теоретики добродетели эмерсонианского толка желали демократизировать предложенную Бёрком концепцию благочестия, пришедшую к ним через творчество Вордсворта. Как вам известно, именно Бёрк был одним из тех, кто заявлял: демократия, разъедая моральные основы унаследованной ею социальной структуры, не оставляет места для почтительности, благодарности, покорности и заботливой любви к каждому объекту почитания, благочестия, на котором основываются повседневная жизнь и гражданские добродетели. В трактовке Бёрка среди объектов поклонения нужно числить, в частности, Бога, семью, страну, родной край, государство и традицию. Традиционные акты благочестия, в его понимании, составляют часть «морального гардероба» воображения, в который общество облачает обнаженную природу человека и без которого мы погрязнем в откровенном грехе. Подлинное благочестие, по мнению Бёрка, происходит от нашей природной предрасположенности к благодарному восприятию — в контексте исторической вероятности — воображаемых конструкций, которые прикрывают нашу наготу, принимая форму добродетельных привычек и чувств. Он считает эти благие привычки и чувства нашей второй натурой, культурной оболочкой, которая отличает нас от скотов. И этому восприятию, лежащему в основе нашей второй натуры, грозит эрозия, вызываемая демократией. Подтачивая нашу нравственную основу, демократия невольно создает некий неестественный тип благочестия, который Бёрк 58 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ называет «зловещим». В следующем абзаце он формулирует свой тезис: «Тип человека, для которого подчинение порядку означает непроглядный мрак, вскармливается в опасных масштабах теплом кишечного расстройства; неудивительно поэтому, что такие люди лелеют, благодаря присущему им зловещему благочестию, неустроенность, которая и становится матерью всех дурных последствий. Поверхностные наблюдатели считают людей такого рода виновниками общественных треволнений, тогда как на самом деле они суть не более чем их продукты. Добрые люди с грустью и негодованием взирают на эту безумную картину». Здесь перед нами еще относительно ранний Бёрк, так что он не говорит о демократически настроенных теоретиках права периода Французской революции, но он уже приступил к описанию контрастирующих разновидностей благочестия — искреннего и зловещего, к разграничению которых он окончательно придет в своей критике достижений революции. В его позднейших сочинениях демократия описывается как разрушение культуры, которое порождает на свет класс неустроенных людей. Эти люди также обладают своего рода благочестием, которое находит свое выражение в признательности за беспорядки, благодаря которым сделалось возможным их восхождение к вершинам власти и обретение влияния. Кроме того, по мнению Бёрка, они обязаны поклоняться источникам своего жизненного пути, но нам было бы глупо хвалить их за такое благочестие, поскольку их жизненный путь проходит за счет нашей второй натуры. Зловещее благочестие — это устойчивый соблазн для тех «мужей таланта», которые жаждут личной наживы на демократических волнениях, сотрясающих унаследованный этический порядок. Поэзия Вордсворта совершает дрейф в сторону благочестия в понимании Бёрка, когда поэт отходит от своего юношеского энтузиазма по поводу Французской революции. На этом поворотном рубеже жизни он усматривает в своем радикализме зловещее благочестие молодого талантливого мужа. Поэтому он призывает на помощь силы своего романтического воображения и воспевает то, что в «Прелюдии» сам называет «дисциплиной добродетели», в скрытом виде содержащейся в верованиях и обычаях английских крестьян. Вот что говорит его Странник: Так, долг, рожденный благом обретенным, И осторожность разума, что упреждает 59 Беду грядущую, гласят нам, Что мы обучены должны быть и не спать. Да будут искоренены распутство И мрак души, и вечно торжествует Добродетель, и благочестие природы процветет Во всех веках, как древнее наследство. Едва ли нам здесь стоит вдаваться в вопрос о том, какой смысл Вордсворт вкладывал в слова «добродетель» и «благочестие природы». Ясно, что он прибегает к этим словам, чтобы призвать нас к согласию на основе традиционного образа жизни, привязанного к конкретной местности. Но его поэтика в своей основе состояла в переосмыслении воображением обыкновенных объектов и людей в границах прекрасного и возвышенного мира природы. Такая поэтика позволила поэтам-романтикам, чья жизнь оказалась привязанной к другой местности, именуемой Америкой, услышать призыв к такому переосмыслению мира в воображении, которое могло быть обращено на достижение целей более демократического характера, чем те, что ставил перед собой Бёрк. Америка не в меньшей мере, чем Озерный край Англии, являла образцы красоты и возвышенности мира природы. Американский поэт не менее чем его английский собрат прибегал к помощи воображения для осмысления этого мира, воздавая ему справедливость поэтическими средствами и ярко признавая свою зависимость от него. И его поэтическое творчество выражает своего рода природное благочестие. И он в своем творчестве, как и Вордсворт, стремится описать моральный багаж народного воображения. Но его природное благочестие направляет его творческие силы на описания обыкновенных людей, населяющих его родину. В них он видит не роскошь описанной Бёрком могучей империи и не «славное облачение» деревенского Странника, а свободные одежды демократического индивида: «В юности свежий, горящий, чувственный, пылкий, духом приключения движимый; в зрелости смелый, проницательный, сдержанный, не слишком разговорчивый и не слишком скрытный, не легкомысленный и не угрюмый; фигура его статна, движения свободны, сложение говорит о доброй крови, на щеках легкий румянец, грудь его широка, он всегда прям, звук его голоса превосходит музыку, взгляд спокоен и пристален, но глаза его могут и вспыхнуть — и еще неизменное присутствие духа, когда он остается самим собой в присутствии высших» (ДД, 71). 60 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ Американская демократия обладает своими цивилизующими навыками, учитывающими, что человек «обучен должен быть и не спать». Индивидуум имеет все основания испытывать к этой общественной практике признательность, даже почтение. Но Сабина Ловибонд замечает по другому поводу: «Следует отличать природное благочестие от такого “благочестия”, которое состоит в том, что мы “радостно приемлем” правила господствующей словесной игры, невзирая на ее достоинства и пороки, открывающиеся критическому взгляду, приемлем просто потому, что она уже есть» (20). Словесные игры, принятые в цивилизующей практике, те игры, которые имеют в виду такие эмерсонианцы, как Уитмен и Дьюи, носят демократический характер. Мы говорим о речевой практике, разработанной для того, чтобы обеспечить и приветствовать критическую рефлексию по поводу достоинств и пороков этих игр. Эмерсон писал: «Таков путь, ведущий нас к любви, что отринет все чувственное, внешнее, личное и обратится к вездесущей добродетели и мудрости, дабы добродетель и мудрость преумножились» (21). Однако в то же время мы находимся в ситуации, где мы не являемся теми людьми, какими бываем в наши лучшие минуты, если только наше состояние не определяется участием в такого рода общественной деятельности и если бесчисленные граждане не приложили усилия, чтобы организовать, защитить и усовершенствовать эту деятельность. Эта нота звучит у Меридель Ле Сюёр, унаследовавшей в двадцатом веке демократическое вдохновение Уитмена, в эпиграфе из «Страны Северной звезды», который я поместил в начале этой книги (22). Важно, что Уитмен создал «Демократические дали» после того, как побывал и поработал в госпиталях Гражданской войны, где приобрел опыт, ставший абсолютным центром его демократического благочестия. Он глубоко восхищался простыми людьми, которых встречал в этих госпиталях, многое узнал от них и из собственных реакций на них. Дэвид Бромвич отметил: «В конечном счете, самое волнующее в Уитмене — это то, что он учит, а не отпускает грехи, его терпение при виде язв, с которых для человека может начаться путь к благодеянию» (23). Это терпение, усиленное опытом и упорством поэта в наблюдениях, само по себе порождает своего рода благочестие. Этот род благочестия коренным образом отличается от того, что приобретается в господствующей в обществе практики, в его институтах или от простого согласия с тем, что данная практика естественна хотя бы потому, что она уже Эмерсон Р. У. Любовь. — Пер. М. Тюнькиной. 61 есть. Это сознательная идентификация, принимаемая на себя индивидом в силу того, что он мыслит самостоятельно, признает то, от чего зависит его уверенное суждение (24). Все это было ясно Уитмену. Ни работающих мужчин, ни женщин, ни массы простых людей не следует считать добродетельными потому, что они знают свое место в иерархии или охотно склоняются перед теми, кто стоит выше их в цепочке бытия. Все они с радостью станут на позицию самоуважения. Следует ли отсюда, что демократия есть антитеза благочестию как таковому? Если сущность благочестия в покорности существующим иерархическим силам, то в таком случае демократия и благочестие несоединимы. Но это не обязательно так. Если благочестие — это добродетель, состоящая в приспособленности, или простой реакции на источники нашего бытия и жизненного пути, то ничто у Уитмена этому не противоречит. Для него важные вопросы заключаются в том, как нам представить себе источники нашего бытия и жизненного пути и как нам реагировать на них в отношении и поведении. Именно этим двум вопросам посвящена значительная часть поэтического творчества Уитмена. С эмерсонианских позиций Уитмена, отрава доктринерской религии в том, что она объявляет работу религиозного воображения завершенной и тем самым ставит человека в униженное положение по отношению к прошлому в духовных вопросах. Уверенное же в себе благочестие, напротив, предполагает, что мы правомочны воображать источники, от которых зависим, и выстраивать свою жизнь в соответствии с лучшими произведениями нашего воображения. Поэтому Уитмен говорит: «Священник уходит, приходит божественный знаток» (ДД, 6). Есть ли в сердце человека, занявшего эту позицию доверия к себе, место для религиозной благодарности? В приуроченном ко Дню благодарения издании «Филадельфия пресс» Уитмен сказал об одной из составляющих демократического благочестия следующие слова: Как бы то ни было, благодарность никогда и наполовину не творилась моралистами; она — необходимый атрибут цельного характера мужчины или женщины, склонность ценить хорошее и испытывать признательность. Вот главный вопрос, сущностный элемент, акцент, то, что геологи называют трендом. В своей жизни и сочинениях я рассматриваю вознесение благодарения, вместе со всем, что оно за собой влечет, как лучшую часть существования. Я должен сказать, что благодарность — это качество, полностью охватывающее человеческую природу; я должен сказать, что без 62 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ нее любви и вере не будет доставать жизненной силы. Есть люди (стоит ли мне вообще считать их религиозными, если учитывать положение вещей?), у которых в их склонностях нет такого курса (25). В традиции эмерсонианского перфекционизма именно благодарность, а не верность или преклонение, признается лучшей стороной благочестия. Дьюи всего лишь развивает названную традицию, когда обвиняет «воинствующий атеизм» в «отсутствии естественного благочестия». Связи, соединяющие человека с природой, которую всегда воспевали поэты, легко преодолеваются. Часто мы сталкиваемся с позицией человека, живущего в равнодушном и враждебном мире и изрыгающего проклятия. Между тем религиозное восприятие мира требует ощущения связанности человека с окутывающим миром, который воображение ощущает как вселенную, отношений зависимости и поддержки» (ОВ, 53). И далее философ заключает: «Гуманистическая религия, если она исключает наше отношение к природе, бледна и худа, а если она признает человечество объектом поклонения, то она самонадеянна» (ОВ, 54). Теперь предположим, что в сердце уверенного в себе человека есть место для благодарности, когда его уверенность признает свою зависимость от природных и социальных обстоятельств, вне которых она бы не имела смысла. Есть ли место для такой благодарности за признание своего долга, который никогда не будет полностью уплачен? Августинианцы предполагают, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Пожалуй, Ницше был главным современным критиком благочестия и ставил данный вопрос в скептическом ключе. В понятии благочестия его смущает именно предположение, что мы в долгу у источников нашего бытия и жизненного пути, и с этим долгом нам не расплатиться. Это, как он считает, подтачивающая силы мысль, зерно обиды, которая не может составлять часть жизни, утверждающей жизнь. Но и Ницше, и Уитмен числили своим наставником Эмерсона. И я полагаю, что Уитмен, приветствуя тот род благочестивой благодарности, которого не признавал Ницше, исходил из эмерсонианской идеи, которую игнорировал Ницше, обрушивавшийся на демократию. Лучше всего эта мысль выражена в следующем абзаце из эссе Эмерсона «Опыт»: «И получив еще один дар, я не стану себя изнурять, добиваясь строгого равновесия — кому оно будет нужно, если я вдруг умру? Самый первый из 63 даров уже перевесил соображения в том роде, достоин ли он меня, и так происходило со всеми иными. А достоинство, что бы оно ни значило, — это для меня часть того, что я воспринимаю». Мазохистское самоуничижение вообще не является добродетелью под эмерсонианским углом зрения, даже если она лукаво выступает под именем добродетели. Многие авторы Нового времени, начиная с Юма, едины в своем неприятии самоуничижения — и Ницше в их числе. Но Эмерсон, величайший из демократических поборников доверия к себе, в этом абзаце представляет нам плод упорной работы, выполненной для того, чтобы оставить место для духовно здорового признания зависимости. Я выражусь яснее, если скажу, что в моих глазах такая добродетель, как справедливость, не заставляет меня делать больше, нежели мне по силам, чтобы восстановить равновесие. Ни одна подлинная добродетель не требует, чтобы человек делал больше, чем он со всей очевидностью может. Требование полной компенсации там, где возможна лишь частичная компенсация, было бы не проявлением справедливости, а симптомом садомазохистской патологии. Сущность приведенного фрагмента из эссе Эмерсона состоит в том, с каким признательным и в то же время жизнеутверждающим настроением он способен получать дары (и признавать свою зависимость от них), за которые он не может расплатиться сполна. Он прекрасно знает, что он в принципиально неоплатном долгу перед источниками своего бытия и жизненного пути, но его благочестие очищено от садомазохистских оттенков демократическим самоуважением. Он готов с радостью получать дары и справедливо оценивать их, не прибегая к изнурению тела или души. Когда он говорит, что «приобретение превысило заслуги в первый день и с тех пор продолжает превышать заслуги», то его не смущает, что речь идет о его заслугах. Он не рассматривает возможности того, что заслуга будет сведена на нет тем обстоятельством, что она возникла не всецело сама по себе. Он говорит, что сделанное им благодаря его таланту или характеру заслуживает одобрения и само по себе было обусловлено. Его заслуга не самодостаточна. Скорее она представляет собой часть акта получения, часть подарка. Но даже при этом она не отделена от его усилий. Нравственная психология Эмерсона предполагает законную гордость человека за его достижения, одобрение достижений других людей и отношения асимме Пер. А. Зверева. 64 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ тричных обязательств, и все это может быть признано под эгидой справедливости — и противопоставлено гордыне. Конечно, все сказанное не означает, что гордыня не представляет никакой опасности в условиях демократии. Она неизменно грозит всякому, кто достиг власти, престижа или богатства. Но эмерсонианцу, подобному Уитмену и Дьюи, захочется соблюсти равновесие между признанием опасности и ободряющей риторикой, щедростью, напрямую направленными на простых людей, на женщин, на рабов и потомков рабов. Для нас было бы желательно разместить всех этих людей в поле демократической индивидуальности, прежде чем излишне тревожиться по поводу гордыни, которая, может быть, когда-нибудь зародится в их сердцах. Относительная автономность здорового доверия к себе — вот основа подлинного благочестия. Дьюи держался в рамках традиции самокритичного благочестия, многим обязанной Эмерсону и Уитмену, когда заявлял, что «почтение, демонстрируемое свободным и уважающим себя человеком, лучше, чем раболепное повиновение деспотической власти» (ОВ, 7). Итак, было бы нелепо ожидать, что августинианцы прочитают подобное утверждение в контексте и не усмотрят в нем нотку гордости, которая в их лексиконе являет собой грех, отчуждающий человека от его истинной обители в сени Бога. То, что Дьюи именует «самоуважением», а Эмерсон обозначает как «доверие к себе», — это плод духовного опыта перфекциониста, который сознательно отказывается следовать канве августинианских предупреждений или ограничивать себя структурами церковного авторитета. Здесь существуют глубокие религиозные различия, и их нельзя сгладить или с легкостью принять. Но как только мы сосредоточимся на этих различиях, то сразу увидим, почему они не мешают представителям одной и другой общности идентифицировать себя с конституционным порядком, при котором церковь и государство функционируют раздельно. Демократы августинианского направления видят, как гордость проявляет себя в сердце человека, в том числе в сердце каждого августинианца. Поэтому сама по себе она не может служить им критерием для исключения человека из политического сообщества. Политическое сообщество, целиком состоящее из горделивых грешников, все же сохраняет свои функции, которые нельзя не принимать во внимание. С чем-то оно справляется, лучше или хуже, более или менее справедливо. Демократам эмерсонианского направления лучше удается описывать гражданское общество как 65 сонное или прогнившее, чем как греховное, но они, как и все прочие граждане, глубоко озабочены созданием более совершенного союза. Они числят себя в рядах тех, кто несет ответственность за совершенствование наших институциональных соглашений, в первую очередь за то, чтобы они должным образом отзывались на нужды, прислушивались к голосам наименее обеспеченных граждан. Если выразиться короче, они считают себя гражданами. Обе группы давно ощущают ограниченность политики. Они признают ее исторически проявляющиеся пороки и не рассчитывают, что она спасет чью бы то ни было душу. Они слишком много внимания уделяют благочестию — в том смысле, как они его понимают, чтобы верить в способность современного государства-нации определить свою конечную задачу или выработать методы ее выражения и уточнения (27). Государства попросту непригодны для достижения таких целей, они служат источниками немалых бед, когда переступают пределы своих полномочий. Монархи сделали из благочестия посмешище, претендуя на право надзора за ним. Они начинали войны во имя Христа, заставляли своих подданных приспосабливаться, вынуждали многих граждан покидать родину и пускаться на поиски свободы и безопасности. Нет оснований рассчитывать на то, что демократически избранные президенты и законодатели будут лучшими блюстителями истинного благочестия, чем короли и королевы прошедших веков. Мы не склонны ставить на голосование природу и существование Бога. Государство, навязывающее народу религиозное (или нерелигиозное) единообразие, не позволяет инакомыслящим вести такую жизнь, которая вполне соответствовала бы их личным убеждениям в вопросах первостепенной важности. Бывает и хуже, когда государство ставит перед собой цель принимать за граждан решения, похищая тем самым у личности возможности думать самостоятельно. Мы не станем удивляться тому, что поборники доверия к себе усматривают в подобном посягательстве на их права тяжкое оскорбление человеческого духа. Многие христианские сообщества на собственном опыте гонений научились видеть в таких действиях государства насилие над совестью. Никто не думает, что нам было бы легче оставаться в стороне, если бы мы брали на себя обязательства в своеобразном вакууме, были бы свободны от семейных и культурных влияний. Не может быть и речи о столь абсолютной свободе. Воспитывая в себе благочестие, граждане находят опору в традиционных повествованиях, в биографиях выдающихся людей, в поэтических образах и в критических доводах, которые обнаружили 66 ^ 1. O< ]^' £¤ & ¥¦ свою весомость. В их власти обратить во что-то полученное ими наследие и избавиться от тех его сторон, которые оскорбляют душу. Свобода, которой они обладают, располагается в сети эволюционирующих нормативных ограничений. Но государству незачем вмешиваться в эти материи. Присущие ему функции лежат в другой сфере. А что можно сказать о человеке, который чтит свободу совести? Что в этой связи можно сказать о человеке, который чтит запрет на убийство, запрет на жестокие и необычные наказания? В ответ на эти вопросы христиане заговаривают о душах, созданных по образу Бога. Эмерсон и Уитмен также нередко говорят о душах и о чем-то божественном или чудесном, что можно разглядеть в человеке. В такие моменты они сознательно прибегают к поэтическому повествованию. Они воспринимают христианские повествования как воплощенную поэзию и отыскивают собственные свежие образы. Их намерения не в том, чтобы ухватиться за догму и оспаривать ее на задаваемых ею условиях. Их намерения просты: верно выразить то, что они испытывают, и вдохнуть жизнь в подобную способность к благоговению и любви в читателе. Говоря о поэте демократии в стихотворении «У берегов голубого Онтарио», Уитмен пишет: Он судит не так, как судит судья, но как солнечный луч, что падает на беспомощное создание, Он видит дальше всего, когда в нем больше всего веры, Его помыслы — гимны, воспевающие создания, В споре с Богом и вечностью он молчит, Он видит вечность не как пьесу с прологом и развязкой, Он видит вечность в мужчинах и женщина, он не видит мужчин и женщин как сны или точки (28). 67 Глава 2. РАСА И НАЦИЯ У БОЛДУИНА И ЭЛЛИСОНА ^ 2 РАСА И НАЦИЯ У БОЛДУИНА И ЭЛЛИСОНА В этой главе будет рассматриваться еще одна характерная для Америки дискуссия, касающаяся благочестия и статуса народа, — дискуссия среди афроамериканских интеллектуалов о «черном национализме» и его сепаратистской концепции политического сообщества. Эта форма расового национализма представляет собой реакцию на расистскую практику отстранения чернокожих от полного участия в жизни гражданской нации, что является ярким напоминанием о том, что добродетели, наиболее тесно связанные с перспективами демократии, — это справедливость, дружба, великодушие и надежда. Поскольку эрозия этих добродетелей быстро подрывает веру в другие и в будущее, веру, она чрезвычайно существенна для самоидентификации человека с гражданской нацией как целым. Если следующему поколению не удастся сохранить живой демократическую надежду в эпоху борьбы с терроризмом и ответов на другие жесткие угрозы, то наиболее убедительным будет такое объяснение: люди сами были слишком несправедливы и злобны, чтобы вызывать доверие друг у друга. Когда несправедливость достаточно тяжела, в частности, когда у больших групп населения имеются основания считать себя униженными и презираемыми, само сообщество готово распасться на ряд отдельных по своей сущности сообществ. Мы знаем, что так случается, когда соответствующие группы теряют заинтересованность в том, чтобы аргументировать друг перед другом свои позиции, вербально поддерживать ответственность друг перед другом. На протяжении всей истории страны белые американцы не были уверены в том, как им следует определять свою национальную идентичность в рамках расовых отношений. Представлять народ как расу — ошибка, которую не раз совершали и сами Эмерсон и Уитмен, даже тогда, когда они выступали в защиту отмены рабства как условия создания более совершенного союза. Политики, 68 ^ 2. &@­ ]& £ & горящие желанием заискивать перед белыми американцами, принадлежащими к консервативному среднему классу, ныне привычно повторяют эту же ошибку, пусть и не говоря ни слова и понимающе подмигивая. Расовый национализм белой Америки спровоцировал возникновение соответствующих форм расового национализма в диаспорах. «Черный национализм» — наиболее весомый пример проявления этой реакции. Хотя «черный национализм» и не добился в Соединенных Штатах изначально поставленных им перед собой политических целей, он остается заметным элементом американской политической культуры. Невозможно отрицать, что его сторонники имеют причины для дистанцирования от американской нации, родившейся на расовой основе. Зато, если принять во внимание все обстоятельства, есть все основания сомневаться, что такая изоляция является целью, предпочтительной по сравнению с целью перевода определения нации на нерасовый язык. Если говорить о структуре, «черный национализм» весьма напоминает новый религиозный традиционализм, о котором я поведу речь во второй части этой книги. Обе эти идеологии являются формами реакции на дискриминационный характер определения демократических сообществ, и обе они выродились в подрывные формы сепаратизма и культурного отчуждения. Было бы желательно подвергнуть их тщательному анализу и не поддаваться предлагаемым им искушениям, но только предварительно напомнив себе, что они не пустили бы корней в обществе, которое внушило бы доверие к себе с самого начала своего существования. Бывший член Комиссии Соединенных Штатов по гражданским правам недавно сказал мне за обедом (если только я правильно его понял), что расовая ненависть чернокожих — это явление из прошлого Америки. Я ответил, что он слишком много времени провел в обществе своих коллег по комиссии и недостаточно долго общался с детьми из общины, располагавшейся в нескольких кварталах от ресторана, где мы сидели. Затем я рассказал ему историю одного из этих детей, темнокожего футболиста по фамилии Демонт; будучи подростком, он играл в командах, которые я тренировал. Сейчас, когда я пишу эти строки, он начинает свой последний учебный год в колледже. Однажды, когда мы играли на турнире во Франции, заполненный европейцами стадион радостно приветствовал присуждение ему приза как самому ценному игроку. Но, проводя игры на полях разных городах моего штата, я неоднократно слышал, как Демонту адресуются оскорбительные расистские эпитеты. Родители игроков команд соперников насмехались над ним и наконец под69 били своих сыновей «вышибить его», то есть нарушить против него правила так, чтобы травма помешала ему продолжить матч. Его недостатком была грубая, бесшабашная игра. Один мой товарищ, живущий в другой части округа, говорит, что чернокожий игрок из его команды сталкивается с таким же обращением. Мой товарищ учит своих белых игроков говорить: «Да, мы в нашей команде все ниггеры». Сегодня многие консервативно настроенные интеллектуалы искренне верят, что активисты движения афроамериканцев выдумывают белый расизм, чтобы улучшить свои позиции в обществе, зараженном разностью культур. Они полагают, что единственная форма расизма, сохранившаяся в американском народе, живет в сердцах этих активистов и тех граждан, которых им удается контролировать. Но эта идея не проходит опытной проверки. Чтобы доказать ее несостоятельность, стоит всего лишь провести какое-то время вне коридоров власти, за пределами мира привилегий, в среде рядовых темнокожих американцев. Под последними я понимаю тех афроамериканцев, которые не являются левыми активистами и не придерживаются крайне правых убеждений. В университете, где я работаю, с афроамериканцами обращаются достаточно хорошо. Тем не менее многим из них есть что рассказать о придирках со стороны полиции. И в других районах этого же города присутствует низший класс, представленный в основном чернокожими и американцами латинского происхождения, но остающийся в основном как бы невидимым для большинства из нас. Не нужно проводить много времени с этими людьми, чтобы осознать, что белый расизм в Америке по-прежнему существует. Американский народ замаран гораздо глубже своими грехами и гораздо ловчее усугубляет эти грехи, чем обыкновенно предполагают интеллектуалы. Но откуда интеллектуалам знать? Мало кто из них — как среди правых, так и среди левых — в наши дни подолгу бывает вне академических и культурных анклавов, полностью населенных такими же людьми, как и они сами. Здесь я намерен уделить пристальное внимание критике «черного национализма», предложенной двумя выдающимися сторонниками демократических идей, а именно Джеймсом Болдуином и Ралфом Уолдо Эллисоном. Пересмотр сочинений этих авторов — хороший способ восстановить наше понимание того, что отстаивали (и против чего выступали) социальные критики, принадлежавшие к демократической традиции в условиях, когда ненависть и остракизм порождали реакции сепаратистского толка. Было бы грубой ошибкой думать, что мы каким-то образом переросли потребность выслушивать то, что они имеют нам сказать. 70 ^ 2. &@­ ]& £ & ¥ «'&^ &@&A¤» Определить некую группу людей как черных означает подменить личности как целое одним качеством — цветом кожи. В использовании такой речевой фигуры, которая в учебниках риторики называется «синекдохой», нет ничего внутренне ложного. Ведь мы не имеем ничего против, когда капитан корабля кричит: «Двадцать парусов!», имея в виду число судов на горизонте, или когда председательствующий «считает по головам», желая определить, имеется ли на заседании кворум. Проблемы начинаются тогда, когда замена обозначения личности указанием на внешний признак влечет за собой вторую подмену — метонимическое сокращение, применяемое с целью обозначить некое свойство, в большой степени присущее всем представителям рассматриваемой группы, свойство, которое, как предполагается, делает их теми, кем они являются в качестве членов группы. Провести такого рода двойную подмену значит создать выводимую привилегию. Привилегия легализует вывод, делаемый на основании видимого наличия некоего атрибута, качества, которым, как мы видим, обладают все члены группы. Этот вывод предполагает существование чего-то еще, что и составляет их общую социальную идентичность. Видимый признак начинает обозначать как обладающую им личность, так и скрытую за ним базовую характеристику, подтверждающую социальную идентичность. Там, где эта базовая характеристика используется для объяснения или оправдания высшего социального статуса, видимый признак выступает в роли эмблематического выражения такого статуса. А там, где базовая характеристика логически связана с низшим социальным статусом, внешний признак играет роль социального клейма. Расизм, как и половой шовинизм, зависит от выводов-ярлыков, которые преобразуют видимые качества человека в клейма, обусловленные низшим социальным статусом группы, путем объяснений и обоснований социальной идентичности, которую данный человек делит с другими людьми. Поскольку национализм не всегда может обозначить социальную идентичность путем удобного указания на видимые телесные признаки, такие как цвет кожи или гениталии, часто бывает вынужден применять культурные артефакты в качестве эмблем или клейм. Скажем, униформа и флаги на поле битвы выступают как эмблемы национальной принадлежности. Звезда Давида служила клеймом в годы господства национал-социализма. Вооружившись подходящим набором марки71 ровок, национализм получает возможность (и часто ее использует) распространять свои собственные клейма как основу для логических выводов. Поскольку маркирующие признаки часто наследуются и тем самым усиливаются, не стоит удивляться влиянию расовых и половых признаков. «Черный национализм» отвечает на унижение черного цвета кожи и превознесение белого цвета не попытками ограничиться видимыми признаками, существенными для белого расизма, а изменением системы ценностей. Наиболее экстравагантные формы «черного национализма» попросту выворачивают систему ценностей наизнанку. Это означает, что в них легализуются выводы относительно белого и черного цвета кожи, прямо противоположные тем, что приняты в социальной системе, основанной на превосходстве белых. Как выразился Болдуин в отношении наблюдения Элайджи Мухаммада, «чувство старо, только цвет новый». В качестве доктрины «Нации ислама» нам предлагается историческое и священное доказательство того, что все белые люди прокляты, что они — дьяволы и вот-вот будут повержены... Но идеологии было отведено очень мало времени, так как аудитории в Гарлеме не нужно доказывать, что все белые — дьяволы. Аудитория была довольна тем, что наконец получила божественное оправдание своего опыта. Слушатели были потрясены тем, что им было сказано: все эти годы им лгали, лгали целым поколениям, а теперь их пленению пришел конец, потому что Бог черный (1). Более умеренная разновидность «черного национализма» воздерживается от простой замены значений белого и черного цветов кожи на противоположные, но видоизменять системы полюсов приходится и здесь. У «черного национализма» нет необходимости прибегать к клевете на белый цвет кожи как таковой, но он как будто бы всегда стремится воспринимать черный цвет кожи как эмблему чего-то достойного уважения или восхищения. Само собой разумеется, что здесь кроется один из источников привлекательности «черного национализма» для чернокожих, которые долго жили под гнетом белого расизма, и эта же его черта помогает нам объяснить его живучесть. Конечно, «черный национализм» во всех его разновидностях поднимает статус черного цвета кожи, но едва ли можно сказать, что этим занимается исключительно он. Мартина Лютера Кинга Мухаммад, Элайджа (наст. фамилия Пуп, 1897–1975) — глава радикальной организации американских негров Нация ислама в 1934–1975 гг. 72 ^ 2. &@­ ]& £ & никогда не называли «черным националистом», но и он использовал идею «негритянства» для поднятия статуса чернокожих. Подобно Элайдже Мухаммаду, он рассматривал черных американцев как народ. Он также представлял черный цвет кожи символом чегото общего для всех черных американцев, чего-то такого, чем они должны гордиться. Весьма похоже, что Кинг занялся общественной деятельностью, откликнувшись на риторику «черных националистов». То же самое может быть сказано и о таких видных критиках «черного национализма», как Болдуин и Эллисон, которые также обязаны критикуемому ими движению больше, чем они осмеливались признавать. Вероятно, Ларри Нил преувеличил размер этих непризнанных долгов, когда в эссе, впервые опубликованном в 1970 году, назвал Эллисона «черным националистом». Дистанцируясь от знаменитого высказывания Эллисона о том, что «стиль важнее, чем политические идеологии», Нил выделил «основной вопрос идентичности» в «Невидимке», неустанный поиск «удобного афроамериканского прошлого», который ведет повествователь, и глубокую погруженность Эллисона в «мрачный мир [афроамериканских] мифологии и фольклора, которые составляют существенные элементы при создании истории народа». Опуская детали, скажем: Нил перешел к утверждению, что «определенная форма национализма активна во всех слоях чернокожего сообщества. Важнейшие политические направления, определяющие содержание ощущений многих современных чернокожих авторов, приблизительно подпадают под категории культурного национализма и революционного национализма» (2). Трудно решить, какие выводы можно сделать из этих замечаний. Примерно с 1970 года дебаты вокруг «черного национализма», хотя порой такие же горячие, как и прежде, редко бывают определенными. Эмоции бурлят, но трудно определить, что же конкретно поставлено на карту. Нередко можно услышать, как два человека яростно спорят, хорош или плох «черный национализм», но при этом не могут даже договориться о том, какую точку зрения каждый из них поддерживает, а какую отвергает. Но если ярый «черный националист» предпочитает одну позицию, тогда как столь же убежденный антинационалист оспаривает другую, то в чем, собственно, их разногласия? Что они отстаивают, помимо противоположных отношений к ярлыку? Определения и теории «черного национализма» имеются в изобилии, но уже само это изобилие заставляет задаться вопросом: есть ли у них что-то, что можно определить, к че73 му участники спора не потеряют интереса и тогда, когда их тезисы станут ясны. Наиболее поучительный способ интерпретирования наблюдений Нила состоит в том, чтобы предположить: они больше говорят нам о том, как видоизменялся «черный национализм» начиная с конца 1960-х годов, чем об Эллисоне. Если Эллисона теперь можно было считать «черным националистом», то и сам «черный национализм» изменился. Становясь более содержательным, он старался канонизировать таких авторов, которые ранее воспринимались как парадигматические оппоненты движения. Что-то происходит с самим понятием «черного национализма». Менялись правила, в соответствии с которыми применялся данный ярлык. Ясно, что в намерения Нила входило использование термина «национализм» в расширительном смысле в качестве умиротворяющего жеста. В процессе сдерживания собственного национализма Нил пришел к тому, что стал видеть меньше своих черт в образе Раса (явленная в «Невидимке» незабываемая карикатура на «черного националиста», изображенного в период крайнего отчаяния). Возможно, в это же время Нил стал видеть в произведениях Эллисона более глубокую озабоченность проблемой статуса черного населения как народа, чем предполагал раньше. Характеристика Эллисона как культурного националиста предполагала, что для того чтобы считаться националистом, интеллектуалу не обязательно разделять надежды революционного националиста на достижение некоторого политического суверенитета афроамериканцев. Но что станет поддерживать культурный националист? Этого Нил не сказал. Поскольку политическая составляющая «черного национализма» утрачивала определенность, движение стало все больше внимания уделять развитию определенного рода воззрений на культуру черного населения. Эллисон отразил своего видение этого развития в великолепном фрагменте своего чудесного эссе «Маленький человек на вокзале Чихо»: Сторонники этнического подхода, подразумевающего зло, скрывающееся за лежащей в основе тревоги, помогли принести на наши улицы и в студенческие городки вкупе с необычной джазовой резкостью откровенно национальной американской пестроты костюмов и ритуалов, оттеняющей их претензии на этническую (и генетическую) изолированность, пьянящую, первоапрельскую, карнавальную атмосферу. Получается, что во многих отношениях устремление к новому общественному порядку, основан- 74 ^ 2. &@­ ]& £ & ное на прославлении крови предков и на апелляции к этническим корням, действует как призыв к культурному и эстетическому хаосу. И тем не менее, когда перед нами разворачивается новейшая, фарсовая сторона драмы американской культурной иерархии, неодолимое движение американской культуры в сторону интеграции самых разнообразных ее элементов продолжается, затемняя смысл велеречивости самых стойких его оппонентов (3). Через два десятилетия «неодолимое движение американской культуры в сторону интеграции самых разнообразных ее элементов» начинает вызывать намного больше беспокойства, озвучивая в мировом масштабе формулировки, продиктованные транснациональными корпорациями, которые горят желанием финансировать диаспоровые идентификации потребителей. Культура, в которую сейчас втягивается стиль «черных националистов», — это та самая культура, в которой исполнители композиций в стиле рэп, романисты и профессора превращаются в блики на экранах, где демонстрируются бесконечные иноформационно-рекламные ролики. Это еще и та культура, в которой потребительские товары всякого рода упаковываются как эмблемы этнических идентичностей и с использованием достижений науки выводятся на подвижные рынки соответствующих демографических анклавов. «Первоапрельская, карнавальная атмосфера» все еще присутствует, более того, становится еще хаотичнее, но сейчас возможно приобрести экипировку эмблематического характера в местном универмаге и абонироваться на программы кабельного телевидения, представляющие многоцветное разнообразие. В интересах деловой элиты трансформировать все формы сознания представителей диаспор в, говоря функционально, одержимость образом жизни в анклавах путем распространения символически оформленных идентификационных знаков. Люди, одержимые идеей купить себе путь к престижу в рамках определяемого в этнических терминах образа жизни анклава, дают деловой элите то, что ей нужно, двумя способами: во-первых, переводят наличные деньги, во-вторых, остаются равнодушными при виде ширящейся пропасти между классом администраторов и профессионалов и низшим классом, состоящим из представителей всех расовых групп. Сегодня многие молодые люди и коммерсанты видят в «черном национализме» образ жизни, который человек в буквальном смысле покупает, приобретая одежду, вызывающую в памяти образ Африки, кроссовки с автографами звезд баскетбола, билеты на фильм 75 Спайка Ли. И подростки, и деловая элита сходятся на том, что в наши дни все в большей степени становится социальной реальностью. Альтернативами культур-национализму как образу жизни могут служить не идеологии, такие как демократический социализм или либертарианский республиканизм, а другие образы жизни, доступ к которым можно получить на тех же условиях, как и тот, при котором мнимые колонисты разъезжают на «ленд-роверах» и одеваются в костюмы из «банановых республик». При этом первый анклав едва ли в большей мере противостоит наиболее мощным угнетающим силам в рамках установившегося порядка, нежели второй. Если тезис Эллисона «стиль важнее, чем политические идеологии» ныне применим — с двойной иронией — к «черному национализму» как таковому, то отсюда едва ли следует, что данное движение постепенно приближается к представлению Эллисона о том, что же придает стилю такую значимость. В высказывании Эллисона выразилась его приверженность этико-эстетическому идеалу жизни: выстроить свою жизнь как произведение искусства; этот идеал, повидимому, ассоциируется у него с фигурами Эмерсона и Дюка Эллингтона. О приверженности такого рода вспоминают сегодня потому, что она вызывает в воображении образ человека, отмеченного печатью индивидуальности, слишком яркой для того, чтобы удовольствоваться вариантами образа жизни, которые выставляет на продажу деловая элита. В ценимых Эллисоном формах социального поведения культивируется индивидуальность, а значит, и сопротивление единству идентичности. В наше время сопротивление единству идентичности является значимой отправной точкой политики сопротивления. Некоторым националистам хотелось бы задним числом канонизировать Эллисона, однако ни «Невидимка», ни сборники эссе Эллисона не вписываются с легкостью в их каноны. Его стиль дает нам средство противостоять наиболее существенным чертам современной культуры, что совершенно чуждо сегодняшней идеологии «черных националистов». Две группы как будто бы проявляют наибольшую настойчивость в попытках определить «черный национализм» в узком смысле. Первая из них — это лидеры радикальных политических сепаратистов; они исполнены решимости сохранить самые экстремистские требования, вошедшие в риторический репертуар движения на наиболее воинственных этапах его развития. Вторая группа состоит из черных консерваторов, настроенных возлагать равную ответственность за упомянутые требования на всех, кто стоит ближе к левому крылу, нежели они сами. Первая группа охотно исполь76 ^ 2. &@­ ]& £ & зует «черный национализм» как символ применяемой ею экстремистской риторики. Вторая группа всерьез старается заставить либералов расплатиться за широту их взглядов, за их терпимость. Преувеличенный «черный национализм» использует настолько возвышенную риторику, настолько недвусмысленно намекает на то, какую опасность он несет, что гипнотизирует обе партии. Их отношение к данной ветви движения — за или против — отражает их обостренную реакцию на пафос. Вопрос, который реально разделяет Нила и Эллисона, состоит в том, в какой степени и каким образом афроамериканцы должны проявлять неравнодушие к своему статусу народа; ведь существуют и другие проблемы (в частности, проблема широкой гражданской нации), также, вероятно, заслуживающие внимания. И ответ на этот вопрос, безусловно, бесконечно важнее, чем решение, какие ответы следует считать националистическими. После определенного рубежа этот термин возникает на пути просто сам собой. Если националисты захотят дать своему «изму» новое определение, чтобы сделать былых оппонентов так называемыми националистами, и если нас это смутит, то мы всегда сможем сделать ответный ход: использовать новое определение в качестве долгосрочной санкции на замену definiens, определения, дефиниции, на definiendum, определяемое. И тогда, уходя от термина «национализм» как такового, когда он покажется нам помехой определенности, мы легко сможем вернуться к вопросу о том, в какой степени и каким образом человек должен проявлять неравнодушие к своему этническому или расовому сообществу в тех условиях, в которых мы сейчас находимся (4). «Черный национализм» сводит воедино разговор о расе и разговор о нации. Этого он достигает благодаря проекту воображаемого национального сообщества, то есть народа, для которого черный цвет кожи — эмблема. Что же есть общего у всех черных американцев, таких, какими их видят «черные националисты»? На этот вопрос давалось много различных ответов. Приведем некоторые из них: а) общая биологическая или онтологическая сущность; б) общая историческая родина, в данном случае — Африка; в) общая история страданий и унижений, обусловленная расовой идентичностью, связанной с ущербным социальным статусом; г) общая культура, в т.ч. музыка, кухня, народные обычаи, легенды и ритуалы; д) общая фортуна, то есть высокая вероятность того, что и впредь всему народу будет уготована одна судьба; 77 е) общая заинтересованность в достижении определенных целей, таких как возвращение на родину предков, политический суверенитет на некоей вновь обозначенной территории, экономическое и культурное самоопределение; ж) общая заинтересованность в применении средств, которые считаются необходимыми для достижения законных целей: массовой эмиграции, революционного насилия, экономического или культурного сепаратизма. Пункты а)—г), в сущности, носят ретроспективный характер и обращены к предполагаемым истокам единства афроамериканцев как народа. Эти пункты можно объединить по тематическому принципу под эгидой благочестия. Все они рассматриваются в рамках «черного национализма» как источники бытия и жизненного пути, от которых афроамериканцы зависят и к которым вследствие этого обязаны обращаться с адекватными выражениями благодарности и верности. Пункт в) является центральным для выражения недовольства. Пункты д)—ж) обращены в перспективу, то есть относятся к будущему народа. Их можно сгруппировать по тематическому принципу под эгидой надежд и устремлений. Цели и средства «черных националистов» сами могут быть разделены на политические, экономические и культурные элементы, которые в разное время получают различные интерпретации, и степень их значимости оценивается по-разному. Наверное, из структуры приведенной схемы очевидно, что она предоставляет нам возможность бесконечно комбинировать основные темы, занимающие «черных националистов», и не предлагает нам критериев, которые позволили бы раз и навсегда вычертить линию, связывающую «черный национализм» с родственными ему течениями. Попытка приписать «черному национализму» неизменную сущность была бы (как и следовало предположить) безнадежно неисторичной. Можно было бы определить тип «черного национализма» в его связи с предлагаемой схемой путем построения подходящей интерпретации для каждого пункта в перечне. Спектр интерпретаций разворачивается от слабых к сильным. В отношении большинства пунктов справедливо сказать: чем четче в той или иной интерпретации подчеркивается отдельность или отличие афроамериканцев от других групп, тем сильнее эта интерпретация. Аналитик, который предпочтет сильные интерпретации всех пунктов, предстанет перед нами крайним националистом. Возможно, однако, приписать некоторым пунктам сильные интерпретации, а другим — умеренные или слабые. К примеру, тот тип национализма, который Нил называет культурным национализмом, предлага78 ^ 2. &@­ ]& £ & ет сильное прочтение пункта г) и сильную интерпретацию культурной составляющей в пункте е), тогда как некоторым другим переменным придаются более слабые значения. На схеме также видно, почему проводимое Нилом разграничение между революционным и культурным типами «черного национализма», пожалуй, запутывает предмет. Понятие революционного национализма основывается на видах средств достижения националистических целей, тогда как антонимичное ему понятие культурного национализма, судя по всему, преимущественно обращается либо к виду националистической цели, которая исчерпывает или не исчерпывает содержание устремлений националистов, либо на объекте националистического благочестия. Нил усугубляет неясность ситуации тем, что рассматривает оба этих фундаментальных типа как «политические ориентации». Он не указывает, являются ли эти типы исчерпывающими, и не говорит, возможно ли, не впадая в противоречие, придерживаться одновременно обеих ориентаций. Он не разъясняет также, какие качества делают культурный национализм культурным, а какие — политическим. Если отличительной чертой культурного национализма является его устремленность к достижению культурных целей (или только культурных целей) политическими средствами, в то время как революционный национализм стремится достичь политических целей (наряду с культурными?) политическими средствами, как тогда квалифицировать попытки достичь политических целей нереволюционными средствами? Нил и авторы других типологий подобного рода предпочитают оставлять этот вопрос без внимания. Как Эллисон, так и Болдуин глубоко интересовались вопросами статуса черных американцев как народа (хотя и не только этими вопросами). Они одобряли концепцию статуса афроамериканцев как народа, в которой упор делался (если обратиться к приведенному выше перечню) на пункты в) — общую для сообщества историю страданий, г) — ценность культурного наследия и д) — общую судьбу. Они отвергали пункт а) — понятие биологической или онтологической сущности. Они признавали, хотя и не в столь большой степени, значимость пунктов б) — понятия общей исторической родины, отделяя его от содержания пункта а) и соединяя его к содержанию пунктов в) и г). В их понимании Африка — это не более чем произвольное, предложенное картографами название обширного, разнообразного в культурном отношении географического региона, на котором живет множество разных народов. Наличие предков, обитавших на земле, которую мы сегодня называем Гамбией, 79 отнюдь не связывает человека с «африканской сущностью», которая в такой же мере должна присутствовать у выходцев из Египта или Алжира. Эллисон и Болдуин такой сущности себе не представляли. Равным образом они не могли вообразить, что в Африке был золотой век. Исторические фантазии сегодняшних афроцентристов стали бы мишенями пародий Эллисона. Болдуин отвергал подобные фантазии более раннего поколения «черных националистов», когда говорил: «Чтобы изменить ситуацию, мы должны прежде всего увидеть ее такой, какая она есть, что в рассматриваемом случае означает принять факт, вне зависимости от того, что мы решим делать с ним далее: негр был сформирован этой нацией [Америкой], к лучшему это или к худшему, и не принадлежит никакой другой — Африке или тем более исламу» (5). Болдуин желал, «чтобы мусульманское движение [т.е. Нация ислама] сумело вдохнуть в деморализованное негритянское население... более индивидуальное ощущение собственного достоинства» (6). Он имел в виду, что качество, которое объединяет афроамериканский народ, не есть обязательно чувство слияния, да и не должно им быть; ведь во всеобщем слиянии в единую массу, лишенную различий, индивид проходит через утрату отдельной идентичности. Члены сообщества не обязаны остро ощущать объединяющие их узы или соглашаться друг с другом в выстраивании высших ценностей по степени их значимости. Им также не нужно представлять себя проводниками общей воли (7). Афроамериканский народ, подобно другим народам, лишь редко и непрочно сплачивался (если такие периоды в его истории вообще были) настолько тесно. Это должно считать благим признаком индивидуальности, которая расцветает в условиях свободы и которую никто не считает нужным подавлять исправительными мерами. Болдуин выступал критиком благочестия «черных националистов». В худших своих проявлениях националисты всего мира изобретают для себя полностью вымышленное прошлое и затем поклоняются ему. Фальсификации эти ощутимы для всякого, кто не оказался в плену коллективного самообмана. «Черные националисты» выдумали немало своих мифов. Болдуин открывал дискуссию с Нацией ислама обстоятельным изложением приобретенного им в молодости опыта общения с христианской церковью, прибегая в то же время к иронии, чтобы дистанцироваться как от своего былого благочестия, так и мусульманского многоцветья Элайджи Мохаммада. Этот риторический прием помог ему использовать свои сомнения в отношении первого, чтобы пошатнуть привлека80 ^ 2. &@­ ]& £ & тельность последнего. «Стоя перед кафедрой, я чувствовал себя как в театре, — вспоминал Болдуин о тех днях, когда был молодым проповедником. — Я находился за сценой и знал, как создается иллюзия» (8). Таким же образом была устроена для нас сцена, чтобы мы смогли увидеть насквозь механизм создания иллюзий в проповедничестве Элайджи Мохаммада. Правда в том, что в начале времен во всей Вселенной не было ни одного белого лица. Черные люди правили Землей, и черный человек был совершенен. Эта правда относится к эпохе, которую сейчас белые люди называют доисторической. Они хотят, чтобы черные люди поверили, что они, как и белые люди, некогда жили в пещерах, раскачивались на ветках, ели сырое мясо и не обладали даром речи. Но это неправда. Черные люди никогда не находились в таких условиях (9). Лекарство от подобных иллюзий, замечает Болдуин в эссе «Роман всеобщего протеста», содержится в честном признании того, что черные и белые американцы, угнетенные и угнетатели, «одинаково зависят от единой реальности» (10). Благочестие Нации ислама, по мнению Болдуина, попросту не может воздать справедливость реальности взаимной зависимости народов Америки. «Невидимку» Эллисона можно читать — на одном уровне — как суровое переосмысление того, чем обязаны (если обратиться к понятиям культуры) черные американцы культурным традициям жизни черной Америки. Именно благочестие как составляющая «Невидимки» побуждает Нила призывать к канонизации этого произведения. Но тот род благочестия, который Эллисон проявляет в отношении традиций своего народа, особенно традиции блюзов, более сложен и тонок по сравнению со всеми формами «черного национализма», действовавшими до сего дня в Соединенных Штатах, и потому, по всей видимости, не может быть этими формами усвоен. Одна из причин этого в том, что Эллисон связывает его с более общей проблемой: чем обязаны — в культурном смысле — все американцы многообразным традициям жизни Америки, как черной, так и белой. Представленное Эллисоном детальное обоснование зависимости от различных культурных источников американской жизни является, по моему мнению, одним из высших достижений нашей литературы. Оно не согласуется ни с какой формой благочестия, основанной на идентификации лишь с одним народом (11). «Черный национализм» — это не только форма выражения благочестия, обращенная в прошлое; это и форма выражения надежд, обращенная в будущее. Эллисон и Болдуин обвиняли его в том, что 81 при втором рассмотрении он оказывается таким же нереалистичным, каким представлялся при первом. Даже относительно неполные формы устремлений «черного национализма» представляются нашим авторам кружевами фантазий. В тех случаях, когда «черный национализм» в Соединенных Штатах выражает себя как нечто большее, чем неопределенные призывы к помощи чернокожих самим себе, их самоуважению и самосознанию, — например, когда в борьбе за некую верно определяемую форму автономии от американской культуры, скажем, за более разнообразную экономическую систему или за гражданскую нацию, — он восстает против определенных трудноодолимых типов реальности. Во-первых, наиболее амбициозные цели «черных националистов», такие как политический суверенитет черной Америки, не могут быть достигнуты никакими известными средствами. Во-вторых, весьма немногие черные американцы пожелают эмигрировать на родину предков, будь то Африка или какой-либо регион Соединенных Штатов, даже если такая возможность каким-то образом им представилась бы. В-третьих, более мягкие формы сепаратизма, будь то экономические или культурные его проявления, сами по себе повлекут за собой такие издержки, на которые согласились немногие черные американцы. Уменьшающаяся значимость политических целей «черного национализма» сегодня проявляет себя в ностальгии по шестидесятым годам. Многие граждане, которых «черный национализм» поначалу привлекал, уже готовы признать, что политические, экономические и культурные устремления, с которых начиналось это движение, нереалистичны. Но тем не менее эти люди неохотно отказываются от самоидентификации с движением. Возможно, причина их нежелания видеть себя отступниками от национализма в том, что они сохраняют прежние устремления в модифицированной форме благих пожеланий. Полностью оформившиеся устремления подразумевают постановку цели, поиск механизмов достижения этой цели и веры в то, что достижение ее возможно. Благое пожелание, напротив, предполагает своего рода сослагательное наклонение, суррогат волеизъявления: если бы обстоятельства сложились не так, как сейчас, а по-другому в некоторых существенных аспектах, то я бы... Благие пожелания современного «черного национализма» придают ему своеобразный оттенок тоски по прошлому положению вещей, при котором первоначальные устремления движения по меньшей мере казались заслуживающими доверия. Если сейчас «черный национализм» в Соединенных Штатах ослаблен очевидно нереалистичным характером его первоначальных 82 ^ 2. &@­ ]& £ & устремлений, то одна из причин того, что этому движению в этих условиях все же удается вызывать интерес и уважение, — его способность выражать недовольство. Некоторые черные американцы, готовые признать приверженность движения поискам форм благочестия ребяческой, а политическую программу движения отталкивающей, все-таки не отворачиваются от цветистых призывов «черных националистов» к выплескиванию гнева, направленного против несправедливости и ненависти. Современных адептов привлекает неумеренная риторика националистов — свойственная низшим слоям безапелляционность, определенность возбуждаемых страстей, фантазии на тему воображаемой мести. Они ищут того, что Ролан Барт называет «избыточной жестикуляцией, доводимой до пределов смысла» (12). Барт здесь имеет в виду профессиональную спортивную борьбу, а не речи Луиса Фаррахана, но многое из того, что он пишет, может быть в равной мере отнесено к последнему. У тех черных, кого увлекает неумеренная риторика Фаррахана, хотя у них и мысли не возникает об обращении в веру его секты, его красноречие, в воображении возникает своеобразный спектакль, который эмоционально воздействует на зрителя более или менее так же, как и борцовский поединок. Продолжая рассуждать о борьбе, Барт пишет: «Перед... публикой разворачивается грандиозное представление Страдания, Поражения и Справедливости. Борьба представляет страдание человека, всячески утрированное при помощи трагических масок... Страдание, возникающее без внятно выраженной причины, не будет понято... В противном случае страдание представляется расцвеченным выразительностью и убедительностью, когда всякий видит не только, что человек страдает, но и, главное, почему он страдает» (М, 19 и сл.). И далее: «Но прежде всего борьба призвана изображать чисто нравственный конфликт, тот, что основан на идее справедливости. Понятие “расплаты” является ключевым в борьбе, и возглас толпы “Отдай ему” в первую очередь означает “Заставь его платить”» (М, 21). Самый отталкивающий аспект риторики Фаррахана, привлекающий, без сомнения, немало внимания, состоит в том, что он превращает в козлов отпущения евреев (13). Говорит Корнел Уэст: «На самом деле средства массовой информации представят дело так, как будто Фаррахан привлекает черное население тем, что он антисемит, и [предположат, что] черное население желает слушать антисемитскую Фаррахан (наст. имя Луис Юджин Уолкот, р. 1933) — лидер Нации ислама до 2007 г. 83 риторику. У меня нет сомнений, что в риторике Фаррахана глубоко заложены элементы ксенофобии, но, как вы понимаете, не в этом причина того, что большинство черного населения приходит слушать его. Они приходят и слушают его, потому что он символизирует смелость. И они не присоединяются к его организации, потому что не видят нравственной цельности, которой ищут» (14). Насколько я себе представляю, смелость Фаррахана заключается в мужестве его богоугодных дел (которые ложатся в основание утверждений о гордости черных), его устремлений (включающих в себя элементы типа «Заставь его платить» в рамках выдуманной мести тем силам зла, которые он себе воображает) и гнева (направленного против вершителей несправедливости, которых он изображает). Стимулируя рост недовольства своей аудитории, достигаемого им благодаря применяемому им приему преувеличения действенности мифических сил зла, он получает возможность предстать перед слушателями более убедительным — в роли воплощения смелости. Но это означает, что «преувеличение действенности и воплощение сил зла» являются важными элементами его представлений, даже если мы решим, что преувеличение гиперболизированной смелости служит главной приманкой для людей, которых слишком долго заставляли ощущать себя покорными и бессильными. Если в этом предположении я прав, то, по-видимому, особого внимания заслуживают два пункта. Во-первых, называние козлов отпущения — необходимый элемент процесса, в котором Фаррахан «олицетворяет смелость» своей персоной. Во-вторых, перспектива стать воплощенным, обрести собственный, обманным путем увеличенный и наделенный ложной силой образ, который может быть частью процесса, когда именование козлов отпущения может стать столь психологически привлекательным для тех, кто в него окунается. Для большинства сидящих в аудитории ассоциирование евреев с козлами отпущения может стать продуктом воображения, вплотную приблизившемуся к санкционированию нешуточного насилия, однако этого едва ли достаточно для того, чтобы выражаемые чувства стали этически приемлемыми. Некоторые чернокожие интеллектуалы, дистанцирующиеся от антисемитизма, тем не менее придерживаются убеждения, что только избыточная риторика поможет нам справедливо отнестись к гневу черных и справедливо описать породившие его жестокости. Очевидно, они надеются, что риторику, навешивающую ярлыки козлов отпущения (белые дьяволы и евреи созданы для того, чтобы 84 ^ 2. &@­ ]& £ & персонифицировать зло, проистекающее из расовой дискриминации), можно отделить от других сторон риторики, от механизмов, предназначенных для того, чтобы выразить всю глубину и масштаб этого зла. Эти люди читают ранние речи Малкольма Икса по той же причине, по какой они читают романы Ричарда Райта: те и другие являются примерами единственно адекватной реакции на исключительно плохое положение дел. Они полагают, что Болдуин и Эллисон, критиковавшие как риторику «черных националистов», так и «романы протеста» Райта за их излишества, попросту не способны адекватно реагировать на опыт страданий и несправедливости, через которые проходили чернокожие в этой стране. Почему читатели ощущают необходимость выбирать между речами Малкольма Икса и романами Райта, с одной стороны, и сочинениями Болдуина и Эллисона, с другой? Было бы вполне разумно держать все эти книги вместе на наших полках и включать в университетские курсы. Они оказывают разное воздействие на аудитории, которые в нем нуждаются. Критики, отвергающие Болдуина и Эллисона, недооценивают предлагаемые этими авторами возможности компромисса с недовольством и неблагоприятными обстоятельствами. Отправной пункт Эллисона в беллетристике состоял в том, что для него «недостаточно» быть рассерженным, представлять ужасные события или ироническое отношение к событиям (15). Свое недовольство он обратил в литературный аналог блюзовой чувственности, которая обитает между трагедией и комедией, заимствуя тональности из обоих жанров. Если читателю кажется, что гнева здесь нет или он неглубок, значит, это не очень внимательный читатель. Элементы комизма привлекаются им в соответствии с правилом: «Чем сильнее напряжение в обществе, тем более сильное комическое противоядие ему нужно» (16). Но привлекаются комические элементы в такой манере, что им не позволяется устранить трагические элементы, которыми они и вызваны к жизни. Комическим элементам в прозе Эллисона придается заведомо компенсационный характер; это означает, что они постоянно находятся рядом с горем и отчаянием, но в конце концов трансформируют и преодолевают их. § &( Сомнения Эллисона в том, что Райт преуспел в своем намерении достичь в своих романах социального реализма, основаны на несоответствии изображаемых романистом условий жизни чернокожих американцев и самим существованием такого писателя, как Райт. 85 В изображаемых им картинах, по всей видимости, не содержалось ничего, что могло бы способствовать развитию личности «столь разумной, творческой или решительной, как он сам [Райт]» (17). Эллисон заключал, что Райт неверно выявил культурные источники своего собственного бытия и жизненного пути. Тем самым Эллисон поставил перед собой литературную задачу: переосмыслить свое социальное положение чернокожего американца так, чтобы протагонист, наделенный даром слова и блюзовой чувствительностью, ведомой ему самому, мог бы ясно выразить эти свои качества. Повествователь «Невидимки» должен был быть «настроенным на тона блюза насмешником над ранами, который включает и себя в обвинение, предъявляемое им к условиям бытия человека» (18). Главная трудность, вставшая перед Эллисоном при придании определенности этому персонажу, состояла в том, чтобы изобразить зло, через которое ему пришлось пройти, и одновременно жизненный путь красноречивого, духовно приподнятого главного героя как производные от одной и той же ситуации. (Такова предложенная Эллисоном трактовка проблемы точки зрения, с которой мы еще встретимся при рассмотрении нового традиционализма.) Этический и политический интерес данной задачи заключается в том, что она требует от писателя обращаться одновременно к причинам гнева, порывам отчаяния и основаниям для надежды в ситуации, в которой находится герой. Неслучайно, что в предисловии Эллисон говорит о своем романе как о «плоте надежды», а в конце романа обращается к «низким частотам» регистра, в котором он «представляет» читателя (19). Что же Эллисон понимал под плотом надежды? Можно подумать, то, что его друг и собеседник Кеннет Бёрк понимал под «структурой ободрения» в следующем абзаце: «Предположим, что я, при моем придирчивом характере, считаю недостаточным только искать вознаграждения за свою придирчивость, вести диалог [писателя и читателя] на тему наших общих бед. Может быть, я должен еще выстроить структуру ободрения для всех нас? Как мне обойти ее в образной системе, чтобы не только самым безжалостным образом ввергнуть нас в ад, но и вывести из него?» (20) На мой взгляд, лучшая социальная критика принимает именно такую форму. Существуют, как я думаю, две причины того, что «черный национализм» выжил. Первая, которую я уже выделял, — это глубина оправданного гнева, для которого «черный национализм» стал 86 ^ 2. &@­ ]& £ & столь удачным выходом. А вторая причина — это всего лишь недостаток политических альтернатив, которые помогли бы бороться с коренной несправедливостью. Обе причины должны быть предметом серьезной озабоченности всего политического сообщества. Успех риторики «черного национализма» отражает тяжесть обид, ответом на которые он явился. Мы позволили себе соскользнуть в порочный круг недоверия, и оттого нам трудно убедить тех, кто отказался идентифицировать себя с гражданской нацией, в том, что идентификация с ней принесет им весомые блага. Единственным полностью адекватным ответом на проявления гнева должно стать устранение порождающей его коренной несправедливости. Однако необходимо заметить, что «черный национализм», как и новый традиционализм, ограничивает возможности создания крупномасштабной коалиции, которая необходима для проведения крупномасштабных реформ. Вне коалиций таких реформ не будет. А не будет реформ — останется и коренная несправедливость. Некоторое время назад Эллисон писал: «Сегодня кровавая магия и кровавое мышление, никогда всерьез не доминировавшие в американском обществе, разрослись среди нас буйным цветом... И пока это будет продолжаться, призыв к достижению правильного определения американской культурной идентичности не получит ответа» (21). При этом мы все вовлечены в социальные договоры, которые принуждают обездоленных всех рас и наций поглощать — если вообще оставляют что-либо на их долю — кучи образов, знаков и прочей шелухи, что притупляет чувствительность несчастных. Но что же нам делать? Какие у нас есть альтернативы? Говоря о том, какие реформистские политические движения пятидесятых-шестидесятых годов дожили до первых лет нового тысячелетия, необходимо помнить, какова природа новой атмосферы. Коммунизм выпал из общей картины в силу очевидных причин — глобальных политических перемен и собственных чудовищных внутренних несправедливостей. «Черный национализм» вроде бы адаптировался к новым условиям, отчасти благодаря тому, что позволил трансформировать свои устремления в благие пожелания и претензии на лучший образ жизни. В доктрине левых демократов толика благих пожеланий присутствует, но отсутствует согласие относительно того, как улучшить положение дел. Что до аспекта образа жизни, то в нем присутствуют идеи зеленых рюкзаков, черных одежд богемы и громкого тяжелого рока. Его представляют голоса группы интеллектуалов, активистов и рок-музыкантов, чьи образы показались подходящими производителям информационно87 развлекательных программ. Звучит все это радикально, но политический эффект движения остается неясным. Возможно, адаптация к новому таким способом не лучший вариант. Как учил Эллисон, у невидимости есть свои преимущества и недостатки. Кто-то, может быть, находит некоторое утешение в мысли, что раньше дела шли так же плохо или даже еще хуже. Эмерсон, Уитмен и Торо нашли свой особый путь даже в то время, когда споры о сущности демократии вылились в гражданскую войну. Должно быть, волна, на которую столетие спустя Эллисон выпустил свой «плот надежды», показалась людям столь же грозной, грозной настолько, что против нее требуется принять суровые компенсационные меры. На чем же в таком случае основывается его надежда? На конструкции плота и честности его владельца, на месте, где он находился, когда конструировал плот, и на материалах, из которых он свой плот строил. Она основывается также на разнообразных традициях — африканских, американских, европейских, — из которых он добывал свои строительные материалы, а также на всех людях, актах и институтах, пусть непрочных и подверженных заблуждениям; однако все они вдохновляли его и поддерживали при строительстве плота. Все названное является частью нашей сегодняшней жизни. Нам может достаться все то же демократическое наследие, стоит нам востребовать его. Для определения и обновления представленной Болдуином и Эмерсоном критики «черного национализма» ни один религиозный мыслитель последнего времени не сделал больше, чем Корнел Уэст. Его модель общественного участия представляет собой робкую попытку демократической альтернативы скрыто антидемократическим формам традиционализма, ныне обретающим влияние во многих религиозных сообществах. Мы — Уэст и я — примыкаем к интеллектуальной традиции прагматизма, в которой выдающаяся роль принадлежит Эмерсону, Уитмену и Дьюи, равно как и Болдуину, и Эллисону. Но в том, что касается оснований демократической надежды, мы расходимся; я оказываюсь ближе к Эллисону, а Уэст — к таким августинианцам, как Рейнхольд Нибур. Надежда Уэста — результат усилия веры перед лицом фактов, не внушающих надежд. Он говорит, что он христианин, ибо в противном случае сошел бы с ума (22). Его критика строится на пророческий лад — вдохновенный тон, взор, обращенный в будущее, предостерегающий смысл. Его сочинения и речи зачастую несут в себе образы зла и смерти, двух предметов, с которыми, по его мнению, его товарищи из лагеря прагматиков редко сражались с достаточной прямотой. Он гово88 ^ 2. &@­ ]& £ & рит, что мы живем в «сумеречной цивилизации». Этот образ является откликом на образ бесплодной земли у Элиота, но в нем, в отличие от элиотовского, присутствует политическая окраска (23). Комические «компенсации» Эллисона в качестве ответов на существование зла импонируют мне больше, чем элегантные стенания Элиота (24). Первый из авторов мне представляется более глубоким, чем второй. Духовность Эллисона выражает себя в выдержанном в стиле блюза признании того, что хотя ситуация во многих отношениях весьма плоха, задача художника — выработать такой стиль описания частностей, чтобы оставалось место для юмора и надежды. Его художественный прием состоит в том, чтобы представлять читателю основания для надежды и описывать бедствия в едином духе; так ни одна из сторон не вытеснит другую. Настроение, царящее в бесплодной земле Элиота, — это поверхностный оптимизм, стоящий на голове. Это форма отчуждения, и она согласуется с англофилией Элиота и его традиционализмом, которые не обращены к его народу и ищут свои надежды и ценности в некоем ином месте и времени. Я же ставлю на то, чтобы найти именно в народе и основания для земной надежды, и источники зла, которому нам необходимо противостоять. Если социальный критик, уподобляющийся пророку, основывает на религиозный манер свою надежду на источниках, выходящих за пределы нашего общественного положения, то он может испытать соблазн отвергнуть попытку Эллисона выстроить надежду в существующей ситуации, объявив ее излишеством или самообманом. Пророки сверхъестественного Бога, будь то националисты или универсалисты, мусульмане или христиане, не просто поют блюз, когда жалуются на страдания в этом мире, проклинают присущее ему зло и возлагают надежды на высшего избавителя. В их представлении, в существующей социальной ситуации указания на присутствие добра, в том числе и глас самого пророка, всегда исходят из горнего источника. Поэтому пророк легко может соскользнуть к доказательствам того, что мир в сущности своей испорчен, а если так, то пророк не впадает в противоречие, как бы ссылаясь на самого себя. И тогда можно в своей риторике дать полную свободу гневу и отчаянию, поскольку пророк верит, что ожидаемая награда будет иметь принципиально другую природу, и приносит ее всемогу Имеется в виду поэма «Бесплодная земля» выдающегося англо-американского поэта Томаса Стернза Элиота (1888–1965). См.: Элиот Т. С. Избранная поэзия. — СПб.: Северо-Запад, 1994. — С. 107–138. 89 щая сила. Нам знаком тип пророка, который строит свою риторику на том, чтобы подвести себя (и аудиторию) как можно ближе к отчаянию во имя реального взгляда на зло. А затем, переведя дыхание, пророк в последнюю минуту обращается к небу и благодарит Аллаха или Иисуса за дар надежды вопреки надежде. Теологическим противоядием для этой избыточной риторики, во всяком случае, в глазах сторонников основного августинианского направления, всегда была установка на то, что Бог не только создал этот мир, но и сказал, что он хорош. Бог остается его всемилостивым царем, несмотря на временное торжество греха. А если мир в сущности своей хорош, а лишь исковеркан грехом, то правильным откликом на то, что в нем происходит, будет не полное его отвержение, а амбивалентное сочетание одобрения и проклятия. При таком отношении положительная составляющая будет заключаться в непрерывном поиске признаков присутствия божественной энергии творения и спасительного духа в созданиях мира. В лучших своих работах Уэст верно следует этому варианту августинианства, который он усваивал из сочинений Нибура начиная с 1930-х годов. Но кое-где, как, например, в «Будущем расы», он напоминает скорее не Нибура, а Элиота или Райта. Блюзовая чувственность Эллисона, при всех ее заметных отличиях религиозного характера, имеет немало общего с отстаиваемой Нибуром двойственностью, проявляющейся на житейском уровне. Он помнит о присущих стилю пророков преувеличениях и осторожно избегает их в своих сочинениях. В блюзах Эллисона действуют силы добра и зла, силы божественные и сатанинские; они смешиваются как в социальной атмосфере, так и внутри нас самих, и с ними нам приходится иметь дело, призывая на помощь всю доступную нам магию этого мира и ее лирическое обрамление. Избрав этот квазирелигиозный взгляд, Эллисон уже лишился возможности выбора: находясь в плену отчаяния, он должен был искать основания для надежды в рамках существующей общественной ситуации. Его надежды, которые сам он неточно называл «оптимизмом», происходили не из прекраснодушия. Он воспринимал гнев и зло не менее серьезно, чем любой другой американский мыслитель. Лирический взгляд на зло — это не способ игнорировать или минимизировать его. Это способ выживания, путь терпения. Демократическая надежда, пусть и сдерживаемая либо августинианской амбивалентностью, либо блюзовой чувственностью, как у Эллисона, — это надежда на перемены к лучшему, достигаемые демократическими путями. Вопрос надежды сводится к тому, воз90 ^ 2. &@­ ]& £ & можны ли перемены; речь не идет о том, имеется ли в процессе перемен какой-либо прогресс, или способны ли люди пройти весь предстоящий им путь до конца. Вы способствуете переменам уже тем, что успешно действуете против сил, которые стремятся ухудшить существующее положение. Вы способствуете переменам даже потому, что благодаря вашим усилиям положение не ухудшается по сравнению с тем, как оно могло бы ухудшиться без ваших усилий. Если достичь прогресса не получается (а так достаточно часто происходит при установлении демократии), то неудача не должна сводить на нет демократические устремления. Даже в эпохи отката попытки демократических перемен оказывают благодетельное воздействие, если возможна сама мысль об изменениях. А когда ваша надежда основывается на том, что дела должны улучшаться, или на том, что рано или поздно они пойдут как должно, значит, вы заранее деморализуете себя. У представителей нашего поколения нет неопровержимых свидетельств того, что общее положение улучшается или что все, предпринимаемое нами, сработает в исторической перспективе. Однако если вы сосредоточитесь на переменах, то в жизни всего народа надежда обретет свое место. Надежда не единственная сила, способствующая торжеству справедливости. Смелость, воображение, житейская мудрость, великодушие, сочувствие, удача — все эти качества также сыграют свою роль. Но в отсутствии надежды все прочие составляющие бесполезны. И для граждан демократического общества немаловажно обрести веру в «здесь» и «сейчас», каковы бы ни были их разногласия в области религии. Вот в чем состоит задача, общая для как августинианцев, так и последователей Эллисона и Эмерсона. Демократические критики обычно склонны мириться с одними обычаями, социальными особенностями, предписаниями и отрицать другие. Приверженность демократии накладывает на критика обязанность отличать то, что терпимо, от того, с чем нельзя мириться. И все-таки опасность есть, так как критическое различение может совершаться неосторожно, без должного такта, равно как и под влиянием необоснованных предпочтений. И в таком случае акт различения может привести к расколу между гражданами, при котором у одной группы возникнет соблазн отстранить другую от участия в политической жизни. Критикам, исходящим из того, что добро и зло являются нам как нечто единое, не содержащее примесей, и их остается только взвесить на универсальных весах и приклеить к ним ярлык, как это делается с посылками на почте, задача представляется вполне ясной. 91 Нужно лишь назвать каждый тип зла присущим ему именем, встать на сторону его жертв и вступить в праведный бой. Но если как добро, так и зло присутствуют и там, и здесь, если они неизменно смешиваются в моем сердце и в сердцах членов группы, к которой я принадлежу, а возможно, даже и в применяемых мной критериях различения, и то же самое можно сказать и о моих противниках, плутократах или расистах, то оказывается, что задача деликатна и трудна. Демократическая критика начинается на родине, начинается с умолчаний и требований, которые наши союзники скорее всего проигнорируют. Когда мы обнаруживаем недостаток в собственном народе, находим его по большей части «искалеченным, развращенным, полным грубых суеверий и гнилым», и все-таки при этом идентифицируем себя с этим народом, то хотим видеть народ, которому по плечу демократия. Примечательно, что Уитмен и Эллисон говорили столь нелицеприятные вещи о своем народе, и говорили всерьез, в контексте, в целом оптимистическом и ободряющем. Мы не хвалим врачей за глубину их возмущения существованием болезней; мы ценим их за то, что они помогают пациенту жить, и жить хорошо. Нам нужно, чтобы они разумно выбирали методики лечения и чтобы их действия при операциях были точными, чтобы они не работали по принципу «резать как можно глубже». Минимум вреда для пациента — вот первый критерий их успешной работы. И тем не менее мы продолжаем впадать в глупость, когда гордимся глубиной нашей критики и забываем, что демократическая критика, которая служит народу как целому, должна стремиться к тому, чтобы по прошествии дня народу не был причинен вред. Нельзя даже с излишним нажимом проводить границу между друзьями и врагами демократии; в противном случае пострадают цели последней. Отсюда следует, что этика демократии требует: обличение несправедливости должно вестись в сдержанной манере, если мы хотим, чтобы наша критика оставалась демократической. Храбрость и щедрость — ключевые добродетели демократически настроенных интеллектуалов. Если приговор критика обществу носит всеобъемлющий характер, если его разоблачения проникают чересчур глубоко, то будет только справедливо спросить такого критика, каким образом он, человек, принадлежащий к критикуемому им обществу, предполагает оставить приговор без исполнения. Излишне суровая критика разрушает самое себя, как присланная по почте бомба после доставки к месту назначения. Когда критик заходит чересчур 92 ^ 2. &@­ ]& £ & далеко, его оппоненты обоснованно указывают на допускаемые им противоречия, на его неспособность последовательно обосновать свою критику. И тогда у него возникает соблазн отвести упреки, предъявив претензии на перспективы, которых лишено обвиняемое им общество. Но тогда получается, что всякий, кто принимает предлагаемые критиком перспективы, оказывается претендентом на членство в привилегированной группе, стоящей над народом или вне его. А от такой претензии совсем недалеко до антидемократической политики. Для меня само собой разумеется, что наше положение в некоторых отношениях всегда достаточно тяжко, чтобы вызывать беспокойство у человека, наделенного совестью. Сегодня оно тяжко настолько, что способно привести демократа в состояние, близкое к отчаянию. А поскольку обстоятельства в некоторой степени меняются с течением времени, критик поступит разумно, если решит называть их, используя язык, исключающий ханжество или негодование. У меня также не вызывает сомнений следующий постулат, отражающий мое житейское убеждение: если мы всмотримся пристально в те области, которые нам необходимы, то обнаружим основания и для надежды, и для юмористического взгляда на вещи. Этот тезис был применим и к людям, пережившим холокост, и к тем, кто прошел через ужасы рабского труда, так что он должен быть справедлив и для нас. Раз нет никакой добродетели в том, чтобы падать духом, социальный критик должен внимательно наблюдать за внушающими оптимизм переменами и облегчающими душу проявлениями комизма, а не только за предзнаменованиями бедствий. Говоря о позитивных явлениях наряду с негативными, Эллисон стремился уменьшить не насилие, а ощущение безнадежности. Его тезка Эмерсон писал: «Я не желаю обращать свою критику на положение вещей, окружающих меня, экстравагантных настолько, что взгляд на них подвел бы меня к самоубийству или к абсолютной изоляции от преимуществ гражданского общества» (25). 93 Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПОРЕ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОЛОСА РЕЛИГИИ В СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ Кто вы, в самом деле, те, кто станут говорить или петь за Америку? Узнали ли вы страну, ее язык и людей?.. Овладела ли вашими умами Федеральная Конституция?.. Видите вы, кто оставил позади все феодальные процессы и стихи, кто принял стихи и процессы Демократии?.. Что вы несете моей Америке?.. Разве вы не ввезли это — или дух этого — на том же корабле? Разве это не простая сказка? Уитмен ^ 3 РЕЛИГИОЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПОРЕ Многообразие религий, как и многообразие рас, на протяжении всей истории Америки было источником разлада в нации. Большинство американцев считают себя религиозными людьми, но едва ли можно сказать, что их убеждения скроены по одной мерке. Конечно, считается, что их религиозные воззрения в весьма значительной мере сказываются на политике, нам не стоит удивляться, когда оказывается, что наши граждане прибегают к аргументам религиозного характера при обмене мнениями по политическим вопросам. Светски настроенных либералов положение, возникаю94 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § щее в результате возникающих разногласий, глубоко тревожит. Некоторые либеральные интеллектуалы активно призывают граждан воздерживаться от оперирования связанными с религией категориями в политической сфере. Многие приверженцы религии отчаянно сетуют на нежелание либеральной элиты услышать их призывы, выраженные свойственным им языком. В последние годы у них появилось немало оснований для обвинений сторонников секуляризма в лицемерии и непоследовательности. Сегодня свобода вероисповедания воспринимается многими видными теологами как уловка секуляристов, как прием, предназначенный для того, чтобы лишить религию ее значимости. Во второй части этой книги будет предпринята попытка проанализировать сущность этого конфликта мнений. Свобода вероисповедания заключается в первую очередь в том, что гражданин имеет право выражать свою точку зрения при ответах на вопросы религиозного характера. Среди таких вопросов (хотя список и не будет исчерпывающим) — вопрос о том, существует ли Бог, каким образом можно постичь волю Бога и какова ответственность человека (и есть ли она) за его реакцию на волеизъявление Бога. Свобода вероисповедания подразумевает также право гражданина действовать в соответствии с тем, что представляется ему правильным, что подсказывают ему его собственные ответы на религиозные вопросы, — если его действия не наносят ущерба другим людям и не нарушают их права. В числе форм проявления этого права, естественно, нужно назвать отправления ритуалов и других религиозных актов, совершаемых в уединении, в кругу семьи или совместно с единомышленниками. Больше разногласий вызывают действия, иным образом выражающие религиозные убеждения, которые при этом предстают в качестве оснований для публичного изъявления гражданином его позиции при решении политических вопросов. Играют ли какую-либо роль и какую именно, религиозные убеждения граждан при принятии решений политического характера? Свобода выражения религиозных убеждений подразумевается не только в том значении, которое мы придаем свободе вероисповедания, но и в ценности свободы выражения мыслей вообще. Все граждане государства, основанного на конституционной демократии, обладают не только правом выражать мнения, представляющиеся им правильными, но и свободно их аргументировать — каковы бы ни были приводимые ими аргументы. Разумно было бы предположить, что право на свободное выражение религиозных 95 убеждений приобретает особенное значение в политических дискуссиях, поскольку именно здесь правители и представители элит более всего склонны к применению ограничений. Всякий гражданин, решивший прибегнуть к религиозным аргументам для вынесения политических приговоров, должен, по всей видимости, оказаться под двойной защитой: прав на свободу вероисповедания и на свободу самовыражения. И эти права не только юридически являются базовыми в силу того, что они подтверждены Конституцией; они играют немалую роль и в более широком политическом контексте. В противном случае отцы-основатели, творцы Конституции США, не имели бы оснований для текстуального фиксирования их в форме Билля о правах. Я не выражаю никаких сомнений в том, что право на аргументацию религиозного характера должно быть юридически защищено в тех формах, о которых я упомянул. Я готов лишь призвать обладающих религиозным сознанием граждан воспользоваться своими фундаментальными правами и делать это с такой глубиной и детальностью, какие они сочтут пригодными для обмена мнениями о глубоко волнующих их вопросах со всеми нами. Если мы не предоставим им такой возможности, то потеряем шанс услышать — и критически проанализировать — то, что они имеют нам сказать. А они будут вправе усомниться в том, что им оказывается то уважение, которое мы обязаны оказывать всем нашим согражданам. Разумеется, если человек имеет то или иное право, это еще не означает, что он всегда поступит правильно, если им воспользуется. Понятно, что возможны обстоятельства, при которых для гражданина было бы неблагоразумно или чрезмерно самонадеянно отстаивать свои политические интересы исключительно при помощи аргументов религиозного порядка. Однако некоторые философы с этим спорят: по их мнению, такие обстоятельства бывают скорее исключением, чем правилом. Ричард Рорти, наиболее видный современный представитель прагматизма, утверждает, что сегодня делать политические выводы из религиозных предпосылок либо неблагоразумно, либо некорректно, а может быть, здесь применимы оба определения сразу. Покойный Джон Ролз, крупнейший политический аналитик нашего времени, поначалу придерживался таких же жестких взглядов. Позднее он пошел на некоторые уступки свободному выражению мнений, но продолжал считать, что не пристало оперировать аргументами религиозного характера в открытом обсуждении принципов справедливости, если только эти аргументы не подтверждаются в конечном счете аргументами дру96 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § гого порядка. В этой главе я намерен показать, обратившись сначала к работам Ролза, а затем и Рорти, почему их тезисы, выдвинутые ими в поддержку данной позиции, меня не убеждают. Моя цель состоит не в том, чтобы опровергнуть их взгляды, а в том, чтобы подойти к этому вопросу с другой стороны. ^­ §]'&­ ^¤&@­ В многоконфессиональном обществе применение религиозных постулатов часто бывает неэффективным для тех, кто хочет прийти к определенным политическим выводам. Когда среди граждан имеется глубокий раскол в отношении важнейших вопросов в области религии, выводы, сделанные на основании религиозных аргументов, редко получают дополнительную поддержку. А бывает и так, что подобная аргументация не только не находит поддержки, но и вызывает недовольство. Принятие политических решений аргументами, основанными на религиозных постулатах, может явиться и проявлением неуважения к людям, которые данные постулаты не приемлют. К примеру, такая аргументация может нести в себе антидемократический посыл: для того чтобы вообще участвовать в политических дебатах, гражданин обязан принять определенный набор религиозных аксиом. Сегодня в Соединенных Штатах такой посыл нередко направляется атеистам и мусульманам, но и евреи, и католики также ощущают его присутствие в атмосфере. А потому существуют как моральные, так и стратегические основания для сдержанности. Чистота намерений и уважительное отношение к другим — вот наши центральные заботы в нравственной области. С этих вопросов начинает и Ролз. Он рассуждает так: политические стратегии, приводимые в исполнение силой закона, опираются на государственное насилие. Чтобы быть признанным свободным и равноправным гражданином такого государства, человеку — по его запросу — нужно представлять аргументы по вопросам, связанным с политическими стратегиями. Каждый гражданин вправе потребовать разъяснения причин, почему именно он (она) обязан рассматривать предлагаемую политику как легитимную. И в этой ситуации недостаточно рассказать ему, почему другие люди, руководствующиеся своими заранее заданными идиосинкразическими аксиомами и сопутствующими им предпочтениями, пришли именно к такому заключению. И для публичного политика недостаточно продемонстрировать, что он уполномочен объявить выдвинутое предложение легитимным. В голове всякого заинтересованно97 го гражданина возникнет правомерный вопрос: «Почему я должен это принимать?» Чистота намерений и уважение требуют искренних усилий со стороны каждого гражданина, поддерживающего ту или иную политику, для оправдания ее в глазах других рационально мыслящих граждан, которые могут подойти к данному вопросу с других позиций. Пока что все хорошо. Да, можно предположить, что должное отношение к согражданам требует от нас усилий для честного обоснования своих действий. Предлагая некую политическую стратегию, мы должны сделать все возможное, чтобы представить в ее защиту такие аргументы, которые могли бы принять люди, придерживающиеся других взглядов. Я чистосердечно соглашаюсь с данным идеалом — в этой относительно нежесткой формулировке. Но Ролз идет гораздо дальше. Он утверждает, что граждане должны стремиться соответствовать намного более жестким идеалам публичного аргументирования. Такой решительный вариант представлен в первом издании «Политического либерализма», вышедшем в свет в матерчатом переплете: аргументация, которую мы используем на публичном форуме, должна строго соотноситься с идеалами и принципами, которые не сможет отвергнуть на рациональных основаниях ни один рационально мыслящий человек (1). Соглашаясь следовать этим принципам и апеллировать на публичных форумах исключительно к ним, граждане становятся участниками общественного договора. Данный договор определяет честные условия социального сотрудничества как основу справедливости. В соответствии с этой концепцией справедливости мы избрали бы принципы общественного договора как базу социального сотрудничества, если бы находились под «завесой невежества». За этой завесой нам были бы недоступны такие сведения о нас самих, как расовая и половая принадлежность, медицинские показатели, умственные способности, религиозные убеждения и всеобъемлющий моральный облик. Не имея этих сведений, но смотря на мир глазами разумных людей и отстаивая свои интересы в создаваемой системе общественного сотрудничества, мы были бы обязаны избрать честные принципы. Политический либерализм не выдвигает такую концепцию справедливости в качестве составляющей всеобъемлющего морального облика, как религиозного, так и светского. Эта концепция справедливости не включается в доктрину нашего конечного блага, в наш взгляд на смысл жизни и даже в полномасштабном кантианском либерализме Ролза, который философ отстаивает в своей работе «Теория 98 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § справедливости», для нее не находится места. Имеется в виду «свободная политическая концепция», защищаемая в надежде на то, что она может стать и остаться объектом «частичного совпадения взглядов» (overlapping consensus) разумных людей, придерживающихся конфликтующих всеобъемлющих представлений. В таком качестве она обосновывает приоритет честного социального сотрудничества — в той мере, в какой оно может противоречить принятой идее о том, что есть благо. Многие читатели Ролза из числа верующих готовы признать, что в некоторой форме эта завеса невежества была бы полезна для выработки обоснованного понятия честности. Например, принцип, разработанный для регулирования экономической жизни, нам следует выбирать, исходя из того, что мы не знаем, не суждено ли нам в конце концов попасть в число наименее обеспеченных граждан. Принцип, регулирующий дискриминацию при найме на работу, мы должны выбирать, исходя из того, что мы якобы не знаем нашей половой и расовой принадлежности. Это достаточно справедливо. Но критики Ролза давно выражают сомнения в отношении подобного подхода к всеобъемлющим религиозным и философским убеждениям человека. Ролз позволяет людям, находящимся под завесой невежества, иметь доступ к «тонкой» концепции блага, но его критики утверждают, что когда он проводит грань между тонкой концепцией и их всеобъемлющими доктринами, то исходит из собственных либеральных взглядов. Этот посыл лежит в основании двух ключевых тезисов либерализма Ролза: приоритет права над благом и концепция публичного аргументирования в вопросах, которые вызывают нашу озабоченность. Критики замечают, что ни одна из этих ключевых идей не соответствует высоким стандартам, которые Ролз предлагает применять при вынесении суждений, так как обе идеи рационально мыслящий человек вправе отвергнуть на рациональных основаниях. Ролз говорит, что публичная аргументация «является публичной в трех отношениях: аргументация граждан как таковых есть аргументация публики; ее предмет — общественное благо и вопросы фундаментальной справедливости; ее природа и содержание публичны, поскольку ее порождают идеалы и принципы, выраженные в принятой обществом концепции политической справедливости, и она осуществляется открыто на указанном основании» (ПЛ, 213). Предполагается, что публичная аргументация ограничивается дискуссиями по существенным конституционным гарантиям; это понятие не распространяется на политические дебаты по 99 менее масштабным вопросам (ПЛ, 214). Идеал осторожности относится не только к суждениям законодателей и других должностных лиц, но и к аргументации, к которой граждане прибегают, обсуждая кандидатуры лиц, которых они выдвигают на общественно значимые должности, и решают, как нужно голосовать, «когда под угрозой оказываются конституционные принципы и вопросы фундаментальной справедливости» (ПЛ, 215). Эти контексты Ролз и имеет в виду, когда говорит о публичном форуме. Он считает частной аргументацию, используемую в других контекстах, скажем, в университетских лекциях или церковных проповедях. Все эти пункты, с точки зрения Ролза, существенны. Пренебрежение каким-либо из них приведет к тому, что идеал публичной аргументации покажется нам значительно более ограничивающим, чем предполагалось изначально. Обратимся теперь к фундаментальному понятию идеалов и принципов, которые рационально мыслящий человек не может отвергнуть на рациональных основаниях. Что такое «рационально мыслящий человек»? Ролз так отвечает на этот вопрос: «Зная, что люди рационально мыслят в отношении вопросов, касающихся других, мы знаем, что они желают строить свое поведение, исходя из того, что и они, и другие люди обладают общей для всех рациональностью» (ПЛ, 49, прим. 1). Чего требует принцип публичной аргументации от граждан? Чтобы они были рациональны в том смысле, который вкладывает в это понятие Ролз. И все это предполагает, что граждане должны принять общие основания для аргументации, которые другие граждане, движимые сходными побуждениями, не могли бы отвергнуть в силу рациональных соображений. Короче говоря, быть рациональным означает согласиться с необходимостью общественного договора и обоснования его основ, во всяком случае, при защите на публичном форуме базовых конституционных и политических аспектов. Такое определение неявно подразумевает нерациональность каждого, кто устраняется от присоединения к противоречащему их воззрениям общественному договору, не принимая во внимание резоны, которые они могут для себя отыскать. «Люди рациональны в одном базовом аспекте: когда они, между нами говоря, готовы предлагать принципы и стандарты как честные условия сотрудничества и добровольно им следовать, имея гарантии того, что другие будут поступать так же. Нормы, которые они расценивают как рациональные и достойные того, чтобы быть принятыми всеми, и, следовательно, оправданные в их глазах» (ПЛ, 49; курсив мой. — Авт.). «Напротив, люди нерациональны в том же ба100 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § зовом аспекте, когда предполагают вписаться в схемы сотрудничества, но не желают чтить или даже предлагать… какие-либо общие принципы или стандарты для определения честных форм сотрудничества» (ПЛ, 50). Из контекста ясно, что в последней цитате речь идет о тех самых общих принципах и стандартах, которые отвечают требованиям, которые я выделил курсивом в предыдущем фрагменте текста. Обратите внимание, что в соответствии с данным определением гражданина можно счесть нерациональным, даже если он эпистемически вправе — на основании разумных или убедительных причин — считать поиск общей подтверждающей базы ненужным и эпистемологически сомнительным. Ролз полагает: чтобы считаться рациональным, то есть готовым к «социальному сотрудничеству», человек должен находить предписываемый ему поиск общей подтверждающей базы возможным. Моя проблема в том, что я не нахожу такой поиск возможным. Или, выражаясь мягче: я не убежден, что происходящее приведет к успеху. По этой причине мне хочется рассмотреть, возможно ли, чтобы человек был рациональным (готовым к социальному сотрудничеству) гражданином, не веря в свободно выстроенную концепцию справедливости. Ролз быстро переходит от представления фундамента, на котором граждане «обладают общей для всех рациональностью» к заключению относительно того, что только если мы станем приводить нашу наиболее важную политическую аргументацию, выстроенную на этом фундаменте, то сможем выполнить обещание относиться к нашим согражданам честно в вопросах, связанных с применением насилия. А это заключение, в свою очередь, к ограничивающему взгляду на роль аргументации религиозного характера на публичном форуме. Несомненно, в нашем обществе религиозные аксиомы не могут составлять часть фундамента, на котором граждане могут обладать общей для всех рациональностью, поскольку не существует единых для всех религиозных представлений о том, как рациональными средствами добиться согласия по названным вопросам. Религия — предмет, в отношении которого граждане эпистемически (равно как морально, так и юридически) обречены на несогласие. А если так, то из приведенных ранее соображений вытекает, что апелляция к религиозным посылкам при аргументации, относящейся к ключевым политическим проблемам, противоречит идеалу публичной аргументации, первоначально выдвинутому Ролзом. Если смысл общественного договора состоит в том, чтобы образовать фундамент, на котором граждане могут создать общую для всех рациональность, а религиозные посылки не являются составляю101 щей этого фундамента, то вынесение таких посылок на публичный форум автоматически отменяет легитимность всякого предложения, которое должно было опираться на названный фундамент. Мне представляется, что этот вывод разительно противоречит тому, что подсказывает интуиция, стоит лишь принять во внимание, насколько он противоречит принципу свободного волеизъявления, который является воздухом для демократической культуры. Вот что говорит Николас Вольтерсторфф: «Если признать, что самой сущностью либеральной демократии является то обстоятельство, что граждане в равной мере пользуются свободой строить в рамках законности свою жизнь так, как они считают нужным, то как это утверждение может быть в глазах членов либерального демократического общества с необходимостью морально обоснованного воздержания от принятия решений и обсуждения политических вопросов в том ключе, в каком они считают нужным это делать?» (2) Похоже, что на это Ролз отвечает так: если право на свободное выражение наших религиозных убеждений дважды гарантировано Биллем о правах, это тем не менее не есть то право, которое мы вправе использовать, в его сущности, в центре политической сцены, где решаются важнейшие проблемы. А всегда ли подобает гражданам, выступающим на публичном форуме исключительно исходя из религиозных посылок, хотя бы тогда, когда речь идет о фундаментальных проблемах справедливости и конституционных сущностных ценностях? Ролз утвердительно отвечал на этот вопрос в первом издании «Политического либерализма», том, что вышло в матерчатом переплете, но в 1996 году видоизменил свою позицию во «Введении к изданию в мягком переплете», напечатанном в его работе «Идея возвращения к публичной аргументации» (3). Его видоизмененная позиция состоит в том, что разумные всеобъемлющие доктрины, включая доктрины религиозные, «могут привлекаться к публичной аргументации в любое время, при условии, что публичные аргументы в надлежащем порядке, представляемые в русле разумной политической концепции, достаточны для обоснования того, что всеобъемлющие доктрины призваны обосновывать» (ПЛ, li—lii). Согласно данной оговорке гражданин вправе представлять для политических заключений основания религиозного характера, но только в том случае, если он дополняет их аргументами, основанными на общественном договоре. Из пересмотренной позиции Ролза следует, что религиозные основания относятся к основаниям общественного договора так же, как долговые расписки — к законным платежным средствам. Вы не выполнили свои оправдыва102 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § ющие обязательства (justificatory obligations), пока не передали реальные деньги. Эта позиция внушает мне немного больше доверия, чем первоначальный вариант. Она оставляет несколько больше места для таких образцов великолепной демократической аргументации, как выстроенная на религиозном фундаменте риторика аболиционистов и Мартина Лютера Кинга. Но Ролз признает, что ему неизвестно, «выполнили ли вообще оговорку» эти ораторы тем, что все-таки представили аргументы того типа, который был им официально одобрен (ПЛ, lii прим. 27). Так что, строго говоря, с точки зрения Ролза, приговор по этим делам еще не вынесен. Я считаю этот факт мощным аргументом против нынешней позиции Ролза, которая состоит в том, что названные ораторы с трудом вписываются в его критерии, если вообще хоть как-то вписываются. Сомнительное требование соответствовать условиям оговорки в таких случаях говорит мне, что сохраняется некоторое серьезное заблуждение в принимаемом Ролзом подходе. В таких речах должны содержаться два основных типа аргументации, но Ролз оба их считает частными, поскольку они не апеллируют к общему оправдывающему фундаменту. Первый тип, который Ролз называет «декларациями» (ПЛ, 594), проявляется тогда, когда высказывающиеся прибегают к собственным основаниям религиозного характера для принятия того или иного политического предложения. Будучи вечными критиками, они либо стараются доказать, что религиозные воззрения их оппонентов являются негодными, либо стараются рассуждать в позитивном ключе с позиции религиозных постулатов оппонентов и привести тех к выводу, что выдвигаемое предложение приемлемо. Но при этом они не стоят на подразумеваемом общем фундаменте, в том смысле, в котором его понимает Ролз. Он не анализирует эти две формы аргументации сколько-нибудь подробно. Он попросту называет их частными и оставляет в стороне. Он не раскрывает, почему тот, кто в своих высказываниях соединяет эти формы, обращаясь к согражданам по вопросам о конституционных сущностных ценностях, обязательно должен представлять аргументы какого-либо иного рода. Столь же противоречив, а потому неубедителен Ролз в отношении второй инаугурационной речи Линкольна, возможно, наивысшего этического образца политического выступления во всей американской истории. Линкольну ставится в упрек то, что «сказанное им не основывается на конституционных сущностных ценностях или предметах базовой справедливости» (ПЛ, 254). Я не уверен, что это так. В речи поднимается вопрос о том, как нация в условиях во103 йны с собою же по поводу существования рабства может сохранять единство. И Линкольн отвечает: это возможно только при условии, что в тот момент, когда одна из сторон побеждает в войне, граждане и угнетающее их государство не проявляют «злости ни к кому и милосердие ко всем». А это подразумевает действия, направленные на то, чтобы «достичь и взлелеять справедливый и долгий мир». По Линкольну, это с очевидностью предполагает принятие правильной позиции в отношении конституционных сущностных ценностей и предметов базовой справедливости. Как бы то ни было, предположим, что Линкольн обратился к названным предметам прямо, более подробно, продолжая заявленную им ранее тему — существование двух партий, сторонники которых читают одну Библию и молятся одному Богу, которого считают справедливым судьей грешников. Предположим, он высказал присущую ему критическую позицию в отношении фарисейской религиозности, двойных моральных стандартов, и обе стороны приготовились к политическому взаимодействию. Был бы в таком случае религиозный аспект содержания речи Линкольна неподобающим? Оказалось бы, что он произнес частную речь, невзирая на то, что он в качестве президента обращался к народу по самому что ни на есть общественному вопросу? Здесь кроется какая-то глубокая ошибка. Речи Кинга и Линкольна являют собой высокие достижения общественной политической культуры. Они — образчики высокого ораторского мастерства. Аболиционисты в своих выступлениях учили своих соотечественников использовать понятия «рабство» и «справедливость» так, как мы используем их сейчас. Трудно доверять какойлибо теории, которая рассматривает их аргументы как официальные по причинам, о которых речь пойдет ниже. Я не намерен глубоко вдаваться в подробности дискуссий между Ролзом и его критиками (4). Скорее моя цель и в этой, и в следующей главах состоит в том, чтобы определить, что именно отправной пункт Ролза, относящийся к договору, приводит его и других авторов к выводам, противоречащим тому, что говорит нам интуиция. Если мой диагноз верен, то видоизмененный вариант позиции Ролза, пусть и менее парадоксальный, чем первоначальный, не устраняет фундаментальные затруднения, заложенные в его подходе к вопросу. Мой вывод таков: нам необходимо переформулировать вопрос о роли религии в политических дискуссиях в совершенно иных терминах. Трудность лежит, по крайней мере, отчасти, в области эпистемологии. Я подозреваю, что Ролз переоценивает успехи, которых 104 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § можно добиться, рассуждая в рамках воображаемого общего базиса законных принципов, и так получается потому, что при построении своей теории в этом пункте он значительно недооценивает круг идей, которые индивиды, готовые к социальному сотрудничеству, могут отвергнуть на разумных основаниях. И, как я подозреваю, такая ситуация возникает потому, что он недооценивает роль вторичных убеждений в решении человека, что же он может сознательно отвергнуть при рассмотрении фундаментальных политических вопросов. То, что я разумно отвергаю, в некоторой степени зависит от того, каковы мои вторичные убеждения и на какие из них я имею право. Но эти убеждения у разных людей ощутимо разнятся, и не в последнюю очередь потому, что они включают в себя ответы на вопросы религиозного характера и суждения об относительной значимости важнейших ценностей. Наивно предполагать, что весь круг политических вопросов, требующих общественного обсуждения, то есть таких, в которых нам нужна некая политика, останется не затронутым упомянутыми различиями. С этим Ролз согласился бы. Это может быть одной из причин, по которым он считает, что «разнообразие разумных всеобъемлющих религиозных, философских и моральных учений, присутствующих в современных демократических обществах», есть ключевая проблема, к которой должен обращаться политический либерализм (ПЛ, 36). Встает вопрос: почему конституционные сущностные ценности и предметы базовой справедливости не подвержены также влиянию (как было бы разумно предположить) при обсуждении таких фундаментальных принципов? Ведь относительная значимость важнейших ценностей — а религиозные традиции много говорят об этом предмете — также принимается в расчет. Может быть, Ролз захотел бы отрицать это на основании своего тезиса о приоритете права над благом, но и сам этот тезис видится мне как нечто, с чем у эпистемически ответственных людей есть веские причины не согласиться. Я испытываю соблазн поставить точку, сказав, что этот тезис есть нечто, с чем разумные люди были бы вправе не согласиться. Пока что да будет мне позволено использовать понятие «разумный» не в том смысле, в каком его определяет Ролз. В его толковании человек разумен при принятии убеждения или отказе от него, если он «эпистемически вправе» так поступить. Разумные люди — это те, кто ведет себя в соответствии со своей эпистемической ответственностью (5). Я не вижу, каким образом одна эпистемология может последовательно: а) объявлять разумными в данном смысле людей, придерживающихся разных фундаментальных взглядов и б) объяв105 лять неразумными в этом же смысле тех, кто уклоняется от общественного договора. Если правильно а), необходимо признать относительно гибкий стандарт разумности. Но если мы применим тот же гибкий стандарт разумности к людям, которые не соглашаются с общественным договором, то нам будет крайне трудно в то же время оставаться на позиции б). Согласно моей эпистемологии более гибкий стандарт представляется правильным в обоих случаях. Но если мы свяжем термин «разумность» с эпистемическим наименованием и станем применять данный термин в относительно гибком смысле, то нам будет очень трудно признать тех, кто не приемлет общественного договора на эпистемологических основаниях, неразумными. Кажется, по этой причине Ролз упорно держится за свое определение разумности. Смысл его позиции заключается в том, чтобы доказать: разумный человек будет придерживаться общественного договора, который состоит в том, чтобы найти общую базу принципов и твердо ее придерживаться. Но этот прием приводит только к тому, что мы считаем само собой разумеющимся, что сам проект договора об установлении общей базы есть то, что никто не может отвергнуть в эпистемическом значении. Но почему это так? Нам попрежнему нужен ответ на этот вопрос. По-видимому, существуют веские эпистемологические причины для отказа поиска общей базы, и корни этих причин кроются в гибком понимании эпистемического наименования. А это в первую очередь придает основательность доктрине разумного плюрализма. В 1998 году Ролз дал интервью «Коммонуилу», либеральному католическому журналу (перепечатано в СС, 616–622). В нем он спрашивает: как нам избежать религиозных гражданских войн, подобных войнам шестнадцатого века, если не принять его позицию? «Понимаете, я должен оглядеться и спросить: где лучшее предложение, каково ваше решение? И я другого решения не вижу». Далее он говорит: «Люди могут, если желают, извлекать аргументы из Библии. Но я хочу, чтобы они увидели: они должны приводить такие аргументы, с которыми мог бы согласиться всякий разумный гражданин. И опять-таки какова альтернатива?» (СС, 620). Давайте посмотрим, не удастся ли нам ее найти. Из обновленной позиции Ролза вытекает, что было бы заведомо нечестно исходить только из религиозных посылок, выступая на публичном форуме. Возможно, это так, даже в том случае, когда мои эпистемологические подозрения оправдались и оказалось невозможно рассуждать, исходя из принципа, который все граждане 106 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § могли бы на разумных основаниях принять. Но предположим, что это действительно оказалось невозможно — по той простой причине, что у некоторых эпистемически ответственных лиц, стремящихся к социальному сотрудничеству, имеются основания для отказа от каждого предлагаемого ин принципа. Может быть, мы вообще не должны рассматривать вопрос? Может быть, мы должны хранить молчание, когда открывается дискуссия? Как можно требование о молчании в таком случае считать разумным — или, иначе говоря, оправданным? Если уж на то пошло, как можно считать ее честной в обществе, приверженном принципу свободы вероисповедания и свободы выражения? Я не понимаю, как такое может быть. Вольтерсторфф формулирует проблему так: «Для религиозных убеждений весьма многих религиозно настроенных людей в нашем обществе характерен тезис о том, что они должны основывать свои решения по фундаментальным вопросам справедливости на своих религиозных убеждениях. Они не рассматривают альтернативы: поступать так или нет. Они убеждены в том, что обязаны добиваться цельности, единства, интеграции в своей жизни, то есть обязаны основывать свое существование в целом, в том числе свое социальное и политическое функционирование на Слове Божием, учении Торы, призыве и премьере Иисуса и т.п. В их представлении религия не касается чего-либо иного, нежели их социальное и политическое функционирование; она касается также их социального и политического функционирования. Следовательно, требование, чтобы они основывали свои решения и высказывания, касающиеся политических материй, означает необоснованное давление на свободу их вероисповедания» (6). Можно было бы подумать, что представление аргументов религиозного порядка, не подкрепленных обращениями к условиям общественного договора, заведомо является признаком неуважения. Но почему же, в конце концов, это обязательно должно быть признаком неуважения? Допустим, я откровенно объясняю вам, почему я поддерживаю данную стратегию, и при этом привожу аргументы религиозного порядка. Таким образом, я вовлекаю вас в сократический диалог, серьезно воспринимаю ваши возражения против моих религиозных предпосылок и предпринимаю соответствующее усилие, чтобы показать вам, как ваши идиосинкразические предпосылки дают вам основания для того, чтобы принять мои выводы. И при этом я ведь стараюсь оставаться искренним и не манипулировать 107 вами (СС, 594). А раз так, я не понимаю, почему такой подход должен восприниматься как проявление неуважения. Однако при этом моя аргументация не строится на принципах, которые ни один разумный гражданин мог бы отвергнуть на разумных основаниях. Концепция уважения, на которой построено приведенное возражение, представляется небезупречной. Она не учитывает, каким образом человек может выражать уважение к другому человеку, учитывая его особенности (7). Причина того, что Ролз пренебрегает этими способами, в том, что он сосредоточивается исключительно на том типе уважения, оказываемого одним индивидом другому, которое апеллирует к аргументам, приемлемым для всякого, кто является одновременно должным образом мотивированным и эпистемически ответственным. Почему же я не окажу уважения субъекту X, если я представляю аргументы, которые должны побуждать к действию X? (8) Какое значение имеет тот факт, что существуют другие субъекты, Y и Z, которые могли бы на разумных основаниях отвергнуть эти аргументы? Предположим, Y и Z также являются моей аудиторией. Так вполне может быть, если я как гражданин адресуюсь к согражданам, не будучи ограниченным соображениями конфиденциальности. Только это я подразумеваю, когда говорю о «публичном высказывании». Означает ли при этом мое природное критическое отношение к X, что я проявляю неуважение к Y и Z? Нет, так как я могу по-прежнему выказывать им свое уважение определенным образом, предлагая им другие аргументы, те, что соотносятся с их точкой зрения. Сократическое вопрошание — это важнейший инструмент обосновывающего дискурса, равно как и способ проявления уважения к собеседнику как стороннику (потенциальному) справедливости и здравомыслия. Но оно не восходит к уже принятой, общей базе. Создается впечатление, что Ролз чрезмерно увлечен теоретизированием на тему идеализированной формы аргументации и потому не замечает, какая большая роль принадлежит простодушному выражению и природному критицизму — заявлению и предположению — в реальном демократическом обмене мнениями. Природный критицизм — это одна из наиболее широко распространенных форм рассуждения в рамках того, что я буду называть публичным политическим дискурсом, а также одним из наиболее эффективных способов выражения уважения к согражданам, которые придерживаются иных точек зрения. Всякий, кто берет слово, вправе требовать аргументации от других. Если у меня имеется доступ на нужный форум, я могу рассказать всему сообществу, какие резоны побуждают меня принять данное заключение и таким образом 108 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § выразить согражданам, требующим от меня аргументов, свое уважение. Но чтобы объяснить им, почему они могут иметь основания согласиться со мной, учитывая их вторичные посылки Ролз встраивает в свою концепцию «разумной личности» жесткие посылки относительно природы дискурсивного общественного характера. Такая личность по определению готова соблюдать дискурсивные правила воображаемого общего фундамента, обращаясь ко всем сущностным предметам. Но почему мы не должны считать разумной, т.е. готовой к социальному сотрудничеству, проявлению уважения, представлению аргументов, личность, которая рассматривает всякую альтернативу на условиях, ей предлагаемых? Почему мы должны ограничивать себя, подобно Ролзу, поисками общей базы, если существует возможность, что общая база не охватит все сущностные предметы? Я не нахожу убедительных ответов на эти вопросы ни в работах Ролза, ни в сочинениях других сторонников теории договора. Как мне думается, эти вопросы открывают нам, что общественный договор — это, по существу, заменитель коммунитарианского соглашения относительно единого всеобъемлющего нормативного видения, т.е. коммунитарианства бедного человека. Теория договора как будто вынуждена воплотить некую всестороннюю, абстрактную честность или уважение к другим, поскольку она не способна представить этический или политический дискурс диалогически (9). В ней представление об эпистемологическом и социологическом аспектах дискурсивных практик является существенно ограниченным. Вольтерсторфф ставит вопрос немного иначе: «Так называемые коммунитарианцы то и дело обвиняют тех, кто придерживается либеральной позиции, в том, что эти последние идут против сообщества. Хорошо видно, чего они при этом добиваются. Тем не менее методы аргументации в моих глазах служат доказательствами их глубинной невосприимчивости к происходящему. Либералы не стремятся проводить в жизнь политику множественности сообществ. Несмотря ни на что, он стремится к коммунитарианской политике. Он пытается открыть и сформировать соответствующее сообщество. Он считает, что мы нуждаемся в общем политическом фундаменте; он пытается раскрыть и утвердить такой фундамент… Я думаю, что эти попытки безнадежны и ошибочны. Мы должны научиться жить в условиях политики множественности сообществ» (10). Мое сомнение в такой постановке вопроса основано на том, что в ней слишком многое отдается на откуп групповому мышлению. 109 Да, мы имеем множество сообществ в том смысле, что точки зрения многих граждан подпадают под характеристики узнаваемых типов. Некоторые из этих сообществ активно трудятся — на законных основаниях — над достижением консенсуса по вопросам, которые глубоко их затрагивают. Но различия, отделяющие одно сообщество от другого, — это не единственные различия, которые важны в политических дебатах. Существуют также различия, отделяющие индивидов от сообществ, в которых эти индивиды выросли или с которыми в какой-то момент своей жизни соединились. Уважение к индивидам предполагает восприимчивость к способам, которыми индивиды противостоят догмам сообщества. Вольтерсторфф выступает за «консоциальную» (114) модель дискурсивного поведения в демократическом обществе. Такая модель, предусматривающая существование множества дискурсивных сообществ, которые обмениваются аргументами как во внутренних, так и во внешних дискуссиях, выходит далеко за пределы предлагаемой Ролзом модели общественного договора. Но чтобы получить до конца реалистическую картину, нам понадобится обратиться еще к одному слою сложной конструкции. Согласно моей модели каждый индивид начинает свой жизненный путь, имея в своем распоряжении некоторое культурное наследие, источники которого могут быть весьма многообразны. В моем случае такими источниками стали мое обучение в библейской школе, легенды, которые рассказывала воскресными вечерами моя бабушка, и пример пастора, страстно преданного борьбе за гражданские права. Но среди моих источников также раннее постижение творчества Эмерсона, Уитмена и Торо; произведения искусства, романы и музыкальные сочинения, которые приносил в дом мой приверженный богемной жизни старший брат; а еще бесчисленные культурные явления, пребывающие в свободном полете и не являющиеся собственностью какой-либо определенной группы. Было бы попросту неточно сказать, что мои взгляды — это взгляды моей семьи, моих единоверцев или представителей моей расы. Вы не выразите своего уважения ко мне как к индивиду, если объявите мои взгляды продуктом некоей формы коллективного мышления. Консоциальная модель не оставляет места для справедливости в отношении индивидуальности и ее отстранения, возможного в условиях современной демократии. Ролз выводит свою идею публичной аргументации из концепций честности и уважения, которые действительно можно обнаружить в политической культуре современной демократии. Но он разви110 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § вает эту идею так, что она вступает в конфликт с концепциями свободного выражения и фундаментальных прав, которые также принадлежат этой же культуре. И неясно, почему этот конфликт должен разрешиться, если мы примем предлагаемую Ролзом концепцию публичной аргументации (11). Представляется, что точнее будет предположить: человеку в споре следует стараться исходить из посылок, оправданных в восприятии всех граждан, если они видятся ему как разумными, так и возможными, но при этом чувствовать себя вправе следовать в своей аргументации другим стратегиям, если разумными кажутся эти последние. Поступая так, мы будем смотреть на идею публичной аргументации как на туманный идеал, а не воплощать его в форме свода фиксированных правил для публичной дискуссии. Верен довод сторонников теории договора в пользу сдерживания, что оно действительно было бы идеалом, если бы мы были в состоянии разрешать любое возникающее политическое противоречие на базе аргументов, которые никто из нас не мог бы отвергнуть на разумных основаниях. Но не было доказано, что все значимые противоречия могут быть разрешены на базе этого рода, и потому мне кажется, что было бы неразумно думать, что идея публичной аргументации влечет за собой некий всеохватный принцип сдерживания. Ирония здесь заключается в том, что интерпретация идеи публичной аргументации с точки зрения приверженцев теории договора сама по себе будет отвергнута многими эпистемически и морально ответственными гражданами на основании их вторичных убеждений. Теория договора содержит в себе как описательную, так и нормативную составляющую. Описательная составляющая — это перечисление всего, что предусматривается нормами демократической политической культуры. Она отделяет ригористическую трактовку идеи публичной аргументации от разнообразных обязательств, предписываемых названной культурой. Нормативная составляющая обосновывает принцип сдерживания как вытекающий из указанной трактовки. Я боюсь, что индивиды, придерживающиеся религиозных убеждений и принимающие описательную составляющую теории договора как точное воспроизведение того, что предписывают нормы демократической политической культуры, увидят в ней (что вполне понятно) основание для отхода от этой культуры. Почему человек должен идентифицировать себя с демократическим процессом обмена мнениями, если нормы, скрыто действующие в этом процессе, именно таковы, как представляет их теория договора? Я думаю, эта мысль стала одной из главных причин то111 го, что такие антилиберальные традиционалисты, как Стэнли Хауэрвас, Алисдер Макинтайр и Джон Милбэнк, во многом вытеснили Рейнхольда Нибура, Пауля Тиллиха и представителей теологии освобождения в качестве интеллектуальных авторитетов, признаваемых в семинариях, на богословских факультетах и в церковных учебных заведениях, функционирующих в наиболее процветающих демократических обществах. Уже в ближайшее время нам предстоит столкнуться с обратной реакцией традиционалистов на либерализм теории договора. Чем в большей мере взгляды Ролза внедряются в программы юридических факультетов и этические дискурсы, тем сильнее богословские учебные заведения проникаются духом Хауэрваса. Поскольку многие последователи Ролза не читают богословской литературы и не проявляют академического интереса к религиозной жизни народа, то им и неведомо, какую роль стал играть либерализм, основанный на теории договора, за рамками сфер юридической и политической теории. (Некоторые последователи Ролза занимаются религиоведением, но они сейчас ушли в оборону и составляют явное меньшинство.) В наши дни во многих заведениях, готовящих будущих проповедников, исповедуется одна идея: либеральная демократия, в сущности, лицемерит, когда провозглашает свободу вероисповедания. По Хауэрвасу, либерализм — это секуляристская идеология, которая призвана замаскировать стоящую за ней дискриминационную программу отсева того, что верующие свободно могут высказывать публично. Он кое-где имеет в виду, что мы ответим адекватно, если заклеймим свободу и демократическую борьбу за справедливость как «плохие варианты» для церкви (12). На протяжении нескольких следующих десятилетий эта идея будет звучать в бесчисленных проповедях, которые будут услышаны сердцем нации. Ролза огорчало, что Хауэрвас и его союзники склонны игнорировать четкое различие, которое он проводит между либерализмом как всеобъемлющей моральной доктриной и политическим либерализмом в строгом смысле слова; именно последний он старался совершенствовать в последние годы жизни. Обозреватель «Коммонуила» спросил его, станет ли он отрицать, что «создает завуалированную аргументацию в пользу секуляризма». Ролз ответил: «Да, я это решительно отрицаю. Предположим, я сказал, что это аргументация в пользу секуляризма столько же, сколько и аргументация в пользу религии. Взгляните: существуют два рода всеобъемлющих доктрин, а именно — религиозные и светские. Приверженцы религии скажут, что я представляю скрытую аргументацию в пользу се112 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § куляризма, а секуляристы скажут, что я привожу скрытые аргументы в пользу религии. Я отрицаю и то, и другое» (СС, 691f). Но никто не упрекает Ролза в том, что он приводит аргументы в пользу религии. Упреки, предъявляемые ему в равной мере как светскими, так и религиозными оппонентами, сводятся к тому, что он напрасно ожидает, что все критики будут спорить с ним, оперируя его понятиями, которые представляют собой лишь слегка модифицированные варианты тех же понятий, рожденных в рамках его всеобъемлющего светского либерализма. Критики Ролза ставят под сомнение необходимость в своеобразном декоруме, которым либеральный профессор хочет приправить дискуссию. Они также сомневаются в том, что нежелание признавать справедливость как честность в качестве общего фундамента дискуссии является доказательством неразумности индивида. Мне кажется, что эти сомнения не развеялись бы даже в том случае, если бы критики Ролза в полной мере приняли во внимание все различения и характеристики, которые философ внес в свою первоначальную теорию. В частности, преимущество позиции религиозных критиков в том, что внесенные в теорию усложнения все-таки представляются ad hoc и чрезмерно жесткими (13). В одной из последующих глав я рассмотрю вопрос о том, может ли предлагаемая Хауэрвасом критика либеральной демократии считаться примером идеалов христианского милосердия и дружбы, как ее понимал Аристотель; оба эти понятия Хауэрвас ценит как альтернативы либерализму теории договора. При этом я намерен представить ему основания для принятия демократической борьбы за справедливость, основания, которые должны показаться весомыми с его точки зрения, а не только с моей идиосинкразической позиции перфекциониста эмерсонианского толка. Но при этом эти основания не выводятся мной из общественного договора. Они не относятся к общему фундаменту. Корни этих оснований — в его богословских принципах, а стоит ли говорить, что его принципы не разделяются всеми гражданами. Кроме того, я намереваюсь продемонстрировать пример уважительной, искренней, ненавязчивой и имманентной критики. Я слышал, что Хауэрвасу доводилось публично приводить религиозные основания для критики американского милитаризма незадолго до 11 сентября 2001 года, когда он выступал в столице страны перед собранием представителей различных конфессий. На мой Ad hoc — зд.: нарочитый (лат.). 113 взгляд, хорошо, что он это сделал, и при этом неважно, желал ли он удовлетворить требования, представленные в оговорках Ролза. Можно предположить, что в тот день среди слушателей Хауэрваса находились люди, которым были небезразличны новейшие фундаментальные проблемы: имеют ли государства право вести войны в целях самообороны или остается ли в силе конституционное требование к Конгрессу объявлять войны. Эти граждане хотели услышать аргументы из уст весьма и весьма влиятельного пацифиста, а также ознакомиться с их публичной критикой со стороны представителей других точек зрения. Мне кажется, демократия не могла бы найти лучшего воплощения, если бы эти аргументы обсуждались бы лишь за закрытыми дверями храмов и религиозных учебных заведений, где меньше вероятность, что они встретили бы возражения скептиков. Вспомним, что ныне Хауэрвас пользуется влиянием в широких кругах христиан Америки, а значит, он тем более обязан был высказаться публично, чтобы гражданское общество в целом было информировано о содержании и действенности его аргументации (14). А если он когда-нибудь решит выступить перед комитетом Конгресса или высказаться от имени кандидата на политический пост, тем лучше. Рассматривая идеи нового традиционализма, следует не упускать из внимания один фактор: Хауэрвас и его союзники принимают описательную составляющую либерализма теории договора. Отсюда следует, что они принимают эту форму либерализма такой, какова она есть, и считают ее точным отражением того, что составляет этической жизни современной демократии. И в силу того, что они видят в этой форме либерализма верное отображение нашей политической культуры, они не задумываясь рекомендуют нам полностью отвергнуть эту культуру. Я придерживаюсь мнения, что сторонники теории договора исказили содержание этой культуры, неверно истолковав здравый, широко распространенный в обществе, неопределенный идеал как ясное, четкое этическое требование, встроенное в общий фундамент наших размышлений. Если в этом пункте я не ошибаюсь, то новые традиционалисты неправы в том, что они отвергают описанную культуру как неявным образом приверженную основанной на теории договора программе, которую Хауэрвас называет «демократическим управлением христианства» (15). Если мы отвергнем то, что имеется общего у сторонников теории договора и новых традиционалистов, это позволит нам, как я надеюсь, вновь вернуться в полном объеме к вопросу о роли религиозной аргументации в общественной жизни. 114 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § ¤ <&¤ ^^¤ Современные последователи теории договора формулируют вопрос так: «Какие моральные ограничения на обращение к религиозным принципам в политической аргументации в неявной форме заложены в общем фундаменте, установленным общественным договором?» Искомые принципы могут впрямую и не содержаться в философии Канта, но требование выразить их в рамках общего обосновывающего фундамента в модели общественного договора, несомненно, восходят к Канту, причем в формулировке Ролза оно выражено осознанно. Ролз во многих отношениях дистанцируется от Канта, а в некоторых пунктах, судя по всему, ясно видит, чем он обязан экспрессивизму Гегеля и Дьюи. Долг Ролза перед двумя последними философами наиболее очевидно проявляется в его теоретическом устремлении к раскрытию центральных элементов их общей политической доктрины и тесно связанного с ней введенного Ролзом понятия рефлексивного равновесия. При рассмотрении обоих названных пунктов Ролз обращается к идеям, представленным в экспрессивистской традиции, пытаясь трансформировать «кантианский конструктивизм» в «политический конструктивизм», скроенный для удовлетворения нужд политического либерализма. Это теоретическое устремление представляет собой вариацию на тему гегелевского представления о том, что задача философии — постичь мыслью свой век. Доктрина рефлексивного равновесия выражает гегелевскую концепцию диалектической разумности. Но приверженность Ролза метафоре общественного договора и определению «разумного человека», которое он использует при развитии метафоры, свидетельствует о том, что в этом вопросе он остается кантианцем. С экспрессивистской точки зрения, отклонения Ролза от учения Канта вносят улучшения в труды его выдающегося предшественника, но в то же время оставляют его в крайне неудобной позиции — в сущности, на полпути между взаимосвязанными альтернативами Канта и Гегеля. Согласно концепции экспрессивистов нормы являются продуктами социального процесса, в ходе которого члены сообщества приходят к признанию друг друга в качестве субъектов, несущих ответственность за свои действия и убеждения. Рефлексивная практика — вот механизм достижения открытого выражения норм в виде правил и идеалов, рефлексивного равновесия между нормами и другими нашими убеждениями на всех уровнях обобщения. Социальный процесс, в ходе которого нормы рождаются и рождаются 115 в явной форме, имеет диалектический характер. Он предполагает разнонаправленное движение от действия к рефлексии и обратно, равно как и взаимодействие индивидов, выражающих различные точки зрения. Поскольку этот процесс проходит в масштабах времени и истории, те убеждения и действия, от которых личность вынуждена в большой мере зависеть, уже втекли в диалектический процесс как таковой. Гегель считал озабоченность Канта универсально применимыми принципами эпистемологически наивной и скептически рассматривал вопрос о том, насколько адекватен общественный договор, выраженный в экспрессивистских терминах, в качестве модели рациональных обязательств, в неявной форме встроенных в общую политическую культуру. Ролз кратко рассматривает гегелевскую критику теорий общественного договора в «Политическом либерализме» (285–288), где утверждает, что если эта критика могла быть эффективной в отношении некоторых версий общественного договора, она не может быть отнесена к его версии. Однако я не убежден, что Ролз в этой реплике не недооценивает Гегеля, так как он чересчур узко сосредоточивается на прямых формулировках гегелевского комментария к вопросу общественного договора и не обращается к выводам, которые предлагает нам философия Гегеля как единое целое. В «Лекциях по истории нравственной философии» Ролз более подробно останавливается на построениях Гегеля. Но, сосредоточившись в первую очередь на «Философии права» Гегеля, он предпринимает вполне объяснимую попытку следовать строго в фарватере метафизических доктрин Гегеля и в результате уделяет слишком мало внимания гегелевской эпистемологии и гегелевскому изложению концепций, а в его критике философии Канта оба этих аспекта выражены ярко (16). Обратимся к какому угодно виду искусства, спорта или к любой науке (17). Нужно оговориться, что нормы практики, действующие в данный момент времени, ограничивают поведение тех людей, которые участвуют в рассматриваемой практике, представляя им резоны для воздержания от тех или иных поступков, которые физически им доступны. Поведение в рамках социальной практики открыто для критики в терминах норм в той форме, в которой они нам предписываются. Но верность нормам открывает перед нами возможность новаторства, а следовательно, диалектического потенциала трансформаций в сложившейся практике, то есть изменений в ее нормах. В возможности новаторских, модифицирующих практику действий можно усмотреть то, что Брандом называет «парадигмой нового типа свободы, экспрессивной свободы» («Свобода», 116 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § 185; курсив в оригинале). Выдвигая на передний план диалектический процесс, в ходе которого социальные практики и подразумеваемые нормы эволюционируют с течением времени, Гегель как заимствует идеи у Канта, так и идет дальше предшественника. Кант описал принципиальный контраст между ограничениями, которые налагают нормы, называемые им свободой, и ограничениями причинного свойства. Гегель сумел распространить кантову концепцию свободы как ограничений, налагаемых нормами, диалектически описав нормы. Ведь если нормы являются продуктами социальных практик, то типы свободного выражения, ставшие возможными благодаря ограничениям в силу норм, будут различаться в соответствии с рассматриваемыми социальными практиками и с учетом диалектики нормативных ограничений, а также новаторского поведения, проявляющегося с течением времени. Если мы полностью осознаем смысл этого тезиса, то сразу станет неясно, почему мы обязаны ставить нашу социальную и политическую теорию в жесткую зависимость от поисков общего фундамента аргументации в области принципов, которые все «разумные» граждане могут обоснованно принять. Принципы, которые гражданин может обоснованно отвергнуть, находятся в зависимости от его диалектического местопребывания, то есть от социальных практик, в которых гражданин принимает участие, и от исторической трансформации норм жизни. Некоторые из этих практик могут носить религиозный характер, и тогда в них применяется особый тип аргументации, особая лексика и особые возможности экспрессивной свободы. Если верно глубоко диалектическое представление об эпистемическом предначертании, почему мы должны рассчитывать на то, что все граждане, готовые к социальному сотрудничеству, будут иметь причины для того, чтобы принять для себя одну и ту же систему открыто сформулированных норм — вне зависимости от диалектического местопребывания этих граждан? Разумеется, такое возможно и даже может происходить в течение некоторого времени, но субстанция общей этической жизни, согласно Гегелю, не содержится в открыто сформулированных абстрактных нормах, вытекающих из диалектического процесса, в ходе которого мы стремимся достичь рефлексивного равновесия. Она заключается в бесчисленных наблюдениях, материальных предпосылках, действиях и взаимно опознаваемых реакциях, которые составляют диалектический процесс как таковой. Это обстоятельство, пусть хотя бы и в малой мере, влияет на каждую дискурсивную акцию каждого из говорящих. Абстрактные нормы часто оказыва117 ются ошибочными или неудачными попытками открыто сформулировать скрытое содержание этической жизни людей. Более того, они на целый шаг отстают от диалектического процесса: сова Минервы вылетает в сумерках. Можно взглянуть на вышеизложенное под другим углом: рассмотреть две существенно различающиеся концепции разумной личности, которые мы обнаруживаем в кантовской и экспрессивистской традициях. В парадигме Канта разумный человек — это индивид, готовый согласиться с правилами, с которыми по убедительным причинам согласны все прочие индивиды, действующие с той же мотивацией. В концепции Гегеля подразумевается, что это индивид, готовый участвовать в обмене дискурсивными актами, представляющими любые точки зрения, которые он может признать принятыми ответственно. В представлении экспрессивистов серия актов обмена не должна обязательно основываться на едином общем фундаменте, предписанном всем; в ней находится место и импровизированному выражению личной точки зрения, и, следовательно, критике собеседников. Предполагается, что разнообразные импровизации и содержащиеся в них критические суждения, то есть разнообразная лексика, могут быть применены к любому участнику диалога. Единственное условие, с которым разумная личность может в большей или меньшей степени считаться, — это необходимость передавать какой угодно свод правил и понятий, которые выдающийся философ назвал требуемыми для нашего обычного использования разума. Смысл содержащегося в теории договора понятия сдерживания состоит в том, чтобы обеспечить всем нам гарантии против незаконных актов силового вмешательства со стороны правителей и наших сограждан. Это есть вопрос негативной свободы, свободы от чего-то. При этом у нас есть веская причина считаться с данным типом свободы при заключении открытых для нас политических соглашений. Но существует и другой тип свободы, который мы должны поддерживать и защищать. Речь идет о свободе выражения. И в силу этого нам приходится ставить под сомнение целесообразность принятия предлагаемой Ролзом программы сдерживания. Свобода выражения позитивна, она позволяет осуществлять трансформацию себя самих и наших социальных практик путем диалектических нововведений и наблюдать их последствия. Серьезное отношение к свободе выражения означает нашу способность участвовать в аргументации, в том числе по вопросам этики и политики, и эта аргументация не должна сводиться к простому соблюдению правил, ко118 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § торые ни один разумный человек не может отвергнуть. Разумный человек, как его понимал Гегель, есть тот, кто всегда пребывает в процессе преобразования выводимых путем заключений нормативных концепций, имеющихся в его распоряжении, когда применяет их к новым ситуациям и задачам. Метафора общественного договора чересчур статична и потому не может считаться адекватной моделью названного процесса. Повидимому, сторонники теории договора ищут способ идентифицировать формы социального сотрудничества, чтобы заранее зафиксировать их выводимое путем заключений значение; и тогда дискурсивный обмен будет концептуально (и социально) стабильным. Нормы в этом случае будут считаться установившимися, и мы будем применять их только в рамках одобренных процедур совещательного диалога. Этот подход аналогичен тому, который использовал Гегель в своей критике теоретической философии Канта, говоря о способности к пониманию (Verstand) и отдавая при этом предпочтение более гибкой, прагматичной, импровизационной способности к аргументации (Vernunft), которую он весьма правдоподобно ассоциирует с понятием духа (Geist). Брандом описывает разницу между Verstand и Vernunft таким образом: «Концепты понимания, сформулированные в терминах категорий Понимания, видятся фиксированными и статичными. Понимание развивается лишь в оценке суждений как истинных и ложных, то есть в отборе внутри системы заранее представленных правильных концептов, которые будут применяться в каждом конкретном случае. Но Гегель хочет доказать, что если человек игнорирует процесс развития концептов, из которых развиваются другие концепты, если он не принимает в расчет скрытые в них силы, это приводит к их трансформации (то есть к тому, что Гегель называет «негативностью»), и тогда заложенное в них содержание неизбежно оказывается непонятным» (18). Я утверждаю, что эта же идея справедлива для гегелевской критики практической и социальной философии Канта. Теория общественного договора являет собой попытку сдержать концепты, содержащиеся в этическом и политическом дискурсе в интересах стабилизации общественного порядка. Приверженцы этой теории надеются разрешить базовый вопрос относительно честных условий социального сотрудничества так, чтобы процесс совещательного дискурса проходил в рамках стабильности, основанной на договоре. Теория договора мыслится как альтернатива двум опасностям: 119 коммунитарианской угрозе автономии индивида, обеспечивающей стабильность, но неверными средствами, и анархической угрозе войны всех против всех, при которой стабильности не будет вообще. Социальная стабильность должна быть достигнута путем фиксации условий социального сотрудничества, концептуальной рамки, которая подразумевается в понятии разумной личности. Неудивительно, что практическое выражение теории общественного договора приводит к возникновению программы общественного контроля, становится попыткой обеспечить моральное сдерживание дискурсивного обмена мнениями, при котором в расчет берутся только те люди, кто желает рассуждать на основании общепринятой системы установленных правил, рассматриваемых как разумные. Гегель хочет избежать такого оборота событий и потому дает определение «разумности» в терминах диалектики свободы выражения. Теперь читателю должно быть понятно, почему экспрессивист демократического толка никогда не станет видеть в выступлениях аболиционистов, второй инаугурационной речи Линкольна и проповедях Кинга своего рода долговые обязательства. Дело в том, что экспрессивист рассматривает демократический дискурс как диалектический процесс, в котором парадигматические установки на «разумность» приводят либо к радикальным инновациям в укоренившейся прежде нормативной лексике, либо к созданию особенно памятных образчиков речевой добродетели. Они имеют парадигматический характер, поскольку продвигают вперед «разумность» и оказывают некое (устранимое) влияние на применение соответствующих концептов в будущем (19). Любое отношение к ним как к чему-то малосущественному, чему-то меньшему, нежели парадигматические установки на «разумность», только лишь из-за того, что они не соответствуют абстрактному понятию о содержании дискурса, следует отвергать. По словам Брандома, «Кант ведет двухфазовое повествование, согласно которому один род деятельности устанавливает концептуальные нормы, после чего в другом роде деятельности они применяются. Вначале рефлексивное суждение (каким-то образом) вырабатывает или находит некое окончательное правило, в котором выражается концепция. Потом, и только потом, эта концепция может применяться в определяющих суждениях и выводах, которые и являются конечной целью первых двух “Критик”» (20). Это двухфазовое рассуждение Гегель не приемлет и отрицает его, когда находит в рассуждениях Канта об эмпирических концептах, в его моральной философии и в его теории общественного договора. Геге120 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § левская альтернатива, диалектическая картина предполагает, что теория договора неверна в той ее части, где она утверждает, что что-то вроде общественного договора необходимо как база социального сотрудничества. Наши нормативные концепты не вырабатываются на уровне договора с тем, чтобы затем быть примененными на основе скрепляющего договора. Они вырабатываются в процессе взаимного признания, в котором индивиды считают друг друга ответственными и неявным образом делегируют другим власть следить за исполнением каждым норм поведения. Этот процесс не требует, чтобы общественный договор создавался или действовал (21). Процесс обмена аргументами уже является системой социального сотрудничества, и чтобы стать таковой, ему не нужна помощь формальной структуры в виде общественного договора. Но если без общественного договора можно обойтись, если наши нормы формировались по-разному, то почему мы определяем «разумного человека» как того, кто изобретает общественный договор и живет в соответствии с ним? Почему человек не может считаться «разумным», если он ответственным образом участвует в процессе дискурсивного обмена мнениями, который приводит к обретению рефлексивного равновесия в непрерывных изменениях? Почему бы не взглянуть на этот процесс как на образ жизни, к которому стремятся граждане в демократическом обществе, во всяком случае, в свои лучшие периоды, дабы прийти к более совершенному союзу ответственных личностей, готовых к социальному сотрудничеству? Имеются по меньшей мере три представления, о которых сторонники философии Гегеля не должны забывать, чтобы прийти к приемлемому самопознанию в жизни демократического общества. В наших взаимоотношениях заложены представления о нас самих как гражданах, которые: а) должны обладать равным положением в политической дискуссии; б) заслуживают уважения как участники дискуссии, обладающие своими индивидуальными мнениями; в) имеют личные (возможно, и религиозные) убеждения при осуществлении свободы выражения. При соблюдении условий а) и б) мы получаем основание для принятия идеала, согласно которому было бы правильно на протяжении большей части времени рассуждать, исходя из широкого круга обоснованных принципов в политической области. Но поскольку в условии б) акцент делается на различии точек зрения, с которых индивиды выступают в дискуссии, у прагматика не возникает желания выстроить идеал как абсолютное требование вести дискуссию на основе общего фундамента принципов. Если же мы теперь интерпретируем условие в) в терминах 121 диалектики нормативного сдерживания и внедрения новшеств, то было бы разумно ожидать, что разнообразные типы жестких решений нам придется принимать в процессе развертывания диалектики. Применяя нормативные концепты, участники обмена мнениями смогут эффективно решать, какие механизмы социального и политического сдерживания нужно использовать с целью обеспечить, помимо всего прочего, свободу выражения религиозных воззрений граждан. Прагматические экспрессивисты принимают постулат Канта: если должна быть свобода, то должны быть и ограничения. Но они не соглашаются с двухфазовостью теории общественного договора, то есть тезисом о том, что для того чтобы установить какие-либо ограничения, мы должны прежде зафиксировать условия социального сотрудничества в форме договора, а затем просто следовать общим для всех правилам. Они также полагают, что центральной проблемой социальной и политической дискуссии является проблема, какие формы свободы выражения мы, как индивиды и как общественная группа, желаем отстаивать и иметь. Возможных форм свободы выражения бесконечно много. Мы предпочитаем одни из них другим не путем подписания общественного договора, а скорее путем воплощения в жизнь одних социальных практик, а не других, через наше непосредственное участие в них и через установление их институциональных форм. Но, как показывает Брандом, экспрессивистский метод формирования социального и политического диалога «даже не дает старт решению вопросов, связанных с компромиссами между различными видами негативной и позитивной свободы» (22). По этой причине экспрессивизм стал излюбленной формой непримиримого противостояния либерализму теории договора. В важнейших вопросах о том, какие социальные практики избирать, экспрессивисты резко разошлись. Одну часть спектра представляют эмерсонианцы, другую — традиционалисты. Эмерсонианцы, высоко ценящие возможности для нововведений, склонны использовать свободы, гарантируемые Первой поправкой, для осуществления нестандартных типов поведения и воплощения типов духовной индивидуальности, которые они защищают. Традиционалисты же выступают с позиций экспрессивизма более жестко. Они говорят, что высшие формы этической и религиозной самореализации возможны только в рамках нормативного сдерживания и относительно строгих канонов установившихся общественных практик. Экспрессивисты этого типа иногда склонны вводить более или менее серьезные ограничения на выражения инакомыслия в рели122 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § гиозной сфере, чтобы насладиться плодами свободы выражения и духовной исключительностью, а это возможно лишь в границах религиозно однородного сообщества. В Соединенных Штатах подобные предложения не получили широкой поддержки, но их более умеренные вариации, в которых предлагается уменьшить пропасть между церковью и государством, а не устранить ее совсем, обретают под собой почву. Одно из возражений против предложений традиционалистов, звучащее в американском обществе, заключается в том, что относительно жесткое разграничение полномочий между церковью и государством и широкая свобода выражения религиозных убеждений хорошо вписываются в политическую культуру, которая была в значительной степени сформирована иммигрантами, бежавших от жесткой религиозной ортодоксии. Другой аргумент против традиционализма — полномасштабное религиозное многообразие, утвердившееся в этом обществе. Приверженцы традиций меньшинств, в том числе и те, кто, подобно мне, относят Эмерсона, Уитмена и Торо к числу величайших духовных авторитетов в области свободы выражения, имеют все основания возражать против ограничений публичного выражения мнений, не совпадающих с взглядами большинства. Можно надеяться, что в обозримом будущем их ожидает успех. В свою версию прагматизма я включаю важнейшие темы, затронутые Гегелем в его критике Канта. Это означает, что я соединяю диалектический нормативный экспрессивизм Гегеля с эмерсонианской убежденностью в том, что наиболее существенные духовные плюсы, порождаемые свободой выражения, можно обнаружить в той форме общественной жизни, в которой существование демократической индивидуальности рассматривается как позитивная ценность. Как мне представляется, это сочетание идей впервые было осуществлено в трудах Уитмена и Дьюи. Гегельянская составляющая моего прагматизма имеет много общих черт с вызывающими наибольшее доверие формами нового традиционализма. Среди того, что объединяет меня с новыми традиционалистами, — акцент на важности самореализации как следствия свободы выражения и на диалектическом понимании социального базиса нормативов. Руководствуясь основаниями гегелевской теории, я солидаризируюсь с традиционалистским неприятием содержащейся в либеральной теории договора программы сдерживания. Но я не вижу в недовольстве сторонников теории договора повода для моего собственного отказа от демократических упований и свобод. Концепция традиционалистов, основыва123 ющаяся на том, что определенная религиозная традиция, по существу, исходит из того, что общество добродетели торжествует над окружающим его грешным миром, видится мне чрезвычайно сомнительной, равно как и исполненной излишней самоуверенности. Я не предлагаю заменить основанную на теории договора программу сдерживания предлагаемой традиционалистами альтернативной программой иных мер сдерживания, как правило, призванной поддерживать патриархальную ортодоксию как противовес выдвигаемой либеральной профессурой идее дискурсивного декора. И наконец, я возражаю сторонникам теории договора и новым традиционалистам по наиболее важному пункту, который защищают те и другие. Они в отличие от меня утверждают, что политическая культура, лежащая в основании нашей демократии, неявно подразумевает применение на политической арене регулирования или самоцензуры при выражении религиозных воззрений. Если прав Ролз, то теория договора может содержать и такое требование. Но описательная составляющая его интерпретации теории договора представляет собой лишь один из конкурирующих вариантов анализа того, что включает в себя этическая жизнь в демократическом обществе. Если же рисуемая Ролзом картина искажает действительность, то мы вовсе не обязаны автоматически следовать общественному договору, представляемому нам в этой картине. Эта картина не доказывает справедливости аргументации сторонников теории договора в пользу сдерживания и не предоставляет традиционалистам резонов для того, чтобы отвергать описываемую политическую культуру. В данном аспекте наша политическая культура предстает в более достойном свете, чем ее хотят представить ее главные защитники и очернители. Судя по тому, как ведут себя члены нашего общества, они более привержены идее свободы, более существенной, позитивной свободы, чем предполагают теоретики. В ходе исторического процесса они не сдерживали себя так, как предлагают им сторонники теории договора. Поэтому Ролзу было непросто приводить примеры из истории. Аболиционисты не сдерживали себя так, как он требует. Этого не делал Линкольн. И Мартин Лютер Кинг. И Дороти Дэй. Не делает этого Розмари Рэдфорд Рутер. И Уэнделл Берри. Кроме того, многие члены нашего общества будут весьма активно противостоять любым попыт Дэй, Дороти — основательница католического движения в Америке. Рутер, Розмари Рэдфорд — американская феминистка, деятель экологического движения. 124 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § кам традиционалистов утвердить ортодоксальные барьеры на пути стихийного демократического обмена мнениями. Взять в свои руки больше власти. Теперь позвольте мне подвести итог моему толкованию наших неписаных норм использования аргументов религиозного характера в политических дискуссиях. Во-первых, я намерен заявить, что идеал уважения к согражданам не во всех случаях требует от нас вставать на позицию, оговоренную в общем оправдывающем фундаменте, то есть в числе принципов, которые ни один правильно мотивированный человек не может отвергнуть на разумных основаниях. Во-вторых, я хочу рекомендовать смешанную риторическую стратегию выражения личных (возможно, идиосинкразических) резонов для принятия политической линии и в то же время для ведения справедливой, ненавязчивой, искренней, исходящей из внутренних убеждений критики доводов оппонента. Такая форма проявления уважения является не только общепринятой, но и легко распознаваемой. И в-третьих, я хочу обратить внимание читателей, как это делают новые традиционалисты (а также такой либерал, как Стивен Маседо), на значимость добродетелей, которые руководят гражданином в процессе дискурсивного обмена мнениями и принятия политических решений. Существуют люди, которым не свойственны благожелательность, способность непредвзято прислушиваться к другим, желание следовать принципам справедливости, избегать без надобности искушений принимать и наносить обиды и практическая смекалка, которая позволила бы им различать тонкие моменты, возникающие в ситуации дискурса. Есть среди нас также люди, которым не хватает мужества, чтобы высказываться откровенно, такта, не позволяющего впадать в лицемерие, самообладания, предохраняющего от поспешных возражений на неожиданные аргументы, и скромности, побуждающей просить прощения у незаслуженно оскорбленных граждан. Такие люди едва ли готовы должным образом представлять свои доводы, каким бы ни было их содержание. Когда возникнет ситуация предъявления соображений религиозного характера, обладающий добродетелью гражданин, вероятно, избежит даже наиболее очевидных ловушек. Мне неизвестна какая-либо система правил, регулирующих поведение граждан в таких ситуациях. И поэтому я советую гражданам поддерживать такие добродетели, как демократическая свобода высказывания, справедливость и — говорить то, что вам угодно (23). 125 ­­ ­ ^­ ¤A¤ ^? (заголовок ?) Предлагаемая сторонниками теории договора программа сдерживания носит моралистический характер. Аргументация, представленная Ричардом Рорти в его работе «Религия как тормоз диалога», является прагматической (24). Автор утверждает, что публичное выражение религиозных постулатов вполне может завести в тупик потенциально продуктивный демократический диалог. «Главная причина того, что религия обязательно должна быть переведена в область частной жизни, состоит в том, что в ходе политической дискуссии с теми, кто находится вне пределов соответствующего религиозного сообщества, она оказывается тормозом диалога». По поводу ситуации, в которой кто-то из участников дискуссии оперирует постулатами религиозного характера, Рорти говорит: «Последующее молчание маскирует побуждение членов группы сказать: “И что же? Мы не обсуждаем вашу частную жизнь; мы говорим о вопросах публичной политики. И не мешайте нам, обращаясь к предметам, которые находятся вне нашей компетенции”» (РТД, 171). Если мы хотим, чтобы диалог продолжался, то у нас есть основательная причина для исключения выражения религиозных постулатов из публичной политической дискуссии. Доводы Рорти несколько напоминают доводы сторонников теории договора, когда он высказывает одобрение того, что называет «Джефферсонианским компромиссом Просвещения с религией» (РТД, 169), и эпистемологии, которую усматривает не только у Дьюи и Ч. С. Пирса, но и у Ролза, и Хабермаса (РТД, 173). По его словам, содержание джефферсонианского компромисса состоит в том, что мы должны ограничивать диалог рамками постулатов, которые являются общими для всех нас, и тем самым исключить использование религиозных тезисов. Но Рорти не идет дальше в своих рассуждениях об универсальных принципах, в отношении которых он высказывал сомнения в других работах. Итак, джефферсонианский компромисс предполагает выполнение той же программы сдерживания, что и теория общественного договора, но при этом не подразумевает для нее того же эпистемического статуса и не выражается в том же моралистическом тоне. Остается неясным, почему Речь идет о взглядах выдающегося американского просветителя Томаса Джефферсона (1743–1826), 3-го президента США (1801–1809). Пирс, Чарльз Сандерс (1839–1914) — американский философ, родоначальник прагматизма и основатель семиотики. 126 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § в этом контексте образцовыми эпистемологами предстают Ролз и Хабермас. Рорти не говорит о том, что использование религиозных тезисов в публичном диалоге противоречит универсально признанному принципу уважения; он говорит, что это будет проявлением «дурного вкуса» (РТД, 169). Этот аргумент едва ли можно назвать наиболее серьезно разработанным вкладом Рорти в анализ общественной жизни, но, на мой взгляд, он представляет собой более точное отражение нашей политической культуры, нежели то, что предлагает Ролз. В самом деле, мы знаем множество ситуаций, в которых использование религиозных тезисов в политической дискуссии кажется признаком проявления дурного вкуса или опрометчивости высказывающегося. К этому выводу я и хотел подвести читателей, когда в конце предыдущей части говорил о необходимости иметь практическую смекалку и такт. Однако причина того, что обращение к религиозным постулатам при обсуждении вопросов публичной политики часто бывает свидетельством неосторожности аналитика, заключается не в том, что оно противоречит компромиссу, якобы достигнутому между «просвещением» и «религией». Скорее, надо полагать, что в религиозно разобщенном обществе, каковым является наше, во многих вопросах гражданин едва ли может рассчитывать на поддержку своих политических идей путем простого обращения к соображениям религиозного порядка. Верно ли, что религия по своей сущности является тормозом для диалога? Я осмелился бы предположить, что прагматику следует придерживаться такого взгляда: религия в своей сущности не является ничем, а полезность апелляции к религиозным постулатам в политических дебатах зависит от ситуации. Есть только один тип религиозного постулата, который был бы способен прервать диалог, во всяком случае, на какой-то момент; это — воззвание к вере. Можно понять, почему такая тенденция наблюдается в воззваниях к вере, если обратиться к описанию, предлагаемому Брандомом. По мнению этого автора, воззвание к вере представляет собой акт познания, не содержащее в себе обозначения приверженности установкам данной веры (25). Если я, находясь в контексте дискурсивного обмена мнениями, обращусь к вере, то позволю тем самым другим гражданам связать мою личность с высказанным тезисом и, возможно, дам им ключ к лучшему пониманию причин, по которым я следую другим когнитивным или практическим установкам. При этом я обращаю свое воззвание к вере в постулат, который другие люди могли бы применить в ходе своих рассуждений. Но я не 127 принимаю на себя ответственности за демонстрацию моей приверженности данному постулату. А если от меня потребуется продемонстрировать такую приверженность, то я смог бы ответить, что это не более чем вопрос веры. Другими словами: «Не спрашивайте меня об основаниях. У меня их нет». Теперь должно стать понятно, каким образом этот распространенный тип дискурса нередко мешает обмену аргументами. Если в критический момент дискуссии открыто признает свою когнитивную приверженность, не заявляя своего права эту приверженность, а далее отказывается приводить дополнительные аргументы в пользу принятия своей претензии, тогда обмен аргументами действительно застопоривается. Но здесь нам нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, претензия может иметь религиозный характер, не будучи при этом воззванием к вере. Можно сделать заявление религиозного содержания и проявить готовность отстаивать его. Многие люди готовы обстоятельно обосновывать свои религиозные убеждения. И поэтому нам необходимо различать проблемы дискурса, возникающие вследствие того, что религиозные постулаты не распространены в обществе широко, и те проблемы, которые возникают из-за того, что люди, придерживающиеся этих постулатов, не готовы обосновывать их. Во-вторых, как показывает Брандом, вера «ни в коей мере не находится в исключительном ведении религии» (ФР, 105). Каждый верит в те или иные принципы нерелигиозного характера и при этом не заявляет, что они истинны. Выражение веры такого рода в форме аргумента и есть то, что я называю воззванием к вере. Можно предположить, что такие воззвания относительно распространены в дискуссиях по особенно запутанным политическим вопросам. Когда такие вопросы обсуждаются, обычно мы можем видеть в обеих противостоящих партиях сторонников жесткого подхода, которые не просто предлагают ответы, но и настаивают на том, что их ответы правильны. Но обычно есть и люди, занимающие среднюю позицию; они готовы определиться со своим мнением, если в этом возникает необходимость, но не станут при этом утверждать, что знают о своей правоте. Так происходит в дебатах об абортах или о проблеме «грязных рук» в борьбе против терроризма. Таким образом, феномен нерелигиозных воззваний к вере достаточно распространен в политическом дискурсе, поскольку формирование политики зачастую заставляет нас занимать позицию, о правильности которой мы не можем заявить чистосердечно. Просто такова сущность политики. 128 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § В этом контексте важно вспомнить о различии между приверженностью тому или иному убеждению и способностью доказать справедливость данного убеждения другому. Даже в тех случаях, когда индивид убедительно выражает свою эпистемическую приверженность религиозным принципам, он не всегда оказывается способен представить аргументы, которые дали бы его собеседникам основания, чтобы принять эти принципы. Изложение таких принципов не будет воззванием к вере в том строгом значении, которое я здесь определил, но оно создаст потенциальный тупик в диалоге. Но и здесь мы сталкиваемся с трудностями того же рода, когда все мы, не только верующие, встречаемся с необходимостью защищать наши наиболее глубокие убеждения, в особенности те, которые пришли к нам опытным путем, а не путем рассуждений. Как правило, мы вправе придерживаться убеждений этого рода, если только они не оборачиваются известного рода проблемами, например, когда они оказываются внутренне непоследовательными или очень трудно совместимыми с новыми идеями, которые мы оцениваем как в высшей степени убедительные. Если причина для исключения выражения религиозных убеждений в том, что оно создает дискурсивный тупик, то следующим справедливым шагом должно стать исключение выражения также и многих нерелигиозных убеждений. Но если мы пойдем этим путем, то, с точки зрения Рорти, будем вынуждены обходить молчанием многие важнейшие вопросы политической проблематики. Рорти допускает, что многие граждане поддерживают политические заключения, выведенные под влиянием их религиозных убеждений. Как правило, такие убеждения являются порождением индивидуальной иерархии нравственных ценностей. К примеру, когда президент Трумэн решал, какую стратегию избрать, чтобы закончить Вторую мировую войну, он оказался перед выбором одной из двух противоречащих друг другу нравственных ценностей. Одна из них — стремление свести к минимуму число человеческих жертв, к которым привела бы его стратегия. Другая относится к колебаниям президента относительно ядерной и обычной бомбардировки гражданских объектов. Когда возникает вопрос, какой линии поведения граждане должны требовать от политических лидеров при разрешении подобного нравственного противоречия, они вправе высказываться свободно. Если группа граждан отдает предпочтение второй ценности перед первой или наоборот, она должна быть свободна при выражении своего мнения. Но когда граждане осуществляют эту свободу, то весьма вероятно, что им придется представлять аргументы. Предположим, что они движимы религиозными представлениями, не рас129 пространенными широко среди их сограждан. Ясно, что некоторые граждане, которыми руководят вторичные убеждения, основанные на разумных основаниях, должны будут отвергнуть представленную им аргументацию. В этом случае перед ними открываются три возможности: 1) хранить молчание; 2) представлять оправдательные аргументы, основанные на уже общепринятых принципах; 3) выражать свои подлинные (религиозные) основания для поддержки предпочитаемой ими политической линии и при этом подвергать сущностной критике взгляды оппонентов. Я не вижу ничего принципиально неприемлемого в варианте 3), в особенности в таких условиях, которые подталкивают граждан к выбору варианта 2). Например, выбор варианта 2) может оказаться трудным или невозможным в силу того, что принципы, предположительно заложенные в джефферсонианском компромиссе, в сочетании с фактической информацией, доступной для общества в целом, не ведут к разрешению вопроса. Правдоподобным кажется предположение, что проблему «нечистых рук» непросто решить именно из-за того, что одни разумные граждане твердо отвергают одно решение, тогда как другие разумные граждане твердо отвергают другое. Но даже если ситуация не такова, понятно, что существуют другие вопросы, которые не могут быть разрешены исключительно на основании общепринятых принципов. Кент Гринуолт убедительно доказывает, что под категорию таких дискуссий подпадают и такие, как вопросы о социальном обеспечении, наказаниях, военной политике, абортах, эвтаназии и защите окружающей среды (26). Поэтому представляется, что из рассуждений Рорти в пользу сдерживания можно сделать такой вывод: нам следует оставить множество важных политических проблем как нерешенными, так и — что еще хуже — нерассмотренными. Вот что говорит Рорти в книге «Случайность, ирония и солидарность»: «У всех людей имеется набор слов, которые они используют для того, чтобы оправдывать свои действия, свою веру и свою жизнь. Это слова, в которые мы облекаем похвалу своим друзьям и неуважение к врагам, свои долгосрочные проекты, глубочайшие сомнения в себе и высочайшие надежды. Этими словами мы рассказываем, глядя в будущее или в прошлое, историю своей жизни. Я назову их ”финальным словарем“ человека» (27). Далее Рорти так раскрывает значение введенного им термина: «Он “финальный” в том смысле, что если весомость этих слов будет по130 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § ставлена под сомнение, у того, кто их использует, не останется ничего, к чему он мог бы прибегнуть. Эти слова — предел того, чего человек может достигнуть в языке; за ними или беспомощная пассивность, или принуждение». То, что описывает здесь Рорти, есть не что иное, как тип дискурсивного убеждения, на которое человек может быть обречен, даже если он не знает, как его защитить. Я не могу вообразить какого-либо способа, который позволил бы запретить людям использовать свой “финальный словарь” — в этом понимании, даже если бы это было желательно, что вовсе не так. Причина религиозности некоторых людей в том, что их словари, при помощи которых они рассказывают историю своей жизни, в том числе и нашей общей политической жизни, имеют религиозное наполнение. Подобно Рорти, они предпочитают молчать, когда от них требуется проводить в жизнь их “финальные словари”. Но если эти словари не становятся резко проблематичными, какой резон людям отказываться от них? Рорти допускает, что есть «лицемерие в словах о том, что верующие почему-то не имеют права основывать свои политические взгляды на своей вере, тогда как мы, атеисты, имеем полное право основывать свои взгляды на философии Просвещения. Утверждение, что, поступая так, мы взываем к разуму, а религиозные люди иррациональны, является жульническим». Он также достаточно реалистичен, чтобы признать: «Религиозные верования или их отсутствие будут влиять на политические пристрастия. Конечно же, будут» (РТД, 172). Так что его высказывания в поддержку джефферсонианского компромисса предлагают признать, что всегда разумно, говоря языком прагматизма, сводить принципы, влияющие на политические дебаты, к общепринятым убеждениям. Религиозные постулаты следует исключить не потому, что они содержат воззвания к вере и используют словари, которые невозможно отстаивать, не прибегая к цикличности рассуждения. По-видимому, Рорти имеет в виду те убеждения, которые по-настоящему общеприняты; он не говорит, в отличие от сторонников теории договора, о том, что все разумные люди должны принять. Но проблема остается той же. По-настоящему общепринятые основания не подводят нас в достаточной мере к ответам на достаточное число имеющихся у нас политических вопросов. Если бы была принята предложенная политика сдерживания, она породила бы слишком густую завесу молчания как раз по тем предметам, которые особенно нуждаются в обсуждении. Сама политика сделалась бы тормозом диалога. 131 Предположим, вы обсуждаете какой-то вопрос из ряда тех, о которых говорит Гринуолт, и пока что пытаетесь выстроить свою аргументацию, обращаясь исключительно к общепринятым принципам и к информации, доступной для общества в целом. Представьте себе, что один из ваших собеседников, почувствовав, что вы не в полной мере раскрываете ваши постулаты, говорит вам: «Но каково ваше действительное основание? Что реально побуждает принять данный вывод?» Теперь вам остается либо слукавить, либо сделать выбор между вариантами 1) и 3). Но почему бы вам не выбрать 3)? Мы нередко оказываемся в таких ситуациях, когда искренность требует от нас полного изложения наших действительных оснований. Даже если на мгновение мы оказываемся в тупике, это не означает, что у нас есть причина считать такой результат фатальным для дискуссии. Всегда можно сделать несколько шагов назад и начать снова, уже имея в виду более широкую дискурсивную задачу. Вот что происходит тогда, когда мы оказываемся в тупике, и описанное только что поведение рекомендуется большинству граждан, представляющих различные точки зрения, чтобы они смогли более подробно изложить свои основания. Только таким способом мы сумеем добиться понимания перспектив друг друга, учиться друг у друга путем непредвзятого выслушивания и предлагать друг другу постулаты для справедливой внутренней критики. Когда Рорти анализирует роль религии в политике, он, подобно сторонникам теории договора, полностью игнорирует потенциальные выгоды внутренней критики ad hoc, применяемой при преодолении временных тупиков. Однако в других контекстах он признает ценность ведения дискуссии на этом уровне. В книге «Философия и зеркало природы» он называет такой вид дискурса «беседой» (28). Здесь он предлагает «рассматривать эту беседу как предельный контекст» (389; курсив в оригинале). Под беседой он подразумевает род дискурсивного обмена мнениями, в котором «фокус нашего внимания смещается… к соотношениям между альтернативными стандартами обоснования и отсюда — к реальным изменениям в этих стандартах, которые составляют интеллектуальную историю» (389 и сл.). Роль созидательной философии, как показывает в названной книге Рорти, состоит в том, чтобы поддерживать дискурсивный обмен мнениями как раз в тех точках, где «нормальный» дискурс, то есть дискурс, происходящий на основе общепринятых стандартов, не позволяет конкурирующим сторонам достичь соглашения прямым путем. Беседа — удачное название для того, что нам требуется в тех точках, где граждане, которые используют различ132 ^ 3. ^A&( ^¤&( §' <¤ § ные “финальные словари”, заходят во временный тупик. Но если мы станем применять термин «беседа» в указанном смысле, нам придется сделать вывод, что эта беседа и есть тот процесс, который не прекращается, когда в политической дискуссии используются религиозные установки. Только прямая дискуссия на основе общепринятых принципов застопоривается. Получается, что в обществе плюралистической демократии должна применяться некая смесь нормального дискурса и речевой импровизации (29). В обсуждении некоторых вопросов прямая аргументация на основе всеобщих стандартов приводит нас к этому выводу. А за рамками ее обязаны или молчать, или вести беседу. Но вести беседу мы сможем, если следовать духу созидательной философии Рорти, только если откажемся от предлагаемой им политики сдерживания. Этически, политически и духовно я сформировался в век движения за гражданские права, учась у служивших ему пророков. В годы учебы в колледже, когда я быстро двигался от Шлейермахера к Фейербаху, Эмерсону и далее, я сотрудничал в основном с диссидентствующими протестантами, светскими евреями и членами радикального католического подполья в рамках борьбы против участия Соединенных Штатов в войне во Вьетнаме. С тех пор я знаю, что возможно строить демократические коалиции, принадлежащие к разным религиям, и изучать их различия глубоко и с уважением, не теряя при этом единства своего критического разума. Я пишу эту книгу в расчете на то, что существование таких же внутренне разнообразных коалиций и равноправное выражение различий и сегодня возможно в демократической культуре, если только у нас найдется воля для их создания. 133 Глава 4. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И НЕГОДОВАНИЕ ^ 4 СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И НЕГОДОВАНИЕ Негодование легко. Теология тяжела. Джон Боулин В 1960-х годах христианские теологи произвели сенсацию, принявшись расхваливать добродетели светского города. Впрочем, ныне они нередко в яростных выражениях клеймят секуляризованную политическую культуру. Джон Милбэнк и его сторонники, проповедующие вместе с ним «радикальную ортодоксию», придерживаются мнения, что «уже несколько столетий секуляризм определяет и формирует мир. Это мир, в котором все теологическое или не вызывает доверия, или рассматривается как безвредное времяпрепровождение, дело частной приверженности». И они заключают: единственный адекватный ответ состоит в том, чтобы создать теологию, которая «отвергает все светское». Это означает отторжение как «светской аргументации», так и «светского государства» как сфер дискурса, не «формируемых в существе своем теологической перспективой» (1). Хотя Ричард Джон Нойхаус смотрит на современную демократию более благосклонно, чем Милбэнк, но и он сетует на «религиозное опустошение на общественной арене». Он заявляет, что «светский гуманизм оказывает глубокое и искажающее влияние на нашу общественную жизнь», и предупреждает, что «понятие светского государства может стать прелюдией к утверждению тоталитаризма» (2). Теологическое негодование в отношении всего светского заслуживает внимания теоретиков демократии не только потому, что оно дает выход предубежденности многих религиозно настроенных людей, но и потому, что оно усиливает эту предубежденность и стимулирует ее распространение. Ныне радикальная ортодоксия является предметом жесточайших споров в семинариях и на богословских факультетах в Соединенных Штатах и тем самым значи134 ^ 4. <­A@­ &^& мой частью субкультуры, внутри которой воспитываются будущие пастыри. Журнал Нойхауса «Первые дела» выдвигает обвинения против секуляризованной культуры в аудиториях, выходящих далеко за границы семинарий. В главе 3 я говорил о двух формах либерализма, которые неосмотрительно подпитывают негодование светской части общества против сочинений Милбэнка и Нойхауса. Политический либерализм Ролза утверждает, что религиозные постулаты могут использоваться в демократических рассуждениях и дискуссиях по существенным вопросам, но только тогда, когда они в конечном итоге подкрепляются аргументами, апеллирующими к концепции свободного понимания справедливости. Прагматический либерализм Рорти утверждает, что включение религиозных постулатов в политическую дискуссию более или менее гарантирует оборвать дискуссию, и потому его следует избегать. Милбэнк и Нойхаус отвергли бы обе названные позиции как секуляристские. То, что либерализм является секуляристским в названном смысле, может стать основанием для того, чтобы отвергнуть его как идеологию или политическую теорию. Но разве это причина отвергать и политическую культуру, теоретическую характеристику которой предполагают дать либералы? Я полагаю, только в том случае, если эта теоретическая характеристика описательно адекватна, а она таковой не является. В этой главе я намерен сосредоточиться на двусмысленностях, окутывающих понятие секуляризации, и на типах их применения для теологических и религиозных высказываний. В определенном смысле можно сказать, что в самых современных демократиях этический дискурс секуляризован, поскольку он не «формируется в существе своем теологической перспективой» принимаемой как данность всеми участниками дискурса. Но секуляризация в этом смысле не является отражением приверженности секуляризму. Она не влечет за собой ни отвержения теологических аксиом, ни изгнания теологических высказываний из публичной сферы. И она оставляет верующим свободу смотреть на государство и на демократическую политическую культуру как на области, находящиеся, в конечном счете, во власти божественного суда и авторитета. Разумеется, если верующие смотрят на политическую сферу под таким углом зрения, это не означает, что так же должны смотреть на нее и другие. Но это попросту означает, что эпоха теократии ушла в прошлое, а вовсе не то, что политической сферой отныне правит Антихрист. 135 << £' <) < <­A&&(¤ ' £ A&' Многие религиозные традиции внушают привычное уважение опытным толкователям духовных текстов, посвященных нравственным, религиозным и политическим практикам. Претензия экспертов на авторитет в этих вопросах состоит в их умении интерпретировать и применять соответствующие тексты. Так, например, в иудаизме каждый раввин утверждает свое право толковать тексты, изучая иврит, анализируя Писание и комментарии к нему на протяжении многих лет, обсуждая тонкие вопросы с теми, кто отдал значительную часть жизни этим занятиям. В католицизме и исламе священнослужители имамы обладают сравнимым по весу авторитетом. Но все это предполагает, во-первых, что в текстах, при правильной их интерпретации, можно обнаружить авторитетные ответы на поставленные вопросы. А во-вторых, здесь предполагается, что некоторые толкователи находятся в лучшем положении при истолковании текстов, по сравнению с другими. Обратимся теперь к дебатам, которые в начальный период современной эпохи вели между собой христиане по различного рода нравственным и политическим вопросам. Здесь мы видим многочисленные группы, каждая из которых убежденно смотрела на Библию как на авторитетный источник предписывающего воззрения на то, как нужно отвечать на такие вопросы. Тем не менее эти группы расходились не только во мнениях, что этот текст говорит и как его следует применять. Расходились они и в том, кто полномочен интерпретировать этот текст, является ли он единственным авторитетным источником предписывающих воззрений и кто полномочен разрешать очевидные противоречия между ним и другими предполагаемыми источниками нормативных воззрений. А поскольку они расходились по всем названным пунктам, в итоге оказывалось, что они избегают апелляций к библейскому авторитету при попытках разрешить свои этические и политические разногласия. Причина проста: такие апелляции неэффективны. Следовательно, конкурирующие стороны все чаще старались разрешать свои разногласия на других основаниях. В этом отношении их этический дискурс секуляризовался. Как и почему возникал этот тип секуляризации, можно увидеть на примере конкретного исследования. Изучив историю обращений к Библии в политике Англии на протяжении семнадцатого века, выдающийся историк Кристофер Хилл пришел к выводу: статус 136 ^ 4. <­A@­ &^& Библии как значительного авторитета в политических дебатах, к которому обращались, судя по всему, все партии, понижался до статуса ограниченного авторитета и ограниченного центрального положения в течение столетия. К концу 1650-х годов Библия была в значительной степени «разжалована» (3). В числе многих других симптомов этого понижения ранга Хилл указывает на то, что в 1657 году члены Парламента смеялись над одним из своих коллег за то, что он регулярно обращался к цитатам из Писания, дабы подкрепить свои суждения. Почему же другие члены нашли его поведение смешным? Это могло происходить по ряду причин. Впрочем, маловероятно, что каждый из веселившихся членов Парламента перестал видеть в Библии нерушимый авторитет при формировании своих собственных убеждений и перестал уважать каждого, кто повел себя иначе. Вот что говорит Хилл: «Двадцать лет ожесточенных дискуссий показали, что дальнейший обмен цитатами и искажениями текста ничего не решило: даже между набожными христианами соглашение по поводу того, что говорит Библия и что означают ее слова, не могло быть достигнуто» (АБ, 421). Создается впечатление, что изменение было связано не столько с индивидуальными процессами формирования убеждений, сколько с тем, что именно граждане могли принимать как данность в публичных дискурсах между собой. Представьте себе, что вы рассматриваете Библию как нерушимый авторитет и регулярно заглядываете в нее при формировании ваших мнений. Представьте далее, что все члены вашего общества подобным же образом привержены формированию своих мнений в соответствии с тем, что говорит Библия, и вам об этом известно. Отсюда, однако, не следует, что для вас будет иметь смысл обращаться к Библии при решении обсуждаемых вопросов. Почему? Возможно, вам известно, что взгляды ряда членов вашего сообщества по поводу того, что говорит Библия по политическим и экономическим вопросам, несовместимы друг с другом. Вы замечаете, что когда члены вашей группы вступают в дискуссию с целью достичь единства в отношении вопросов интерпретации Библии, успеха они почти никогда не достигают. И вы заключаете, что для всех вас было бы неразумно апеллировать к Библии как к нерушимому авторитету, даже при том, что каждый из вас верит, что она таковым является. В разрешении споров в ситуациях такого типа всякое обращение к Библии будет бесполезным, а каждый, кто к ней все-таки обратится, будет выглядеть глупо. Итак, мы имеем два вопроса, которые могут быть следствиями идеи авторитета Библии. Первый — это вопрос о том, каким обра137 зом индивиды формируют свои убеждения. Если тот или иной индивид готов следовать всему, что в Библии сказано по тому или иному нравственному или политическому вопросу, назовем это власть Библии над индивидуальным сознанием. Второй — вопрос о том, к чему индивиды могут апеллировать на разумных основаниях как к арбитру в дискуссии с другими группами. Назовем это «публичным дискурсивным авторитетом». А теперь, проведя это разграничение, я хотел бы рекомендовать воспринимать вопрос второй, а не первый, как более весомый для объяснения секуляризации вообще и истории Библии в политической Англии XVII века. Всего несколько приводимых Хиллом примеров являют собой ясные свидетельства, что власть Библии над индивидуальным сознанием падала. И эти примеры не дают ответа на вопрос о том, насколько широко распространялось это падение. Но даже если падение власти Библии над индивидуальным сознанием ограничивалось рамками отдельных сегментов английского населения (а я подозреваю, что так оно и было), правдоподобным остается предположение, что публичный дискурсивный авторитет Библии к концу века практически исчез. Если мы предполагаем, что лишь немногие интеллектуалы и радикальные группы отказались рассматривать Библию как несокрушимый авторитет при выработке личных воззрений на различные вопросы, тогда почему роль Библии как публичного дискурсивного авторитета упала так быстро и безнадежно? Ответ на этот вопрос уже должен быть ясен. Дело в том, что члены английского общества оказались не в состоянии отыскать способы достичь рационального согласия по вопросам интерпретации библейских текстов, а в отсутствии этих способов Библия уже не могла играть роль публичного арбитра, как это было в первой половине века. Однако этот ответ порождает следующий вопрос. Почему именно этим людям было так трудно достичь рационального согласия по поводу интерпретации данного текста? В примерах Хилла имеются подсказки для ответа на этот вопрос. Английские протестанты видели в Библии книгу, продиктованную Богом. Она была словом Божиим, и в нее можно было верить как в несокрушимый авторитет, так как Бог нравственно совершенен и всеведущ. Многие из этих людей понизили статус церковной традиции до статуса небезупречного авторитета или до неавторитета вовсе на том основании, что она была очевидно недостоверной, и потому люди не могли решать вопросы интерпретации путем обращения к традиции. И тогда им оставалось за руководством в ин138 ^ 4. <­A@­ &^& терпретации апеллировать лишь к тому, что Мильтон назвал «верховным авторитетом… Духа, внутреннего и находящегося в личном распоряжении каждого человека». Но если такое обращение может оставить любого человека в убеждении, что Дух ведет его к правильным заключениям, оно не дает средств разрешения противоречий между выводами одного человека и выводами другого. Более того, человеку захочется объяснить чье угодно несогласие с его выводами тем, что этим другим руководит вовсе не Дух, а скорее всего, демоническая сила. Такого рода объяснение разногласий, вероятно, подорвет разумные основы попытки разрешить противоречия путем обмена аргументами. Так легче прийти к мысли, что с оппонентами нужно сражаться, а не предлагать им аргументы. Другим последствием взгляда на Библию как на несокрушимый авторитет, как на книгу, созданную Богом, является требование последовательности. Каждая библейская строка должна быть прочитана внутренним взором так, чтобы ее смысл мог быть согласован со смыслом всех других библейских строк. Очевидная непоследовательность данной книги как целого (например, в том, что говорится о месте рождения Иисуса) должна получить оправдание. И при этом может возникнуть требование внешнего объяснения. Каждый библейский стих должен быть прочитан так, чтобы его можно было согласовать со всем, в истинность чего читающий твердо верит. Мысль о том, что все сказанное в Библии должно быть истинным, оказывает давление на самого интерпретатора и заставляет его читать Библию так, чтобы она не входила в противоречие с его собственными самыми глубинными убеждениями. А следовательно, самые твердые поборники идеи библейского авторитета часто представляют самые сильные, с их собственной точки зрения, аргументы в пользу того, что мы могли бы определить как самых «сильных» читателей библейского текста. Вот они провозглашают приоритет Библии, а через мгновение прилагают жаркие усилия, чтобы вести текст в направлении тех истин, с которыми он должен в конечном счете оказаться совместимым, коль скоро Бог не мог создать лживую книгу. Необходимость иметь внешнюю согласованность обрела новую силу в шестнадцатом и семнадцатом веках, когда идея «Книги Природы» заняла центральное место в исканиях астрологов, алхимиков и великих творцов новой науки. Ибо существует другая книга, созданная Богом, а значит, равным образом, несомненно, открывающая только истины тем, кто правильно их истолкует. Отсюда следовало, что правильное истолкование должно соединить все, что 139 содержится в обеих книгах, и создать непротиворечивую систему тезисов вне зависимости от того, насколько интерпретатор был готов пойти дальше или против так называемого простого смысла Писания. Даже те, кто не находился в плену у представления о существовании второй божественной книги, часто обнаруживали, что их прочтение оказывается в явном противоречии с простым смыслом Библии, когда они обращались к проблемам внутренней и внешней последовательности. Они либо были вынуждены отказываться от протестантской приверженности идее верховенства буквального значения библейского текста, либо пускаться на поиски особых обоснований того, что им приходилось распространять простой смысл за пределы понимания. Разные люди по-разному реагировали на этот набор проблем, как видно из примеров Хилла. Некоторые, например, Сэмюэл Фишер, отказались от видения Библии как божественной книги и стали формировать свои мнения, не полагаясь на нее в значительной степени. Другие, например, женщина радикальных взглядов, известная как М.М., продолжали полагаться на Библию, при этом проводя различие между глубинными истинными и всего лишь человеческими сосудами, в которые было налито божественное вино. Получается, что истины освящены свыше, но это не сама книга, во всяком случае, в том виде, в каком она у нас имеется (4). Оба эти акта задумывались не для того, чтобы разрешить, а скорее, чтобы запутать проблемы, порождавшиеся поисками внутренней и внешней последовательности. И оба акта ослабляли напряженность поиска типологических и аллегорических прочтений, которые можно было согласовать с простым смыслом. Совершенно неясно, ради чего многие люди осуществляют эти акты. Очень многие просто продолжают попытки разрешить проблемы, которые Фишер и М.М. намеревались запутать. Причина этого не в том, что большинство людей соглашались с М.М. или Фишером. Важно здесь то, что простой смысл уже не был чем-то таким, к чему мог бы апеллировать всякий, даже самый твердолобый, упершийся в Библию буквалист в публичной дискуссии о том, что означает Библия. И похоже, что здесь сыграли свою роль еще две причины. Первая состоит в том, что апелляция к внутреннему убеждению не обладает общественной убедительностью. И вторая: простой смысл уже был распространен за критический предел в ходе поисков последовательности. Прочтения, предположительно заложенные в простой смысл Писания, умножались с такой быстротой, что простой смысл уже не мог функционировать в качестве об140 ^ 4. <­A@­ &^& щественно эффективного сдерживания процесса интерпретации. А коль скоро это случилось, Библия утратила роль арбитра. Мое понимание секуляризации связано с тем, что принято как данность при обмене мнениями в условиях публичности. Публичность условий налицо, если она не предполагает конфиденциальности и позволяет гражданам прибегать к ней путем передачи своих суждений через других граждан. В моем понимании, дискурс принимает секуляризованную форму не в силу склонности его участников отказываться от своих религиозных верований или воздерживаться от их использования в качестве аргументов. Признак секуляризации (в том смысле, который я придаю этому понятию) — это, скорее, тот факт, что участники данной дискурсивной практики не согласны принять как данность, что другие участники исходят из тех же религиозных предпосылок, что и они сами. Именно в этом смысле дискурс в современных демократических обществах обладает тенденцией к секуляризации. Отметим, что секуляризация в данном понимании не отражает приверженности индивидов секуляризму, секулярному либерализму или какой-либо другой идеологии. Верно, что современный демократический дискурс склоняется к тому, что он не должен «формироваться теологической перспективой», но этот факт не мешает какому-либо его участнику теологическую перспективу принимать. Все участники имеют полное право при формировании своего вклада в дискурс использовать любой словарь. Они только не могут на разумных основаниях полагать, что существует теологическая перспектива, которую будут разделять с ними все участники. Но так происходит не потому, что дискурс, в который вовлечены каждый конкретный участник и его собеседники, требует от всех участников применять исключительно «секулярную аргументацию» при осмыслении и обсуждении политических вопросов. Не предполагает он также принятие «светского государства» как области, полностью огражденной от влияния религиозных убеждений или — тем более — находящейся вне высшей власти Бога. Весь вопрос в том, что какие предположения могут быть выдвинуты в ходе дискуссии с людьми, которые — так уж случилось! — придерживаются иных теологических убеждений и предпочитают иные интерпретации. В своей предыдущей работе я говорил о секуляризации публичного дискурса как об эффекте «кинематики предположения» (5). Чтобы избежать недоразумений в этом пункте, необходимо провести различие между двумя значениями термина «предположение». Допустим, Мартин Лютер Кинг утверждает, что Бог есть любовь. 141 Делая такое утверждение, Кинг предполагает, но не говорит открыто, что Бог существует. Поэтому было бы логично сказать, что приверженность идее существования Бога является одним из предположений Кинга. В этом первом смысле предположения суть либо постулаты, которые индивиды сознательно имеют в виду, когда высказывают определенные суждения, либо постулаты, которые должны быть истинными, если сказанное имеет смысл. Предположим теперь, что унитарий предлагает свой аргумент, касающийся однополых браков, человеку, о котором заведомо известно, что он — католический епископ. Очевидно, что в этом случае ни унитарий, ни его собеседник не принимают как данность компоненты общей теологии. Они не могут дискутировать друг с другом на основании общей теологии как чего-то данного. Мы можем сказать: дискурсивный обмен, имеющий место между этими сторонами, не предполагает теологии. Несомненно, данный диалог содержит некоторые предположения, среди которых может быть и предположение, что Бог существует, но в их числе нет, например, предположения о триединой сущности Бога или об интерпретации его заповедей. Если бы к дискуссии пожелали присоединиться атеист, мусульманин или ортодоксальный иудей, то область частичного совпадения теологических постулатов сократилась бы еще больше, предположения могли бы быть использованы в дискуссии в еще меньшей степени. Здесь речь идет о «предположениях» во втором значении термина. Если мы скажем, что унитарий теперь участвует в дискурсивном обмене мнениями, который не содержит теологических предположений, это не будет иметь ничего общего ни с родом его теологических предположениями, насколько они важны для него при вынесении его собственных суждений, причем вне зависимости от того, имеются ли у него основания для принятия предположений, о которых идет речь, и свободен ли он в их выражении. В своем описании секуляризованных дискурсов я оперирую термином «предположения» в его втором значении. В секуляризованные дискурсы, понимаемые так, как их понимаю я, не обязательно включаются участники, не имеющие религиозных убеждений или побуждающие оставить такие убеждения. Многие граждане США исповедуют какую-то форму веры в Бога, но их публичный этический дискурс секуляризован в том смысле, который я сейчас пытаюсь определить. В этом большое преимущество моего описания перед теми описаниями секуляризации, которые фокусируют внимание на воображаемой утрате религиозных верований или на «ра142 ^ 4. <­A@­ &^& зочарованности» мира. Предлагаемая мной теория является описанием того, что происходит между людьми в ходе публичного дискурса, а не того, во что они верят, допускают или предполагают, будучи индивидами. Она не имеет отношения к их восприятию мира как расколдованного универсума, лишенного божественных интенций и духовного значения. Публичный этический дискурс в современных демократических обществах не склонен предполагать согласие в отношении природы, существования и воли Бога. Не предполагает он также и безыллюзорного согласия относительно того, как следует интерпретировать Библию или другие источники религиозного постижения. В результате теологические требования не имеют статуса «оправданных по умолчанию» — то есть чего-то, что участники дискурсивной практики обязаны принимать как авторитетное или оправданное. И это следствие теологического плюрализма оказывает огромное влияние на облик нашего этического дискурса. В частности, это означает, что в большинстве контекстов было бы, выражаясь риторически, обыкновенным безрассудством вводить откровенно теологические посылки в аргументацию, призванную убедить разнообразную в религиозном плане аудиторию. Если неразумно ожидать, что такие посылки будут приняты или истолкованы единообразно, то вовсе не обязательно, что укрепление названных посылок продвинет вперед чьи-либо риторические задачи. А если теологические посылки, таким образом, по этой абсолютно понятной причине мало пользуются вниманием, то почему у кого-то должна возникнуть причина для негодования по поводу возникающего в результате их исключения типа секуляризованного дискурса? Когда люди желают обменяться аргументами с теми, кто разнится с ними идеологически, вполне понятно, что значимость этого типа дискурса чрезвычайно резко возрастает. Негодование по поводу этого факта неотличимо от негодования по поводу религиозного многообразия. В этом контексте полезно учитывать различие между утверждением, что человек оправданно верит в тот или иной постулат, и утверждением, что постулат оправдан. Индивид оправданно верит в постулат, если он вправе быть приверженным этому постулату в определенном дискурсивном контексте и когнитивном поведении. Постулат оправдан в некоем дискурсивном контексте, если в этом контексте всякий может оправданно верить в него (потому ли, что у гражданина нет адекватных оснований для сомнений, или же потому, что данный постулат уже был защищен от всех разумных оснований для сомнений). В современных демократических обще143 ствах теологические посылки все больше утрачивают статус оправданных по умолчанию — во втором смысле — при использовании в публичных заявлениях по той простой причине, что сами эти заявления становятся все более многообразными в религиозном отношении. При этом очень многие современные демократии либеральны в том смысле, что считают индивидов свободными иметь любые теологические убеждения, которые они считают подходящими для себя, и выражать эти убеждения в высказываниях или действиях (6). Этический дискурс в современных многоконфессиональных демократических обществах носит секуляризованный характер, согласно моей интерпретации, только в том смысле, что в нем не принимается как данность система согласованных посылок относительно природы и существования Бога. Данное утверждение относится к предположениям во втором смысле. Это означает, что никто не может при обращении к многоконфессиональной аудитории принимать как данность, что религиозные убеждения по умолчанию имеют авторитет в сложившемся контексте. И это не накладывает никаких ограничений на то, какие предположения в первом смысле может высказать индивид. И напротив, дискурсивная практика, о которой идет речь, секуляризована, согласно моей теории, именно потому, что многие индивиды, в ней участвующие, имеют религиозные убеждения, которые выступают в роли предположений в некоторых высказываемых этими индивидами суждениях и заявлениях. Потому что убеждения одного гражданина отличаются от убеждений другого и потому не могут рассматриваться как предположения во втором смысле. Но это не исключает возможности того, что граждане, придерживающиеся той ли иной системы религиозных убеждений, могут на рациональных основаниях быть свободны в своих убеждениях. Некоторые теологи уверены, что общий дискурс граждан по этическим и политическим вопросам в отсутствии принятых всем обществом теологических предпосылок страдает непоследовательностью. Они заключают, что поэтому все мы должны принять общий набор теологических предпосылок, чтобы вернуть последовательность нашему общему дискурсу. Но чьи предпосылки мы должны принимать? И какими средствами мы сможем достигнуть согласия? Главная проблема здесь в том, что сегодня никто не знает, как применить на практике приемлемые средства, предлагаемые религиозными противниками секуляризованного дискурса. Их предложения нереалистичны, если следовать им, не 144 ^ 4. <­A@­ &^& имея такого ресурса, как насилие, и морально опасны, если применять их при помощи насильственных средств. Некоторые из моих оппонентов говорят, что я преувеличиваю опасности, но я вижу только один вид опасностей, а именно те, что будут ожидать нас, если стратегия антисекуляризации будет осуществляться насильственными методами. Это те самые опасности, которые возникали в периоды войн за становление государств в Европе в начале современной эпохи и ныне терзают нации, которым еще предстоит утвердить у себя гражданскую ответственность, религиозную терпимость и конституционную демократию. Поскольку мои оппоненты не отстаивают насилие, мои разногласия с ними относятся скорее к нереалистичности их программы, нежели к потенциальным опасностям. Я не говорю, что сегодня в Соединенных Штатах опасно прибегать к религиозным посылкам в политических дискуссиях. Это совершенно другой предмет (7). Я также не утверждаю, что теологи, как частные лица, должны оставить свои теологические позиции. Это тоже отдельный вопрос, который предполагает другое понимание того, что такое секуляризация (8). Наше общество многоконфессионально и остается таковым на протяжении не одного столетия вопреки непрерывным попыткам части религиозно настроенных его членов привести сограждан к принятию единой теологии. Так что когда граждане публично обсуждают политические вопросы, например, на заседаниях школьных советов, в дебатах в ходе предвыборных кампаний, а не в беседах в сообществах единоверцев, их религиозные разногласия предполагают невозможность того, чтобы они приняли как данность теологические посылки. В таких условиях вы, разумеется, вправе сделать утверждение теологического характера и тем самым как бы заявить о своей приверженности теологическому предположению, понимаемому в первом значении. Но с вашей стороны было бы некорректно исходить из того, что теологические предположения во втором значении уже внедрены, и уже принято негласное соглашение, что они будут рамками, внутри которых будет проходить дискуссия. А раз так, то что же нам делать, чтобы достигнуть последовательности, которой, по мнению некоторых теологов, нам недостает? Я не вижу, каким образом может произойти та радикальная перемена, к которой нас призывают эти теологи. Нет смысла пытаться уйти от религиозного многообразия, которое является общественной реальностью, или негодовать по его поводу; оно просто существует. Пока оно не уйдет 145 в прошлое, наш публичный дискурс будет оставаться секуляризованным — в том смысле, в каком я определил этот термин, — хотим мы того или нет. <A <¥&) < ^ <^ Поскольку такие теологи, как Милбэнк, видят в секуляризации политической культуры отражение секуляризма, то есть идеологии, им есть что сказать об истоках секуляризации, что во многом будет отличаться от сказанного мной. В центре моей интерпретации — то, что обычные участники дискуссии могут на разумных основаниях принять как данность в условиях религиозного многообразия, тогда как оппоненты сосредоточиваются на социальных и дискурсивных последствиях интеллектуальной ошибки. Согласно интерпретации, представленной Уильямом Т. Кейвено в «Радикальной ортодоксии», секуляристская ошибка предполагает «постепенное очищение священного от мирских ошметков» и «замену одного mythos о спасении другим» (9). Она «происходит от антропологии индивидуального dominium, на котором строится светское государство» (РО, 193). При таком взгляде светское государство, по сути, призвано заменить христианское представление о спасении секуляристским. Таким образом, секуляризованный дискурс, проходящий под патронажем такого государства, является секуляристским дискурсом, жестоким подрывом того, что некогда было единой схемой приобщения к божественному и попыткой узурпировать сотериологическую функцию, на которую до сих пор заявляла претензии церковь. Но при этом, говорит Кейвено, «государство не сумело спасти нас» (РО, 192), и иначе быть не могло, поскольку светское государство плохо приспособлено для того, чтобы спасти нас от чего бы то ни было, и менее всего — чтобы спасти от насилия, которое неявным образом заложено в самом общественном договоре. Видно, что Кейвено стремится выставить «светское государство» в самом что ни на есть черном свете. Он достигает этой цели отчасти благодаря тому, что передергивает, избегая упоминать о том факте, что многие либеральные теоретики не ленятся оспаривать справедливость взгляда на государство как на источник спасения. Но его интерпретация не выдерживает критики также и в представляемой в ней картине исторического значения либеральной теории. Из какого источника проистекает «светское государство»? Из глубоко ошибочного «mythos». А этот миф, согласно взглядам радикальной ортодоксии, сам восходит к ошибочной концепции свет146 ^ 4. <­A@­ &^& ского, сложившейся в позднем Средневековье, когда волюнтаристы от теологии взяли верх, а искренне объединяющие воззрения ушли в тень. Корень проблемы в теологической ошибке, которую нужно исправить теологическими средствами, а именно — радикальным возрождением платоно-аристотелевой ортодоксии. Я нахожу интеллектуальные построения, содержащиеся в этой трактовке секуляризации, крайне неправдоподобными. Бывает, что интеллектуальная ошибка влечет за собой значительные социальные и политические последствия, но история редко выбирает теоретические пути, которые воображают себе философы и теологи. Одна из причин сомнений в том, что именно миф, или идеология, секуляризма породила секуляризацию публичного дискурса — тот факт, что приверженцы секуляризма никогда не имели ни достаточной численности, ни влияния, чтобы произвести в мире столь драматические перемены, как предполагает интерпретация Кейвено. Ирония здесь в том, что радикальная оппозиция, похоже, перенимает базовые элементы у секуляристской теории. Согласно этой теории современность (modernity) есть неотступно секуляризующая сила, поскольку она порождает нарастающие уровни неверия и разочарования. Проблема в том, что ныне эта теория лежит в руинах, поскольку почти все ее прогнозы были сфальсифицированы в течение четырех последних десятилетий (10). Если нет социологических оснований полагать, что секуляризация — в том смысле, который предполагает растущее распространение секуляристских идей, — вообще имеет место, то нет также оснований принимать интеллектуалистскую интерпретацию того, как проходит процесс секуляризации и что привело его в движение. Трактовка секуляризации, предлагаемая нам радикальной ортодоксией, правдоподобна настолько же, насколько правдоподобна представленная Хайдеггером трактовка, согласно которой истоки века технологии лежат в онтотеологической традиции. Я стараюсь предложить трактовку более приземленного характера. В моей интерпретации секуляризация не была изначально вызвана триумфом секуляристской идеологии, или, если воспользоваться формулой Милбэнка, «впервые выстроена в дискурсах либерализма» (ТСТ, 4). Она также не явилась результатом всепроникающего разочарования или десакрализации мира. Секуляризацию политического дискурса двигала вперед растущая потребность справиться с религиозным многообразием дискурсивным путем, на повседневной основе и в условиях, когда совершенствующиеся средства транспорта и связи меняли политический и экономиче147 ский пейзаж. Однако при этом секуляризация уже описанного мной типа способствовала развитию десакрализации политической сферы и укреплению идеологии секуляризма как попыток объяснить и оправдать самое секуляризацию. И два последних феномена не являются сугубой фантазией, не оказывающей существенного влияния на общественный порядок. Мы можем быть уверены, что они существуют, даже если и не обладают случайным характером, который им приписывают дискредитированная ныне социологическая традиция и радикальная ортодоксия. Характерно, что политическая теология Средневековья принимала как данность, что именно ее христианский словарь требуется для объяснения, что для правителя христианского политического образования значит быть наместником Христа (11). По сути, политическая теология открыто сформулировала нормы, согласно которым в христианском мире любое королевство или княжество находится под властью Божией. Поскольку эти нормы со всей очевидностью должны были быть открыто сформулированы в теологических понятиях, было естественно, что все заинтересованные граждане стали рассматривать политическое сообщество как сакрализованное. Но при условиях, когда теологический словарь превратился в препятствие для рационального разрешения политических разногласий, а большая часть политических агентов оперирует в политических дискуссиях в основном нетеологическими словарями, само политическое сообщество может представляться освобождающимся от своего прежнего сакрализованного статуса. В этом случае политическая теология неизбежно покажется чемто менее существенным при формулировании норм, к которым апеллируют участники дискурса. Тогда интеллектуалы предпримут старания выразить эти нормы открыто, не прибегая к теологии. В этом контексте может зародиться либеральный секуляризм как идеологическое объяснение и обоснование новой формы общественного порядка. Как мы видели в предыдущей главе, было бы ошибкой безосновательно предполагать, что идеологии точно отражают общественные формации, которые они призваны обслуживать. Секуляризованный политический дискурс породил разнообразные философские интерпретации самого себя. Среди наименее правдоподобных из них в описательном плане находится либеральный секуляризм. Поэтому мы обязаны по меньшей мере прнять во внимание возможность того, что секуляризованный политический дискурс в современных демократических обществах может в большой степени 148 ^ 4. <­A@­ &^& быть свободным от антирелигиозного настроя своих идеологических защитников. Тем не менее факт остается фактом: секуляризация лишила политическую теологию ее социальной роли, которую последняя привыкла играть в христианском мире. Следовательно, в современных демократических обществах и политическое сообщество, повидимому, десакрализуется. Если раньше правители мыслились наместниками Христа, получившими власть непосредственно от Бога, теперь их власть исходит от народа. В современных демократиях согласие объектов управления, уважение к правам человека и должным образом осуществляемая забота об общественном благе суть условия обладания властью, причем ни одно из них не является откровенно теологическим. Где в этой картине место власти Бога над всеми творениями и есть ли вообще такое место? Таков центральный вопрос политической теологии в обществах, в которых политическая дискуссия носит секуляризованный характер. Радикальная ортодоксия отвечает на этот вопрос, как мы уже видели, тем, что рассматривает секуляристскую трактовку современной демократии такой, какая она есть, и затем отвергает все секулярное как сущностно антитеологическое. Чтобы восстановить должное ощущение власти Бога над политическим сообществом, политическая теология должна отвергнуть тот тип политического сообщества, сущностью которого является отрицание власти Бога над ним. Это один из возможных ответов. Но его описательная предпосылка небесспорна, если не сказать более. Если секуляризация представленного мной типа может иметь место даже в сообществе, члены которого сходятся на том, что Бог является верховным авторитетом, который вправе судить весь сотворенный мир, в том числе и всякий политический порядок, то непонятно, действительно ли теологически необходимо неприятие секуляризованного политического сообщества. Каждый христианин вправе признавать верховную власть Бога над всяким политическим сообществом, включая и то, к которому сам христианин принадлежит, невзирая на то, согласны с этим другие члены сообщества или нет. Таким образом, христиане, принимающие данный постулат, должны заключить, что ныне Христос правит демократическими политическими сообществами, и неважно, кто признает его власть, а кто не признает. Центральная задача современной христианской политической теологии состоит в том, чтобы разглядеть, какими путями верховенство Христа над такими сообществами проявляет себя. Отказ радикальной ортодоксии от всего светского, похо149 же, сводится к простому ответу на поставленный вопрос: Христос в своей ипостаси судии объявляет такие сообщества чрезвычайно испорченными в силу отсутствия в них истинного благочестия и их отказа от участия в благодатном излиянии божественной любви в церкви. Давая такой ответ, Милбэнк заявляет о своей приверженности идеям сочинения Августина «О граде Божием». Однако для доказательства этой приверженности ему приходится бороться против очевидной двойственности позиции Августина в отношении языческой «добродетели» (12). Вопрос о том, как следует интерпретировать соответствующие места в трактате Августина, в следующем десятилетии привлечет немало внимания со стороны теоретиков христианской этики и истории теологии. Но мы, преследуя наши цели, вынесем за скобки вопрос о приверженности Августину и осветим три законно принадлежащих теологии вопроса, которые отстаиваемая Милбэнком идея отказа от всего светского старается обойти: • возможно ли рассмотреть деяния Святого Духа и тем самым увидеть некое отражение спасающих деяний Бога в современных демократических надеждах? • нет ли в политической жизни современных демократий или в жизни людей, которые борются за справедливые и достойные соглашения между ними, чего-то такого, что благословил бы любящий Бог? • если полнота триединой внутренней жизни Бога светит во всех его творениях, может ли теология увидеть какой-то отблеск этого света в демократическом политическом сообществе? Эти вопросы должны быть центральными для любой системы христианской политической теологии, которая надеется признать верховенство Бога как через негодование по поводу всего светского, так и через впитывание всего светского в себя. Жаль, что Милбэнк предпочел отвечать на них только косвенным образом, выпуская в свет свои летние вердикты о политических теологах современности. Героем его критики католической политической теологии последних лет (ТСТ, гл. 8) стал Морис Блондель; о его работах Милбэнк говорит, что они представляют «новую философию, выходящую за рамки как позитивизма, так и диалектики, предвосхищая тем самым постмодернистский “дискурс о различии”» (ТСТ, 209). Значительная часть анализа посвящена раскрытию вредоносных влияний теологии Карла Ранера на латиноамериканских либе150 ^ 4. <­A@­ &^& рационистов и на немецких философов, таких как Иоганн Баптист Метц и Гельмут Пойкерт. Милбэнк возлагает на Ранера ответственность за примирительное отношение к философии Просвещения, которая развращает все, к чему прикасается. Впрочем, вся дискуссия ведется на столь абстрактном уровне, что ее участники прямо не обращаются к трем обозначенным мной вопросам. Милбэнк признает, что либерационисты были правы, видя, что «вся конкретная жизнь человечества поросла травой», и заключая из этого, что «безусловно, невозможно отделить политические и социальные проблемы от “духовных” проблем спасения» (ТСТ, 206–207). Но закончилась деятельность либерационистов «очередной попыткой дать христианству новую трактовку, выдержанную в терминах светского дискурса, господствующего в наши дни» (ТСТ, 208). Милбэнк выражает симпатию к подлинно христианскому социализму и дистанцируется от «реакционеров из Ватикана». Его ключевой пункт состоит в том, что теология сама должна определить, что означает «христианский социализм». Если под этим термином Милбэнк понимает только то, что христианская политическая теология должна взять на себя обязанность сохранять преданность своей вере в верховную власть божества в предлагаемой ею трактовке идеальной формы будущей социалистической практики, то пусть это останется предметом дискуссии. Методологическое заключение, которое желает вывести Милбэнк, следует из сказанного прямо: теология, выполняя свои собственные задачи, не вправе позволять той или иной форме светской мысли диктовать нам понимание политической сферы. «Посредничающая теология», воплощенная в работе Ранера, слишком легко подчиняется светской философии и общественной теории, а потому должна быть отвергнута, если мы хотим сохранить христианскую ортодоксию. А теперь предположим, что мы спускаемся с методологического уровня и всматриваемся в подтексты постулата Милбэнка, гласящего: «Целая конкретная жизнь человечества пропитана милостью». Подразумевается ли здесь, в частности, политическая жизнь человечества в современных демократических обществах? И если христианские социалисты, определяющие себя в терминах, заимствованных из «сверхъестественнизации естественного» Блонделя, объединят свои силы с социалистами других направлений ради улучшения условий жизни рабочих и безработных, что тогда скажет политическая теология о входящих в коалицию нехристианах? Ес Либерационисты — сторонники отделения церкви от государства. 151 ли Милбэнк готов провозгласить их невольными пособниками милостивого Божьего правления в этом мире, при этом предоставляя им свободу по-своему интерпретировать разделяемый ими социалистический проект, то остается вопрос: почему рождающаяся в результате политическая теология должна декларировать себя как «отказ от всего светского». В этом случае светское будет пониматься не как нечто, находящееся вне границ царства божественной власти, а всего лишь как область политической активности и политического дискурса — секуляризованного в обозначенном мной смысле. С другой стороны, если Милбэнк намерен придерживаться менее снисходительного отношения к нехристианским социалистам, ему придется объяснять, каковы теологические основания принимаемой им позиции. А на этом уровне важную роль начинает играть политическая теология. Практический вопрос здесь заключается в том, вправе ли христиане, исходящие из своих теологических посылок, объединиться с другими в борьбе за справедливость, причем не задирая нос, находясь в обществе товарищей. Если Милбэнк считает, что так может быть, то он негласно признает легитимность за тем феноменом, который я называю секуляризованной политической сферой, и выводы его оказываются гораздо менее радикальными, чем он хотел бы их представить. Если же он считает, что христиане не должны объединяться с другими членами общества, тогда ему едва ли есть что предложить нам, помимо ностальгии, утопических фантазий и ухода в строго изолированное убежище. В этом случае он обязан предоставить своим читателям резоны для того, чтобы они могли избежать вывода о том, что его теология ограничивает божественную власть и сдерживает благотворительную деятельность по отношению к нехристианам. При отсутствии убедительных аргументов читатель, возможно, придет к заключению о том, что Ранер был все-таки прав в отношении «анонимных христиан». Теперь рассмотрим итоговые вердикты, вынесенные Милбэнком современным социальным теоретикам. Возьмем в качестве примера Джона Рёскина (13). Милбэнк изображает Рёскина лучшим социальным теоретиком девятнадцатого века и достойным конкурентом как либерального, так и марксистского секуляризма. Но он отступает от своей линии, чтобы оградить Рёскина от упадочной светскости современного мира, когда объявляет его «относительно изолированным пророком» (ТСТ, 200). Милбэнк ясно дает понять, что данная Рёскином критика капитализма фокусируется на его понимании добродетелей и кратко останавливается на его концепции 152 ^ 4. <­A@­ &^& Средневековья, чтобы провести границу между ней и более вульгарными толкованиями. Милбэнк ничего не говорит о влиятельном предшественнике Рёскина Уильяме Коббете и о более близком по времени Томасе Карлейле, также повлиявшем на Рёскина. Он лишь мимоходом упоминает Уильяма Морриса (ТСТ, 188), хотя Моррис, без сомнения, был одним из тех деятелей культуры, кто более других испытал влияние Рёскина. Оставив без внимания эти фигуры, Милбэнк получил основания представить Рёскина как бы в относительной изоляции. На деле же он был не менее чем крупным представителем важнейшей традиции социальной критики современного периода, той традиции, которая ставила во главу угла характер и добродетель в их отношении к политике, экономике и архитектуре. На рубеже веков его влияние было значительным, и не в последнюю очередь в рабочем движении, в котором активно взаимодействовали социалисты христианского и нехристианского направлений. Опять-таки что имеет сказать радикальная ортодоксия по поводу этих соединенных действий, в которых участвовали и агностики, и атеисты? Ответа на этот вопрос Милбэнк не дает. Он также не анализирует подробно детали нормативного мышления Рёскина. Некоторые черты деятельности Рёскина достойны того, чтобы к ним вернуться, но задача отделения этих черт от всего, что заслуживает отторжения, весьма деликатна. Если говорить на общем уровне, суть вопроса, который необходимо рассмотреть, такова. Марксистские и либеральные формы секуляризма сегодня подвергаются критике, и не без оснований. К каким же сторонам более ранних религиозных и романтических форм социальной критики нам необходимо обратиться, что именно тревожит нас в негуманности глобальной капиталистической экономики и при этом негласно присутствует в пагубных подходах к вопросам расы, пола и иерархии? Философы и теологи пока что не дают удовлетворительного ответа. Но если высказываться честно, необходимо признать демократические убеждения, которые затрудняют многим из нас приятие определенных черт мышления Рёскина. Можно предположить, что здесь Милбэнк возвратится к теологии Блонделя как к контуру, в рамках которого он сможет истолковать собственные демократические убеждения. Но как случилось, что такой теолог, как Блондель, работавший в конце девятнадцатого века, пришел к отказу от иерархического мышления, унаследованного им от католической теологии? Откуда исторически происходит демократическая тенденция в его мысли? Обширный трактат Милбэнка об отношении теологии к социальной теории современного периода 153 почти полностью исключает демократию из общей картины. Отказ Блонделя от иерархии как будто чудом соткался из воздуха. Обратимся теперь к примеру Сэмюэла Тейлора Кольриджа. Милбэнк (ТСТ, 4) относит Кольриджа к традиции, которая приравнивается к «своего рода контрмодернизму», который «продолжает затенять реальную, светскую современность». Однако ни одного приверженца этой традиции нельзя воспринимать как контрпример, приводимый в пику предлагаемой теории современной секулярности. Авторы, следовавшие данной традиции, заранее определяются как не следующие, по сути дела, собственным установкам. Милбэнк не утверждает, что труды этих авторов включают в себя современную традицию мысли и деятельности, которая сумела приобрести влияние в секуляризованном политическом сообществе; он скорее видит в них контртрадицию, критикующую «все светское» с точки зрения, совершенно не совместимой с ним. Придавая своему анализу подобный дихотомический характер и ведя повествование с головокружительной быстротой, Милбэнк позволяет себе уходить от всевозможных осложнений и противоречий. Так, он ничего не говорит нам о причастности Кольриджа к несправедливостям реакционного монархического режима, имевшей место после того, как поэт оставил свои юношеские революционные упования. Мы не находим у Милбэнка ни слова о крупнейшем критике Кольриджа Уильяме Хэзлитте, который старался восстановить связь между романтизмом и демократическими симпатиями, унаследованными им от диссидентского протестантизма отца. Не обращается Милбэнк в своем анализе и к непоследовательным в религиозном отношении мыслителям, творившим на другом берегу Атлантики, таким как Эмерсон, Уитмен и Торо, которые искали свои способы демократизации бёркианского романтизма Кольриджа и Вордсворта. Если мы приглядимся к характеристикам Рёскина и Кольриджа, данным Милбэнком, все построение начнет рушиться. Демократическая жизненная сила современности явно затемняется «всем светским». A §¤ &^&­ Если Милбэнк надеется преодолеть «ложную скромность» современной теологии путем подтверждения ее претензий на право вынесения суждений в других дискурсах, то Нойхаусом движут более мирские устремления. Он — лейтенант в культурных войнах, отчаянно сражающийся в идеологических окопах. Если ему и свойствен154 ^ 4. <­A@­ &^& на ностальгия, то не по средневековой теократии, а по относительно недавнему прошлому, когда политические и интеллектуальные вожди Америки были почти единодушны в утверждении необходимости христианской веры как источника добродетели и солидарности в демократическом политическом сообществе. В 1960-х годах Нойхаус был лютеранским пастором, активным участником движения за гражданские права и лидером религиозной левой оппозиции американскому военному вмешательству во Вьетнаме. Но в 1970-х годах он сделался неоконсерватором и в конце концов обратился в римское католичество. Нойхаус верит: то, что папа Иоанн Павел II назвал «культурой смерти», может быть не менее справедливо названо культурой светского либерализма. Он считает, что неуважение к живым людям проистекает из двух корней: секуляристского отрицания необходимости религиозного фундамента, на котором строится нравственный и политический порядок, и либерального превознесения индивидуальной свободы над всеми прочими человеческими добродетелями. На обывательском уровне Америка остается религиозной страной, но вот уже полстолетия управляется светскими либералами. В результате многие религиозные американцы оказываются вынуждены принимать секуляристские практики. Политическое высказывание выхолащивается. Ни о грехе, ни об общем благе не говорится. Общественная трибуна освобождена от всех символов, которые в прошлом привлекали внимание к трансцендентальному источнику божественного суждения и нравственного порядка. Священная завеса, окутывавшая общественную трибуну, сорвана. Мыслитель, подобный Вольтерсторффу, приветствовал бы предлагаемую Нойхаусом критику секуляризма, но с недоверием отнесся бы к следующим из нее консервативным политическим выводам. Многие из тех, кто придерживается взглядов более левого толка, нежели Нойхаус, обеспокоены тем, что он не столько водружает священную завесу над общественной трибуной, сколько окутывает ею плечи тех политиков, которые ухудшили жизнь бедных слоев населения внутри страны и отравили жизнь жертв американского милитаризма за ее пределами. Джордж Хансинджер, один из наиболее интересных, с моей точки зрения, критиков Нойхауса, характеризует сложившуюся ситуацию следующим образом: «Лакмусовая проба… того, что Нойхаус желает легитимировать, дает ответ: может ли он одобрить систематическую критику роли Америки с позиций демократических идеалов. Не может, таков факт. Всякого, кто 155 имеет серьезные сомнения насчет того, во благо ли сегодня используется влияние Америки, обвиняют не в слабости рассуждений, а в нелояльности. Нойхаус имеет в виду, что такие люди виновны в измене своей стране. Отрицание всеобъемлющей благотворности американского влияния подается как измена демократии как таковой. Прибегая к утверждениям о нелояльности и в критические минуты предательстве, Нойхаус демонстрирует поразительную неспособность провести грань между американской системой и демократическими идеалами и тем самым показывает, в какой высокой степени отождествляет их. В любом случае, идет ли речь об Америке, о демократии или о том и другом сразу, религия используется строго в целях легитимации» (14). Это весьма сильные слова, но они обладают теологическим авторитетом — отчасти вследствие того, что Хансинджера не меньше беспокоит то, что левые сходным образом используют христианскую теологию. В качестве альтернативы антисекуляристскому манифесту Нойхауса «Христианство и демократия» (1981) он выдвигает «Барменскую декларацию» 1934 года, написанную по преимуществу крупнейшим швейцарским теологом Карлом Бартом и горячо и единодушно одобренную синодом, который состоял из делегатов от лютеранской, Реформатской и Объединенной церквей. По мнению Хансинджера, Барменская декларация являет собой яркий пример того, как важно для Исповедующей церкви сохранять единство своих теологических постулатов, не отказываясь при этом объединяться с другими в борьбе за справедливость и мир. В Декларации в недвусмысленных выражениях заявляется, что теологические постулаты должны определять политическое положение церкви в мире. Ничто не находится вне пределов Царства Христова, и теология не вправе подчиняться светским программам или идеалам. Язык Барта не менее определенен, чем язык Милбэнка. Но если Декларации, согласно ретроспективному взгляду Барта, несколько недостает определенности, провозглашенное в ней «нет!» нацизму было достаточно откровенным, чтобы направить исповедующую церковь на «курс столкновения» с германским государством. Барта не удовлетворял простой отказ от всего светского. Он был приверженцем определенной программы прогрессивной политики, согласующейся с ортодоксальной христианской доктри В Барменской декларации провозглашалось создание Исповедующей церкви, которая заявляла о несовместимости христианских догматов с идеологией и политикой нацистов. 156 ^ 4. <­A@­ &^& ной. Хансинджер утверждает, что столь же решительная прогрессивная политика сегодня требуется от христиан, если они хотят избежать идолопоклонства перед американской мощью, которое, как ему представляется, присутствует в работах Нойхауса. Представленная Хансинджером критика воззрений Нойхауса может показаться не более чем еще одним вкладом в культурные войны; однако это не так. Я нахожу ее воодушевляющей не только потому, что мне по душе предлагаемая в ней политика, но и потому, что в ней налицо серьезный подход к политической теологии, чего, судя по всему, не хватает Милбэнку. Радикальная ортодоксия выиграла кое-что благодаря широко распространившемуся мнению, что ее отрицание всего светского является единственной теологически приемлемой альтернативой неоконсерватизму Нойхауса, с одной стороны, и либерализму и теологии либерационизма, с другой. Апелляция Хансинджера к Барту и политике сопротивления, вытекающей из тезисов Барменской декларации, освещает перед нами другую альтернативу. Она не менее ортодоксальна, чем радикальная ортодоксия, но гораздо более конкретна в своих политических приложениях и более прямо направлена на теологические вопросы, за пренебрежение которыми я упрекал Милбэнка. Результатом этой критики явился теологически содержательный анализ того, что означает для христиан участие в жизнедеятельности современных, секуляризованных политических сообществ. Как мы увидели, политическая теология Барта сходится с отказом радикальной ортодоксии от всего светского постольку, поскольку она делает акцент на существующей власти Христа над областью секуляризованной политики и на необходимости признания христианами авторитета «аутентичного, исходящего из Писания гласа Иисуса Христа» при принятии ими политических решений. Но, подтвердив свою верность этим принципам, Хансинджер тут же идет дальше, говоря, что в них «не подразумевается, будто ничто доброе, прекрасное, истинное или заслуживающее внимания не существует за пределами Писания или церкви» (15). Ни один человек, приверженный в отношениях с другими людьми таким ценностям, как милосердие и справедливость, не должен бояться светского мира или попросту отвергать его. Он является скорее ареной, на которой христианин может надеяться провозглашать слово Божие и наблюдать преображения в жизни Божьих созданий, происходящие под влиянием божественной любви. Дух политической теологии Хансинджера наиболее лаконично выражается в афоризме Барта: «Бог может говорить с нами через русский коммунизм, кон157 церт для флейты, цветущий куст или мертвую собаку» (16). Если Бог говорит с нами словами безбожного коммунистического учения, тогда почему бы и не теми словами, которые используют христиане и нехристиане, возлагая друг на друга ответственность за справедливость и достоинство принимаемых ими институциональных соглашений? Хансинджер возвращается к этой теме в эпилоге своей книги «Как читать Карла Барта», где развивает идеи соответствующих фрагментов части 3 4-го тома «Церковной догматики» (17). Именно там Барт представляет нам наиболее детализированные ответы ортодоксальной христианской теологии на вопросы о светском мире, которые ставит радикальная ортодоксия. Прямолинейный тезис, с которым Барт приступает к рассмотрению своего предмета, восходит к Барменской декларации (IV/3, 3, 86). Снова Барт утверждает, что Иисус Христос есть единая Истина и единый Свет, а все прочее пребывает в его власти. Тем, кто сетует на то, что «бесцеремонность» такого утверждения «делает практически невозможным обсуждение и обмен мнениями между теми, кто его отстаивает, и теми, кто не может или не желает его принимать, ведет к обрыву взаимосвязи и истощает последний ресурс товарищеских взаимоотношений между христианами и нехристианами», Барт невозмутимо говорит: у христиан «нет выбора в данном вопросе» (IV/3, 89–90). Христианин — это тот, кто видит в Иисусе Христе единую Истину и единый Свет. Сказать меньше значит встать на позиции, отличные от христианской доктрины. Однако христиане, утверждая Христа как единую Истину, неправомерно претендуют на обладание Христом. И наоборот: если Христос есть единая Истина, то христианин, утверждающий его в этом качестве, не есть единая Истина. При правильном понимании данное утверждение предполагает смирение. «Единственная необходимая забота сообщества и христиан состоит в том, чтобы не высказываться [в отношении данного утверждения] в каком-либо ином духе, а не в духе подчинения и смирения, который объединяет их всех тем, что в этом утверждении содержится» (IV/3, 91). Если следовать Барту, христиане, открыто утверждающие Христа как единую Истину, говорят правду. Они провозглашают некую истину. В этом контексте указанная разница нюансов очень важна. Церковь есть место, где изрекаются истины. Однако церковь есть также место, где провозглашается множество заблуждений. Она не идет от утверждения Христа как носителя Слова Божия, причем «всякое слово, изреченное вне границ Библии и Церкви, есть сло158 ^ 4. <­A@­ &^& во лжепророчества и потому не имеет ценности, оно пусто и извращено» (IV/3, 97). Отсюда следует, что «Слово, изреченное при существовании Иисуса Христа», отлично «от всех других». «Когда мы думаем об этих других, мы включаем в их число даже слова, произнесенные в присутствии и при свидетельстве мужей Библии и Церкви. В отличие от всех прочих, Иисус Христос есть единое Слово Божие» (IV/3, 99; курсив мой. — Авт.). Таким образом, когда христиане задаются вопросом, где следует отыскивать истины (во множественном числе), они должны быть готовы к поискам как внутри церкви, так и за ее стенами. Но где бы они ни искали, им следует оставаться недоверчивыми и критически настроенными, но при этом и открытыми к возможной необходимости переменить свои взгляды. Где бы они ни нашли важные истины, высказанные другими людьми, они должны понимать, что к ним обращается сам Христос — через единую Истину, единый Свет, единое Слово. Барт называет истинные слова, произнесенные вне церкви, или праведные жизни, прожитые вне ее, «светскими притчами о царстве» (IV/3, 114). Как и в притчах Нового Завета, Иисус Христос для них есть исконный источник, равно как и критерий, который каждый христианин обязан использовать при их оценке. Говорит ли с нами Иисус Христос посредством таких слов? Ответ в том, что сообщество, живущее по единому Слову единого Пророка Иисуса Христа, удостоенное чести и обретшее право нести это Слово Его в мир, не только может, но и должно принять тот факт, что есть такие слова, и оно также должно их слышать, вопреки своей жизни в согласии с этим единым Словом и своей миссии проповедовать его… Достаточно ли воспринимать его только через Священное Писание и затем из его собственных уст, произнесенным его собственным языком? Не достойна ли благодарности возможность услышать его также извне, во множестве самых разных слов людей, в светском иносказании, даже если такая возможность поддерживается и проводится в жизнь библейским, пророческиапостольским свидетельством этого единого Слова?.. Есть ли у нас весомые основания отвергать этот стимул, это руководство, в какой бы форме они ни были выражены, из какого источника ни происходили?.. Непременно ли последует окостенение, если сообщество заранее отказывает существованию и слову этих сторонних свидетелей в правоте? (IV/3, 115) Отсюда Барт делает вывод, что христиане «могут и должны быть готовыми к принятию “притч о царстве” в их полном значении, заложенном в Библии, и не только в текстах Библии и различных об159 щественных соглашений, в трудах и словах Христианской Церкви, но и в светской области» (IV/3, 117). Следовательно, неправильно простое отрицание всего светского, поскольку оно равносильно отрицанию свободного права Христа использовать светские притчи там, где он находит их уместными; такое отношение означало бы отвержение сферы, в которой Слово Божие звучит в словах людей. «Мы не должны забывать, что если человек вправе отрицать Бога, то Бог, если верить Слову умиротворения, не отрицает человека. Человек вправе враждебно воспринимать Благовествование Божие, но сие Благовествование не враждебно ему… Могут ли быть менее вероятными или даже невозможными его осуществление и воздействие в прямом отношении к человеку?» (IV/3, 119) Почему все вышесказанное, по мнению Барта, представляет собой вопрос жизни и смерти? Прежде всего дело в том, что принятие Христа как носителя истины прямо соотносится с вопросом о том, кто же властен над жизнью и смертью. Но имеет значение и то, что простое отрицание всего светского освобождает христианина от обязанности различать слова истины и лжи, произнесенные и воплощенные в жизнь за пределами стен церкви, и тем самым подвергает риску жизнь и надежды невинных людей. Именно для того, чтобы напомнить об этом своим читателям, Барт начинает свою аргументацию с обращения к Барменской декларации. Простое отрицание всего светского в Германии 1934 года и в многих иных контекстах явилось содействием силам лжи и зла. Христиане всегда должны быть готовы к участию в более широкой дискуссии, в которой могут быть произнесены самые разные слова. Их суждения в данной области должны демонстрировать их горячую приверженность своим убеждениям. Они обязаны говорить правду — в том смысле, в каком они ее понимают, — и тем самым утверждать Иисуса Христа в качестве истины, и при этом платить должную цену за то, что они высказывают. Они обязаны противостоять всем проявлениям плюрализма или релятивизма, несовместимым с их практикой утверждения истин или с их приверженностью данным истинам. У всех участников дискуссии непременно найдутся собственные аргументы. В отсутствии утверждения истин невозможно общение, невозможен обмен аргументацией. Ни один человек не может делать декларативных заявлений, не подразумевая, что тот, кто отрицает его утверждения, привержен ложным убеждениям. И в этом, собственно, никакой бесцеремонности нет. Но, как говорит Хансинджер, «правда там, где человек ее находит» (18). И в таком случае было бы бесцеремонным утверждать, что кому-то заранее известно, какие 160 ^ 4. <­A@­ &^& голоса людей правильны. Именно это имеют в виду секуляристы, когда обходят правила дискуссии, чтобы исключить из нее голоса верующих. Об этом же говорят и христиане, когда исходят из того, что церковь является единственным источником истин. ^­, §¶¥ ]¶ &&() &< В главе 3 я заявил, что мы все выиграем от более полного выражения каких бы то ни было этически оправданных религиозных и нерелигиозных убеждений, которые разделяют наши соседи. В обществе, разнородном в религиозном отношении, то есть в таком обществе, как наше, еще важнее осуществлять рефлексивное выражение убеждений, которые в иных условиях оставались бы неявно выраженными в рамках религиозных сообществ. Люди, принадлежащие к религиозному сообществу, могут выиграть благодаря такому выражению, поскольку прислушаются к себе и окажутся в положении, удобном для критического осмысления своих убеждений. Люди, находящиеся вне религиозного сообщества, извлекут для себя пользу, если с большим пониманием выслушают положения, которые их сограждане нечасто могут высказать в полном объеме. Таков один из способов преодоления того карикатурного образа верующих, который доминирует в риторике культурных войн. Призвание теологов, как заметил однажды Ханс Фрей, сродни исканиям этнографов, последователей Гирца. Разумеется, их основная экспрессивная задача состоит в том, чтобы открыто сформулировать убеждения, которые в неявной форме содержатся в практиках сообщества, и тем самым способствовать рефлексивному самопознанию (19). Но их вклад в дискурс, осуществляемый вне пределов церкви, представляет собой своеобразное подробное описание, позволяющее согражданам преодолеть предубеждение и неверное понимание того, что занимает мысли и чувства верующих. Ясно, что никакая теология в наших условиях не может рассчитывать на то, что ей удастся придать экспрессивное равновесие убеждениям и действиям всех граждан современного демократического общества. Но с данным ограничением приходится считаться не только теологам. Все, кто выступает в поддержку того, что Ролз называет всеобъемлющими доктринами, находятся в одинаковом положении, так как многоконфессиональная демократическая Фрей, Ханс (ум. 1988) — немецкий протестантский богослов; Гирц, Клиффорд (1926–2006) — видный американский антрополог и этнолог. 161 культура привержена атеистическим убеждениям не более, нежели теологическим. При обсуждении религиозных вопросов интеллектуалы в наших условиях в состоянии приводить свои индивидуальные убеждения в состояние экспрессивного и критического равновесия. Они могут сослужить такую же службу группе, к которой они принадлежат: своим собратьям-католикам, мусульманам, консервативным иудеям, поклонникам естественного благочестия Вордсворта, сельским атеистам и т.п. Но когда они это делают, не стоит заблуждаться, будто они формулируют неявно существующие убеждения и практики всех своих сограждан в целом. Впрочем, сказанное не накладывает ограничений на тех, к кому эти интеллектуалы обращаются, или на тех, кто желает к ним прислушиваться. Недавние дебаты на тему «публичной теологии» страдают от непонимания значения этого термина. Понятно, что у публичной теологии мало шансов на успех, если эта фраза означает попытку привести в состояние экспрессивного равновесия теологические убеждения, разделяемые всеми членами нашего общества, поскольку таких общих для всех убеждений не существует. Теолог вправе отказаться от такой попытки как нереалистичной, не отказываясь при этом от надежды привлечь внимание публичной аудитории, то есть такой, которая включает в себя также граждан, не принадлежащих к церкви. Не стоит и говорить, что одни интеллектуалы попросту не интересуются богословием, а другие враждебно к нему относятся или склонны высмеивать его. Есть и такие теологи, которые считают атеистов презренными глупцами и полагают, что эти люди добровольно вследствие своего невежества и эгоизма отворачиваются от религиозных истин. Но почему мы должны позволять таким людям мешать нам, прочим гражданам, приходить к некоему взаимопониманию? Отчасти корни проблемы лежат в нашем представлении об общественной сфере как о месте, напоминающем площадь Нойхауса. Но это не есть место. Человек обращается к общественности всякий раз, когда обращается к людям как к гражданам. В условиях современной демократии этого не происходит в каком-либо одном месте. Не бывает и так, чтобы все граждане делали это одновременно. Там, где присутствуют двое или трое граждан, к которым оратор может обратиться как к гражданам, как к людям, совместно ответственным за общее благо, он занимает потенциально публичную позицию. Представьте, что вы обращаетесь к нескольким членам гражданского общества, имея в виду их способность выступить в роли потенциальных политических субъектов, и вполне рас162 ^ 4. <­A@­ &^& считываете, что ваши призывы рано или поздно займут некоторое место в их этической аргументации или что они передадут ваши тезисы другим участникам политического процесса. В этом случае вы выступаете публично — в единственно правильном смысле слова. И напротив, частная беседа либо не предполагает обращения к вопросам, волнующим народ как целое, либо подразумевает конфиденциальность. Если вы излагаете религиозные убеждения вдумчиво и доказательно, когда обращаетесь к другим людям как к гражданам, то вы публично «занимаетесь теологией», а следовательно, занимаетесь публичной теологией. Теолог, понимающий, что было бы неразумно стараться вместить религиозные убеждения в рамки единой «публичной теологии», именно по этой причине, будучи теологом, не оказывается вынужденным уходить от публичного дискурса. Я предположил, что демократия выиграет, если большее число граждан примет участие в «длительном, даже неспешном процессе раскрытия» своих убеждений. Наш этический дискурс стал заметно ослабевать — по понятным причинам, которые призвано раскрыть мое рассуждение о секуляризованных дискурсах. Мы часто обнаруживает, что хотим убедить людей, не сходных с нами, согласиться с нашими выводами, и потому пользуемся обедненным словарем, который может использовать практически каждый, вне зависимости от религиозных противоречий. Этот словарь теряет теологический характер, так как он должен выражать предпосылки, которые некоторые наши сограждане отвергнут по религиозным соображениям. Потому мы строим наши публичные выступления на таких основаниях, которые, по нашему мнению, придутся по душе как можно большему числу людей. Но даже если сегодня мы одержим победу, наша аргументация в такой форме не очень-то поможет нам создать язык и открыто сформулировать постулаты, которые мы использовали, когда сами шли к выводам, в защиту которых желаем высказаться. Резоны, которые мы представляем вниманию людей, не похожих на нас, когда пытаемся убедить их принять небезразличный для нас вывод, вовсе не обязательно должны быть теми, которые первоначально привели нас самих к этому выводу. Чем больше беднеет публичная аргументация, тем меньше сограждан понимает язык друг друга в ходе индивидуальных рассуждений. В таком случае общественные дискуссии легко могут выродиться в серии попыток манипулировать массами без высказывания причин. Когда такое происходит, может очень быстро распространиться цинизм в отношении 163 политических заявлений, и индивиды, возможно, захотят замкнуться в рамках менее многочисленных, более однородных сообществ, члены которых в своих индивидуальных рассуждениях используют общий язык. Но дискуссии, ограниченные рамками малой группы, вполне могут терять остроту по мере того, как среди членов малой группы развивается подозрительность в отношении невысказанных мотивов, движущих членами других малых групп. И тогда широкий плюрализм в обществе начинает восприниматься как нечто заведомо вредоносное. А когда цинизм и подозрительность начинают преобладать, с ними бывает крайне трудно справиться, поскольку взаимное отчуждение граждан, замыкающихся в разных анклавах, препятствует их доступу к опыту, который мог бы восстановить доверие и взаимное уважение. В настоящее время эти тенденции обостряются в силу изменений в технологиях и экономике информационного обмена. Радио, кабельное телевидение и Интернет заметно способствовали росту доли информации, получаемой средним индивидом исключительно изнутри анклава, к которому он принадлежит (20). Таким образом, существенно снижаются шансы на то, что требования и аргументы, циркулирующие внутри одного анклава, будут в неискаженном виде восприняты членами другого. Для современного общества характерно, что идеологи и корпорации, контролирующие распространение информации, заинтересованы в том, чтобы анклав, для которого они являются поставщиками новостей и мнений, сохранялся резко дифференцированным и однородным. В их интересах в возможно большей степени подрывать репутацию и экономическую эффективность источников, призванных поставлять новости и образчики политического дискурса обществу в целом. Едва ли стоит удивляться тому, что значительная часть идеологического содержания выпусков некоторых информационных источников направляется на то, чтобы представить такие средства массовой информации, как «Нью-Йорк таймс», Национальное общественное радио и другие источники широкого вещания, инструментами в руках тенденциозно настроенных элит. Когда разрушается доверие к таким информационным учреждениям, ориентированные на анклавы источники информации получают финансовую выгоду, поскольку все больше индивидов удаляется в анклавы. При этом изобретаются различные формы маркетинга и убеждения для манипулирования желаниями и мнениями граждан и их удовлетворения. Но присутствует здесь также и политическая выгода, так как объединенные подобными способами индивиды, как правило, составляют отдель164 ^ 4. <­A@­ &^& ные сообщества избирателей, в чьих голосах могут быть заинтересованы претенденты на общественные посты. Итак, у нас есть причины для тревоги по поводу состояния общественного дискурса. Но если я прав в своем представлении об исторических причинах секуляризации и нынешней раздробленности общества, то школа негодования в теологии лишь усугубляет ситуацию. Теологические учения, создаваемые для того, чтобы выражать, отстаивать и усиливать негодование по поводу всего светского, суть симптомы болезни, которую должно лечить. Они являются идеологическим обоснованием существования общественных анклавов. Их социальная задача — узаконить идентификацию индивидов с анклавом как первичной ячейкой общества. Основной метод создания солидарности внутри малых групп — дискредитация либералов, применяемая как форма ритуального жертвоприношения (21). Этот ритуал предстает перед нами в двух видах, в зависимости от того, где — внутри анклава или за его пределами — находятся козлы отпущения. В первом случае создается негативный образ верующих, главным образом теологов, которые идентифицируют себя с существующими в широких общественных рамках движениями за демократические реформы. Второй тип ритуала — это укрепление взгляда на неверующих как на символических представителей секуляризма, определяющего, как принято считать, характер широкого общества. В обоих случаях цель описываемой деятельности — определить границы анклава и не допустить их пересечения гражданами. Конечно, радикальная ортодоксия не поддерживает в открытую анклав как форму организации общества. Ее представители иногда говорят, пусть весьма кратко и абстрактно, о возможности христианского социализма. В других случаях они колеблются между ностальгией по теократическому образу христианского царства и утопией «евхаристического анархизма», которая обещает правление в отсутствии государств (22). Милбэнк говорит, что церковь «неверно понимает себя», когда проводит границы вокруг «своего» и исключает «другое» (23). Но предлагаемая радикальной ортодоксией критика всего светского в современных условиях, пожалуй, только способствует укреплению границ, против чего формально возражает. Радикальная ортодоксия обвиняет существующую общественную сферу за непризнание необходимости Евангелического повиновению царству Христа, иными словами, за то, что она не являет собой того типа политического сообщества, существование которого сделалось невозможным, когда христианский мир открыл 165 двери перед процессом секуляризации. Но и ностальгия по христианскому царству, и утопия евхаристического анархизма, не подкрепляемые политической теологией в духе Хансинджера, грозят погрузить мир, существующий за пределами церкви, в полную тьму. Укрывшиеся под покровом радикальной ортодоксии агрессивное единомыслие, исполняемое в пророческом стиле отрицание всего светского, присущего «другим», и разоблачение либеральных теологических заблуждений ритуально скорее укрепляют границы анклавов, нежели исцеляют мир. Мыслителям, исповедующим призвание теологии в демократическом контексте, часто приходится разрываться добродетелью беспристрастного милосердия и своей функцией толкования убеждений, свойственных их внутрицерковному сообществу. Их церковное служение может требовать от них благотворного умения прислушиваться к другим, но оно же накладывает на них обязанность не отходить от всего того, что составляет отличительные особенности убеждений членов сообщества. Многие из них являются академическими теологами и прекрасно ощущают это противоречие, проявляющееся в диалогах с другими; они чувствуют, что сила разума оказывается не в ладу с их исповеданием веры. Ван Харви изобрел термин для обозначения тех, кто привержен одному из путей разрешения противоречия: он назвал их «отчужденными теологами». Отчужденные теологи не утратили заинтересованности в слове Божием, но стоят в стороне от некоторых или всех фундаментальных догматов, разделяемых их собратьями по вере. В результате членам их сообществ непросто считать их выразителями своих взглядов. В крайних случаях они выступают исключительно от своего собственного лица и становятся теологами в ином смысле слова. В этих случаях утрачивают силу обязательства церковного служения. Роль отчужденного теолога в культуре ничем не отличается от роли всякого человека, кто предлагает свои ответы на важнейшие вопросы. А это означает выражение личных убеждений, а не формулирование убеждений, разделяемых членами группы. Следует приглашать отчужденных теологов к демократическому диалогу со всеми гражданами доброй воли. Их интеллектуальная честность и независимость могут послужить ценным вкладом. С теологической точки зрения, многие из них движутся в направлении тех ересей, которые мне по сердцу, поэтому я был бы рад их обществу. Однако я боюсь, что демократии будет нанесен немалый урон, если ортодоксальные христиане не смогут найти способа сочетать свои убеждения с верностью своей гражданской ответственности. 166 ^ 4. <­A@­ &^& Теологи, не отчужденные от своих религиозных сообществ, пока что играют решающую роль в формировании отношения к нашему нынешнему кризису. Хансинджер едва ли может считаться отчужденным теологом. Он — человек, всем сердцем приверженный своему церковному служению, носитель «финального словаря» религиозной традиции. Как и все мы, он не готов отстаивать этот словарь в непротиворечивом ключе. Признание этого факта — составляющая смысла обращения к изречению Ансельма: «Верую, чтобы понимать», обращения в духе теологии Барта. Это означает, что он исходит из посылок, которые не умеет защищать в прямой однозначной форме. Но он полностью принимает на себя ответственность за разъяснение и отстаивание логически выведенных и практических убеждений, которые в неявной форме содержатся в его словаре. Он самокритичен, когда развивает и проверяет свои посылки. И он выступает с позиций готовности к диалогу, готовности учиться у христиан и нехристиан, которые смотрят на мир другими глазами (24). Хорошо, что Хансинджер определенным теологическим языком высказывает свои взгляды по вопросам, которые волнуют как принадлежащих, так и не принадлежащих к церкви людей. Он разделяет тезис Барта: «Граница между Церковью и светским миром все еще может в любой момент отклониться от той зоны, где мы, как нам кажется, ее провели». И он рад возможности быть услышанным по обе стороны названной границы (25). Конечно, было бы бессмысленно требовать, чтобы диалог через означенную границу строился на основе христианских теологических предпосылок (понимаемых во втором определенном мной значении). Но это нисколько не умаляет цельности высказываемых Хансинджером тезисов, которые, несомненно, строятся на основе теологических предпосылок, понимаемых в первом смысле. Хансинджер не подражает с великой охотой формам мышления, лежащим за пределами его традиции, равно как и не сожалеет о том, что светский мир существует. В его представлении ни одна деталь в сотворенном мире никогда не находится и никогда не окажется вне сферы милости Божией. В том числе и секуляризованные практики, принятые в современном демократическом обществе. Его аргументация предполагает, что простой отказ от этих практик, с чисто ортодоксальной точки зрения, будет означать оскорбление власти Бога. Видит ли Хансинджер основания для надежд христиан Соединенных Штатов? О да, и прежде всего — в «жизненной стойкости черной церкви», которая всегда многое делала для того, чтобы «все 167 остальные оставались честными». И напротив, он считает, что белая церковь пережила «несчастный, самосохраняющийся и уродливый раскол между фундаментализмом, не знающим справедливости, и либералами, не знающими учения». Но есть и другие благоприятные знаки, в том числе и «духовно обоснованное гражданское неповиновение» разных типов. Силы духовного неповиновения (среди католиков это такие группы, как Pax Christi, среди протестантов — «Всемирные Миротворцы») добиваются успехов в акциях сопротивления. «Страстная пятница» патрулирует улицы Манхэттена и заканчивает актами гражданского неповиновения у институтов ядерных исследований; «Мирные пятидесятники», христиане, распевающие Евангельские гимны и возносящие молитвы за мир, оказываются под арестом у ротонды Капитолия, в то время как в пределах слышимости в Конгрессе ведутся дебаты о финансировании программы разработки ракет MX — возможно, это и есть семена исповедующей церкви завтрашнего дня (26). Если в ближайшее десятилетие это воззвание удостоится не меньшего внимания христиан, чем удостаивалась в предыдущее десятилетие школа негодования, в выигрыше останутся и демократия, и ортодоксия. 168 ^ 5. &() @&A¤ Глава 5. НОВЫЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ ^ 5 НОВЫЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ Алисдер Макинтайр и Стэнли Хауэрвас уже не раз упоминались на этих страницах как яркие критики политической культуры современной демократии. Я уже отмечал, что их влияние особенно велико в духовных учебных заведениях, где определение «либеральный» в наши дни едва ли любят употреблять в качестве комплимента, как оно употребляется в области политической деятельности президентской администрации. Их труды, безусловно, являются источниками недовольства секуляризмом, о чем шла речь в предыдущей главе (1). Сейчас я хотел бы пристальнее рассмотреть ту форму традиционализма, которую исповедуют Макинтайр и Хауэрвас. С точки зрения, принятой в этом исследовании, наибольшее беспокойство вызывает тенденция этого традиционализма препятствовать идентификации граждан с либеральной демократией. В представляемой Макинтайром характеристике современности термин «демократия» почти не появляется. Однако все, что считается либеральным, подвергается в его сочинениях резким нападкам. Как нетрудно увидеть, он подразумевает демократию, равно как и тоталитаризм, когда отрицает «современную политику как таковую» как явление, которое непременно должен отвергнуть всякий, «кого узы обязательств связывают с традицией добродетелей». Макинтайр видит в современной демократии не более чем «гражданскую войну, ведущуюся другими средствами» (2). Хауэрвас не только подтверждает правоту Макинтайра в каждом из означенных пунктов; он даже поднимает планку и превосходит Макинтайра в риторической избыточности. Отсюда следует, что друзья демократии не могут не испытывать озабоченности в связи с влиянием, которым пользуются названные авторы, в особенности в тех районах, где весьма вероятно пренебрежительное отношение к строчкам, напечатанным мелким шрифтом. Но здесь присутствует и серьезный интеллектуальный вызов, которые обязаны принимать во внимание демократически настроенные мыслители. Макинтайр и Хауэрвас больше, чем дру169 гие аналитики последних десятилетий, сделали для того, чтобы поставить перед нами кардинальный вопрос. Есть ли у нас основания радоваться пребыванию среди людей, они стали под влиянием современных идей, практик и институтов? Ответ традиционалистов — конечно же, нет. Мы таковы, какими сделали нас рынок и либеральное государство, — самодостаточные индивидуалисты, готовые взять то, что нам хочется получить. Традиционалист предпочел бы сказать, что нам попросту недостает добродетелей, которые требуются для поддержания достохвального образа жизни. Поскольку нас не связывает привязанность к единой, общей для всех традиции, мы не имеем права принимать как данность слишком многое при ведении диалога с другими людьми. А в результате получается, что наш публичный этический дискурс представляет собой какофонию отдельных заявлений. Функция такого дискурса состоит только в том, чтобы выражать то, что мы чувствуем, и потому не стоит удивляться, что все наши проблемы не решаются. В этих упреках, несомненно, что-то есть; в противном случае новые традиционалисты едва ли удостоились бы внимания кого-либо, кроме их прямых последователей. Сделанное ими описание современного этического дискурса внушает немалую тревогу. Наверное, на первый взгляд достаточно правдоподобно и потому требует серьезной и взвешенной реакции. И все же мне кажется, что у многих, кого привлекают идеи Макинтайра и Хауэрваса, сохраняются некоторые их прежние демократические симпатии, от которых новый традиционализм отмахивается или открещивается. Скажем, эти читатели на деле не захотят влиться в традиционное сообщество, в котором женщины ущемлены в правах по сравнению с мужчинами, в котором царь отказывает подданным в праве на открытые высказывания по политическим вопросам. Они будут глубоко возмущены досовременными формами судебного разбирательства и наказаний. Они будут резко возражать против браков, которые им стали бы навязывать родители. Получается, что такие люди будут изменять себе, действовать вопреки зову сердца всякий раз, когда будут прибегать к традиционалистским категориям, выражая недовольство современным обществом и отказываясь озвучивать или разъяснять свои демократические симпатии. В описанном контексте наиболее пристального внимания от нас потребуют такие две категории, как традиция и современность (modernity), составляющие неразделимую пару. Традиционализм нуждается в дихотомическом определении этих категорий; в ином случае он был бы не в состоянии произвести их четкое и простое 170 ^ 5. &() @&A¤ разделение, к которому он прибегает, чтобы оправдать отрицание «современной политики как таковой». В эту дихотомию заложено полуосознанное представление, что подлинная современность, будучи по своей сути антитрадиционной, не имеет традиций. Современность — а точнее, современная демократия — есть то, что приносит с собой отречение от традиции и оставляет нас после добродетели. Мы еще увидим, как Макинтайр и Хауэрвас порой спекулируют на этом представлении и при этом оставляют значительную часть современного этического дискурса в области невидимого. Я намерен показать, что в числе вариаций, оставшихся ненаблюдаемыми, находятся традиционализм романтиков, которому новые традиционалисты обязаны взятыми ими на вооружение основными образами, а также мысли Эмерсона, развитые в трудах Уитмена и Дьюи. Как я постарался доказать в главе 1, последнее направление представлено скромными образчиками современного мышления, в котором добродетелям уделяется не меньше внимания, чем в трудах традиционалистов. Отличает же это философское направление от традиционализма его стремление заново осмыслить добродетели в демократических понятиях. Выводом из моего анализа будет утверждение, что новый традиционализм представляет нам современный этический дискурс во многом в ложном свете. Эту главу я начну с рассмотрения нескольких вариантов картины, нарисованной Макинтайром, а в следующих двух главах обращусь к вариациям Хауэрваса на те же темы. §]¤ '< A&­ Макинтайр опубликовал «Краткую историю этики» более тридцати лет назад (3). И с тех пор постоянно переписывал ее: разрешал проблемы, связанные со структурой повествования, представлял открытое изложение различных постулатов, на которых базировались его прогнозы, снова и снова давал определения своим предпочтениям, менял свое отношение к некоторым частностям, добавлял новые детали, но никогда не отступал от своего глубокого недовольства либеральным обществом. Еще в 1966 году он говорил, что «яд индивидуализма в течение четырех веков поражал наши нравственные структуры» и «мы живем не с единственной унаследованной нами нравственностью, но с несколькими хорошо согласующимися между собой нравственностями» (КИЭ, 266). Эта книга вышла более резкой, чем введением в предмет, каковым она могла показаться, так как была задумана для объяснения, каким образом современ171 ная нравственная философия зашла в тупик по причине пренебрежения своей историей и каким образом на протяжении этой самой истории сам нравственный дискурс утратил цельность. Далее Макинтайр писал: «Концептуальный конфликт в нашей ситуации имеет эндемический характер по причине глубины наших нравственных конфликтов» (КИЭ, 268). Сейчас он нередко прибегает к другому взгляду на проблему, говоря, что концептуальный конфликт является причиной глубины конфликта нравственного. Но перспектива в любом случае остается неутешительной: «Каждому из нас приходится выбирать, с кем он желает объединяться и какими целями, правилами, добродетелями желает руководствоваться. Эти два выбора неразрывно связаны между собой» (КИЭ, 268). Как же должно осуществлять выбор словаря? Это зависит от того, пребываем ли мы внутри гармоничного сообщества, привержены ли мы заочно его взглядам, практикам и методам рассуждения. «Находясь в рамках моего личного морального словаря, я оказываюсь подчиненным заложенным в нем критериям. И эти критерии будут разделять со мной все, кто говорит на одном со мной моральном языке» (КИЭ, 268). Но если я не нахожусь заведомо внутри гармоничного сообщества, не привержен принятым в нем стандартам суждений, как мой выбор словаря может быть чем-то иным, чем выражением моего произвольного предпочтения или воли? Первая книга Макинтайра «Марксизм» появилась в 1953 году, когда ее автор «мечтал быть и христианином, и марксистом». Но к середине 1960-х годов он «стал скептически смотреть и на то, и на другое учение», а потому пересмотрел в соответствующем ключе свою книгу и выпустил новое издание под названием «Марксизм и христианство» (4). Уже не будучи ни христианином, ни марксистом, он к тому времени приблизился к либерализму. Кем же тогда он был? По-видимому, он обрел себя вне пределов нравственных традиций, которые некогда намеревался интегрировать, по-прежнему оставался в отчуждении от широкого общества, но при этом был не в состоянии отождествить себя с другим определенным сообществом или с другой традицией. Отсюда и некоторая горечь в следующих его словах, появившихся в «Краткой истории этики»: «Я должен усвоить некий моральный словарь, если хочу вступать в какиелибо социальные отношения. Ведь если не подчиняться правилам, не почитать добродетели, невозможно разделить свои устремления с кем-то еще. Я приговорен к социальному солипсизму. Но я должен сделать свой выбор: с кем я должен быть нравственно связан. Я дол172 ^ 5. &() @&A¤ жен выбирать между альтернативными формами социальной и моральной практики» (КИЭ, 268). Пусть эти слова отдают горечью на личном уровне, но в них также содержится проблема теоретической последовательности «Краткой истории этики», как позднее признавался сам Макинтайр. Я назвал эту проблему проблемой точки зрения. Повествование, в котором автор в терминах нравственности разъясняет, каким образом нравственность распалась, и объясняет, что этот вывод катастрофичен. Но мы остаемся в неведении насчет того, с какой точки зрения мог быть вынесен вердикт и как самой этой точке зрения удалось избежать подразумеваемого приговора. Если бы Макинтайр изначально не стоял на определенной и подлежащей обоснованию точке зрения, то трагические интонации его повествования и выраженных в нем разнообразных оценок были бы беспочвенными. Однако в тот период Макинтайр был готов встать на защиту своей позиции только против представлений эпохи о самой себе (5). Почва, на которой он занял свою позицию, оставалась скрытой от читателя. Таким образом, Макинтайр поставил перед собой задачу осветить точку зрения, с которой он писал свою историю и выражал свою неудовлетворенность. Эта задача предполагала открытое выражение не признававшихся ранее постулатов, уточнение и распространение их посредством систематической рефлексии и расположение их на страницах должным образом переосмысленной истории этики. Работа над задачей по освещению была только начата в книге «После добродетели», наиболее авторитетном изложении воззрений новых традиционалистов. Заключения, приведшие к созданию «После добродетели», видятся мне более или менее такими. Если Макинтайр рассчитывал вынести уничтожающий обвинительный приговор нравственному дискурсу своей эпохи, то он изложил бы точку зрения, принадлежащую той самой эпохе, которую он намеревался приговорить. Но тогда точка зрения не согласовывалась бы с непоследовательностью эпохи. В жестко критической книге о Герберте Маркузе, вышедшей в 1970 году в серии «Современные мастера» (основным ее мотивом, по-видимому, была убежденность в том, что Маркузе не заслуживает включения в число современных мастеров), Макинтайр заявляет, что самая знаменитая работа Маркузе несостоятельна именно по этим основаниям. «Наверное, центральная особенность “Одномерного человека” в том, что эта книга вообще не должна была быть написана. Если бы ее 173 положения были верны, нам следовало бы спросить, как случилось, что она написана, а также задаться вопросом, будут ли у нее читатели. Точнее говоря, если верно, что эта книга найдет читателей, в такой же мере неправомочны тезисы Маркузе» (6). Но такое же критическое замечание можно отнести и к «Краткой истории этики». Макинтайр мог бы избежать упреков критики, не отказываясь от проклятий в адрес эпохи, только в том случае, если бы он занял маргинальную позицию, встал на точку зрения, сформировавшуюся в эту эпоху, но ей не принадлежащую. Какова же могла бы быть эта точка зрения? Прежде всего она должна была бы быть последовательной в отрицании либерального индивидуализма. Кроме того, она не должна была бы солидаризироваться с различными формами современного радикализма, в том числе с марксизмом, так как Макинтайр видит в этих формах симптомы болезни, которую они призваны излечить. Более того, она должна была бы быть достаточно последовательной и разносторонней, чтобы явить читателю обоснованные критерии рационального выбора, такие критерии, которые оправдывали бы предлагаемую Макинтайром критику эпохи. В ином случае критик нравственности был бы обречен на голословные утверждения. И наконец, данная точка зрения должна была бы, насколько возможно, позволять критику разделять свои цели по крайней мере с кем-то из своих современников, избегая тем самым социального солипсизма и политического бессилия. Если мы признаем, что Макинтайр рассуждал в первом приближении так, то поймем, почему он испытывал необходимость открыто отождествить себя с «хорошо согласующейся» нравственной традицией. Один способ обнаружить такую традицию — еще раз пролистать главы его нравственной истории и определить момент, когда досовременная нравственная традиция начала уступать место либеральной современности. Именно по этому пути пошел Макинтайр в «После добродетели». Он назвал традицию, прошедшую через отрицание на заре нашей эпохи, «традицией добродетелей». Он в первую очередь намеревался показать, что эта традиция, несмотря на отвержение и изолированность в нашу эпоху, ныне заслуживает возрождения и в свете испытанных несчастий переформулирования. Выступив адвокатом этой традиции, он полагал, что наконец нашел решение проблемы точки зрения, но теперь вынужден соответственно перестроить свою историю этики. Ведь повествование обрело не только умеренную точку зрения, но и нового протагониста. А злодей, разумеется, остался тем же. 174 ^ 5. &() @&A¤ Я не думаю, что кто-либо из критиков отдал полную справедливость книге «После добродетели». Прежде всего я имею в виду мощный образный ряд, с которого книга начинается. Нас призывают вообразить, что «естественным наукам пришлось испытать на себе последствия катастрофы», вследствие которой современные практики науки «по большей части забыли, в чем она заключалась», владея лишь «фрагментами» некогда последовательной эмпирической практики и теоретического дискурса. Этот образ катастрофы принадлежит к ряду тропов, используемых со времен Лонгина в качестве индикаторов возвышенности. Макинтайр прибегает к своему повествованию о воображаемой науке, чтобы высветить свой главный тезис: сегодня этический дискурс лежит в руинах, что подобно состоянию науки в его повести. Образ руин предназначен для раскрытия энергии разума и сердца, которые были, согласно его интерпретации, сосредоточены в практиках предыдущей эпохи, и Макинтайр измеряет высоту достижений той эпохи глубиной разрыва (7). В луче света, который нам дарят начальные главы «После добродетели», знакомые нам формы дискурса принимают зловещий облик раздробленных руин, или, говоря словами Хэзлитта, это «огромные... структуры, которым пришлось разрушиться и прийти в упадок» (8). Облекая свой основной тезис в столь откровенно иносказательную форму, Макинтайр каким-то образом сумел не привлечь внимания к примененной им уловке. Жуткий характер абзацев, о которых идет речь, сосредоточен в ощущении, что мы узнали нечто такое, что знали и прежде, но держали в тайне. Далее, обрисовав сцену, в главе 2 Макинтайр переходит к описанию «Природы морального несогласия сегодня и требований эмотивизма». Здесь он предпринимает наиболее решительную попытку прибегнуть к образным упрощениям. Предполагается, что мы увидим сущность нашей современной культуры в концентрированном виде — где бы вы думали? — в эмотивистской философии К. Л. Стивенсона. Такое видение пугает теоретиков этики, отчасти потому, что они знают: лишь немногие современные философы считают моральную философию Стивенсона справедливой. Эта дерзкая синекдоха осуществлена главным образом благодаря использованию трех примеров современных этических дискуссий. Эти примеры призваны придать гипотезе о том, что сам современный эти Кассий Лонгин (ок. 213–273) — греческий философ-неоплатоник. Однако современные ученые считают, что трактат «О возвышенном» был создан в I в. н.э. и приписывался Лонгину ошибочно. 175 ческий дискурс пребывает в состоянии полной раздробленности, статус вывода. Автор стремится показать многое на материале трех примеров, очерченных всего на двух страницах: дискуссии о войне, абортах и экономической справедливости. Макинтайр рассчитывает, что его читатели наизусть помнят прозвучавшие в этих дискуссиях выступления. Они являются материалом любой странички редактора в газетах и курсов «нравственной проблематики», которые ныне преподаются в наших колледжах. Макинтайр говорит, что «эти примеры здесь важны в силу их типичности» (ПД, 8). А типизируют они, добавляет автор, нескончаемость в нашем обществе дискуссий на темы морали. А это, доказывает он, следует объяснять обращением к несопоставимости предпосылок, из которых исходят участники современных дебатов о морали при защите своих позиций. И далее он заключает: как только мы это увидим, то сразу поймем, что аргументы, хотя они и представляются в форме беспристрастных апелляций к разуму, на деле призваны выпускать эмоции и манипулировать ими. Потому-то мы и живем в век Стивенсона, ведь именно его эмотивизм объяснил, каким образом функционирует наш этический дискурс, пусть с этим и пытаются не соглашаться те из нас, кто участвует в дебатах. Что ж, речь идет о дебатах на этические темы, и верно, что они пока не окончены. Это не доказывает ни их принципиальной нескончаемости, ни того, что нескончаемость, воплощениями которой они якобы являются, характерна для нашего этического дискурса как такового. Всякая дискуссия на этическую тему, которая проходит сейчас, есть еще не закончившаяся дискуссия. Это разумеется само собой. Существуют ли в нашей культуре примеры дискуссий на этические темы, которые пришли бы к завершению? Макинтайр этим вопросом не задается. Предположим, что мы вернулись в Америку середины девятнадцатого века. Что составляло в то время предмет наиболее жарких этических дискуссий? Безусловно, вопрос об уничтожении рабства. Эта дискуссия, как я с удовольствием отмечаю, не является незавершенной. Глупо было бы делать вид, что она была завершена исключительно путем рассуждений, но не менее глупо было бы считать, что звучавшие тогда рассуждения были не более чем выпусканием пара, как того хотелось бы Стивенсону. В то же время мы прошли через горячие дискуссии относительно того, позволительно ли женщинам иметь право голоса, должен ли быть введен запрет на алкогольные напитки в обществе, небезразличном к такой добродетели, как умеренность, и должно ли чернокожим быть дано право занимать передние ме176 ^ 5. &() @&A¤ ста в автобусах. Все эти спорные вопросы не столь отдаленного времени ныне, насколько я могу судить, остались в прошлом. Мало того, они были разрешены без массового кровопролития. Несопоставимость предпосылок не помешала нашим согражданам достичь высокого уровня согласия по этим вопросам путем взаимного обмена вопросами и доводами. Несомненно, все эти дискуссии представлялись нескончаемыми в периоды наивысшей остроты. Каждая из них породила яркие образчики этического дискурса, и все они были движимы как религиозными, так и светскими мотивами, которые заслуживают сохранения в исторической памяти. И все же они совершенно не соответствуют определению, предлагаемому Макинтайром. Рассуждение в «После добродетели» проделывает множество кульбитов и поворотов, прежде чем приходит к памятному заключению, в котором Макинтайр вновь объединяет своих читателей возле возвышенных руин, чтобы приступить к поискам форм «сообщества, где гражданственность, а также интеллектуальная и моральная стороны жизни найдут поддержку и пройдут через новые темные века, которые уже окутывают нас» (ПД, 263). В этой книге сила убеждения проявляется в сложном хитросплетении аргументов и исторических повествований, отличаясь этим от любого другого образчика моральной философии двадцатого века. Трудно представить себе книгу, менее, чем эта, похожую на «Теорию справедливости» Ролза — как по форме, так и по содержанию. «§ ]» Макинтайр подчеркнул, что его история этики — это «еще продолжающаяся работа» (ПД, 278), и тут же пообещал продолжение, которое и появилось в 1988 году под названием «Чья справедливость? Какая рациональность?» (9). Никому не придет в голову назвать «Чью справедливость» краткой историей этики. Возможно, она должна была стать объемной и сложной книгой, чтобы решить остающиеся проблемы с позиций Макинтайра. Наиболее очевидная из этих проблем заключалась в том, что книга «После добродетели» не дала разъяснений или доводов в защиту своих центральных посылок относительно зависимости рациональности от традиции. Если эти посылки не выдерживают пристального рассмотрения, выдвигается на первый план необходимость примкнуть к единой «хорошо согласующейся» традиции. К этой проблеме я еще вернусь. Сейчас же достаточно заметить, что Макинтайр признал наличие данной ла177 куны в своей предыдущей работе, и именно этим объясняется его повышенный интерес к теме практической рациональности и концепции справедливости, отразившийся на страницах «Чьей справедливости». Другая относительно очевидная проблема в том, что историческое повествование в книге «После добродетели» добивается драматического эффекта благодаря тому, что внимание читателя в нем сосредоточивается на резких контрастах и крупномасштабных преобразованиях. А это означало, что для дальнейшего подтверждения центральных тезисов повествования потребуется детальный анализ отдельных фигур и научных контраргументов, который отсутствует в «После добродетели». В продолжении же мы, напротив, находим умело нарисованные портреты длинного ряда мыслителей Древней Греции, средневекового христианского мира и Шотландии восемнадцатого века. В центре внимания этой книги не изменчивые судьбы «добродетелей», а скорее — судьбы двух конкретных добродетелей, справедливости и здравого смысла, и поэтому здесь от Макинтайра потребовалось более глубокое проникновение в научную литературу. Если интерес большинства читателей ограничится десятком страниц, посвященных рассказу о сэре Джеймсе Далримпле, лорде Стэре, или десятком абзацев о прочтении Джоном Купером рассуждений Аристотеля по поводу практического силлогизма, то те из нас, кто сетовал на недостаток добротной этической историографии, обязаны почувствовать себя в большом долгу у Макинтайра. «Чья справедливость» как вклад в историческую науку едва ли заставила замолчать критически настроенных экспертов, но нетрудно увидеть, что она представляет собой наиболее впечатляющее достижение Макинтайра на сегодняшний день. Коль скоро ранее я указывал на ложность некоторых положений исторического повествования в книге «После добродетели», то здесь я хотел бы воспользоваться случаем и отметить те пункты, в которых «Чья справедливость» оказалась убедительнее (10). Первый из них связан с моим упреком в адрес «После добродетели», который состоял в том, что превозносимая в книге «традиция добродетелей» чересчур аморфна для той роли, которая ей приписывается. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что данная традиция, хотя и представленная так, будто ее основным выразите На легенде о трагических событиях в семье этого шотландского государственного деятеля и юриста XVII в. основан сюжет романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». 178 ^ 5. &() @&A¤ лем можно считать Аристотеля, к ней нужно относить всякого, для кого достаточно важны понятия «добродетелей» и «добра» в этике. Поскольку эта традиция первоначально возникла в процессе поиска универсального «Другого», в сравнении с которым либеральная современность (modernity) могла бы рассматриваться как нечто безнадежно раздробленное и лишенное последовательности, она собирает вокруг себя людей, ориентирующихся на широкий спектр разнообразных иерархий ценностей и концепций добра. Среди них множество людей, которым хотелось бы дистанцироваться от традиции, где центральной фигурой мог бы считаться Аристотель. Никакая столь многоликая традиция не могла представить желаемого противовеса либеральной современности; не могла она и предложить удовлетворительного разрешения проблемы точки зрения. Чтобы восполнить эти слабости, Макинтайру пришлось бы встать на позиции определенной концепции добродетельной жизни и принять соответствующую систему добродетелей. В «Чьей справедливости» говорится о четырех различных традициях: аристотелизме, августинианстве, шотландском Просвещении и либерализме. Свою же духовную автобиографию Макинтайр представляет если не в виде полного цикла, то, во всяком случае, в ее направленности к истокам, поскольку идентифицирует себя с томистской ветвью августинианского христианства. Это признание действительно проясняет вопрос о том, какую позицию Макинтайр намерен занять, критикуя либеральное общество и переосмысливая свое описание западной культуры как — предположительно — движущейся вниз. Более того, оно помогает нам увидеть, какие именно «местные формы сообщества», на которые Макинтайр смутно намекает в заключительной части «После добродетели», нам желательно, на его взгляд, освоить в эпоху, когда над нами нависли «темные века». Конечно, здесь также подчеркивается значимость роли религиозных традиций, которую они играли и продолжают играть в нашей моральной истории. Второе критическое замечание, сделанное мной по поводу книги «После добродетели», — то, которое я высказал по другому случаю, а именно при разборе «Краткой истории этики», состояло в том, что пренебрежительное отношение автора к религиозным традициям серьезно подорвало его позиции в исторической реконструкции нашего прошлого (11). В послесловии ко второму изданию «После добродетели» Макинтайр признает справедливость этого упрека и обещает быть более аккуратным при работе над продолжением. Это обещание было им исполнено, поскольку в «Чьей 179 справедливости» много места отведено анализу августинианской традиции и влиянию кальвинизма на культуру Шотландии восемнадцатого века. Но что же, помимо большей полноты картины, было достигнуто благодаря этим добавлениям? Одно из достижений со всей ясностью просматривается в новом изложении учения Аквината; оно не только пространнее, чем соответствующий раздел книги «После добродетели», но и гораздо точнее. Я сетовал на то, что автор «После добродетели» читает труды Аквината глазами его позднейших ученых интерпретаторов, при этом преувеличивая роль естественного закона в доктрине святого и недооценивая роль практической смекалки, понимаемой в духе Аристотеля. Результатом, как я утверждал, явилось возникновение весьма и весьма обманчивого портрета Аквината как автора жесткой системы, отчасти несущего ответственность за достойное сожаления умаление значимости аристотелевой практической смекалки в культуре Запада. Этот портрет, кроме того, создавался с целью осветить то, что Макинтайр принял за неспособность Аквината нести ответственность за нравственную трагедию, и потому я предположил, что труд Макинтайра в лучшем случае категорически неполон (12). Но интерпретация воззрений Аквината, представленная в «Чьей справедливости», не содержит указанных пробелов. Утверждение, что Аквинат не был способен ответить за нравственную трагедию, в этой книге снято. Макинтайр изменил свою позицию. Если говорить точнее, он освободился от схоластического прочтения томизма и представил не только более подробный, но и более адекватный анализ соотношения аристотелевых, стоических и августинианских элементов в Summa Theologiae. Там, где ранее он выражал недоверие попытке Аквината создать единую систему, теперь он справедливо подчеркивает, что построение системы не завершено по форме, а метод исследования, применяемый Аквинатом, диалектичен по своей природе (13). Однако произведенная Макинтайром переоценка наследия Аквината имеет и свои издержки. В «После добродетели» автор объяснял неудачи традиции Аристотеля после появления трудов Аквината, в частности, тем, что взгляд святого на нравственную трагедию неполон, а метафизический подтекст его избыточен. Теперь же, когда Макинтайр изменил свои воззрения, его объяснение должно приобрести другой облик. К тому же возникает необходимость показать, почему метафизические посылки, ранее представ «Сумма теологии» — одно из основных сочинений св. Фомы Аквинского. 180 ^ 5. &() @&A¤ лявшиеся избыточными, и почему теперь становится важным источник слабости, свойственной традиции Аристотеля в современную эпоху. Либеральные августинианцы, признавая, что указанные посылки не разделяются всеми гражданами, охотно встраивают их в свою нравственную философию, не рассчитывая при этом, что так же поступят их сограждане, населяющие наш бренный мир. Макинтайр не дает нам поводов предположить, что он сделался августинианцем описанного типа. Однако пока он мало что сделал для того, чтобы прояснить, как он понимает роль теологических посылок в общественной жизни. По всей видимости, его позиция такова: этический дискурс не может поддерживаться как последовательный и рациональный процесс без того, чтобы его участники приняли как данность некоторые из таких посылок. Этому предмету посвящено еще одно мое критическое замечание в адрес книги «После добродетели». Я указал на то, что Макинтайр, пренебрегая функцией религиозных традиций и тем самым религиозного противостояния в моральной истории, при этом упускает из внимания одну из причин того, что публичный дискурс во многих его современных проявлениях приобрел секулярный характер в том смысле, который был обозначен в предыдущей главе. Если невозможно посредством рациональной аргументации достигнуть высокого уровня согласия по вопросам метафизики или всеобъемлющей теории хорошей жизни, некоторые партии прибегают к насилию (часто речь идет о применении вооруженных силовых структур или о физическом воздействии) во имя принятия теологических предпосылок. Другие партии пытаются выработать такие пути рассуждений и освещения этических проблем, которые не предполагают достижения согласия по теологическим вопросам. Оба подхода неоднократно применялись в Европе в начале современной эпохи. Кровопролитие, беспорядки и духовная нищета, порождаемые первым подходом, делали второй подход все более предпочтительным. Автор «Чьей справедливости» исходит из аналогичной, пусть приблизительно сходной, гипотезы, когда пытается объяснить причины своего неприятия традиции Аристотеля. Едва ли должен удивлять тот факт, что сосуществование в сфере морали аристотелизма с разнообразными августинианскими теологиями и все более противоречащими аристотелизму моделями теоретического знания в естественных науках должно было оказаться непрочным. Но глубже всего на решение большей части образованных классов Европы отвергнуть аристотелизм как концеп181 цию, позволяющую понять общую для всех них моральную и социальную сферы жизни, повлияло, вероятно, открытие, постепенно осуществлявшееся в течение эпохи жестоких и упорных конфликтов и по ее окончании: никакая апелляция к какой-либо согласованной концепции единого блага для людей, будь то на теоретическом или на практическом уровне, ныне невозможна (ЧС, 209; курсив в оригинале). Нет необходимости говорить, что, с моей точки зрения, эта перемена обещает нам существенное улучшение ситуации. Однако Макинтайр не встраивает эту гипотезу в представляемую им картину в целом, равно как и не допускает ее влияния на даваемую им оценку либерального общества. Поэтому, несмотря на его признание, что проявления плюрализма, возможно, стали основным фактором, обусловившим неприятие Аристотеля, в остальных частях книги мы не находим признаков присутствия этого соображения. В частности, Макинтайр не старается опровергнуть очевидный вывод: образованные классы в Европе в начале современной эпохи могли иметь веские основания для того, чтобы формировать свои институты и лексиконы с целью приспособить различные разумные перспективы к теологии и концепции единого блага. << ¤& & ] ¥ ]A¤ Описанное отсутствие интеграции принимает особенно проблемный характер в главе, названной «Либерализм, преображенный в традицию». Из четырех традиций, о которых идет речь в «Чьей справедливости», только либерализму не отводится отдельная глава. Начало главы представляет собой завершение разговора о Шотландии, развернувшегося более чем за сотню страниц ранее, а на долю либерализма как такового остается лишь дюжина и чуть больше страниц, а заканчивает Макинтайр свое рассуждение признанием необходимости сделать что-то еще. Почему же он этого не сделал? Возможно, он боялся, что его книга выйдет чересчур объемной; но кроме того, он понимал, что по-прежнему выступает против либерализма и потому не может обойтись без какого-либо рассказа, хотя бы и беглого, о его характерных чертах. Результатом его усилий явилась лишенная какого бы то ни было сочувствия карикатура, и явилась она там, где изложение особенно настоятельно требует детального и беспристрастного анализа, если только это изложение ведется в целях сколько-нибудь строгой проверки предвзятых авторских взглядов. 182 ^ 5. &() @&A¤ Некогда Макинтайр критиковал Маркузе за его метод «сваливать в одну кучу самых разных мыслителей и наклеивать на них единый ярлык с целью разнести их или вынести им приговор» (ГМ, 84). Но разнос путем сваливания в кучу — это и есть главная функция ярлыка «либерализм», применяемого и в «После добродетели», и в «Чьей справедливости». Многочисленные имена собственные, заполнившие главы, посвященные Греции или Шотландии, уступают место таким чрезвычайно упрощающим абстракциям, как «либеральная система оценивания» и «либеральная личность (self)», а также превалирующему использованию пассивного залога. Читателям будет нелегко определить, о ком, собственно, идет речь. Задав вопрос, почему история философии, представленная Маркузе, в высокой степени избирательна, Макинтайр в 1970 году говорит следующее: «Ответ заключается в том, что Маркузе, выпуская из поля зрения столь многое и предлагая читателям одностороннюю интерпретацию сочинений тех авторов, к которым он обращается, получает возможность преувеличивать, причем в ряде случаев преувеличивать грубо, однородность философской мысли в данную эпоху» (ГМ, 15). Сходным же образом Макинтайр упрекает Маркузе в «стремлении полагаться на абстракции», а не говорить о конкретных фигурах (ГМ, 18), в тенденции «слишком часто читать историю культуры сквозь призму своей собственной версии истории философии» (ГМ, 15–16) и в том, что он довольствуется «случайными иллюстрациями своих тезисов» там, где следовало бы представлять «свидетельства в систематической форме» (ГМ, 14). Все эти критические замечания можно отнести и к написанной Макинтайром главе о либерализме в «Чьей справедливости». Я не утверждаю, что Макинтайр применял более жесткие и верные стандарты до того, как стал традиционалистом. Стандарты, которые он применил к Маркузе, встроены в отстаиваемую им сегодня теорию рациональности, которая требует от приверженцев традиций, пребывающих в кризисе, встречать критику со стороны оппонентов, изучая иностранные языки, участвуя в обоснованной дискуссии с конкурирующими традициями и оставляя при этом открытой возможность опровержений. Те же стандарты отражены и в его похвалах попытке Аквината разрешить противоречие между августинианской и аристотелевой традициями. По словам Макинтайра, такие противоречия находят разрешение только тогда, когда они пройдут по меньшей мере две стадии: первую — когда каждая традиция описывает и судит противника исключительно в своих собственных категориях, и вторую — когда возникает воз183 можность понять оппонента, оперирующего своими категориями и таким образом получить новые основания для того, чтобы изменить мнение. Переход от первой стадии ко второй «требует редкого дара сочувствия, равно как и интеллектуального прозрения» (ЧС, 167), дара, о наличии которого свидетельствуют сочинения Аквината. Макинтайр выказывает глубокую симпатию к древним грекам и к религиозной традиции, от которой сам он в свое время отошел, но ни в коем случае — к либеральной современности (modernity). Сейчас, когда он уже выпустил три фундаментальных труда и с полдюжины работ меньшего калибра, ему еще остается прийти ко второй стадии (14). Глава о либерализме содержит многообещающую уступку, даже если она сделана автором скрепя сердце. Та часть, где уступка делается, начинается со знакомого и не оставляющего места для оптимизма заявления, что «проект строительства некоей формы общественного порядка, при котором индивиды могут эмансипироваться от обстоятельств, в особенности — от традиции, и обратиться к истинно универсальным, не зависящим от традиции нормам, не был и не является единственным или главным достоянием философов. Он был и является проектом современного либерального, индивидуалистического общества» (ЧС, 335). Здесь Макинтайр определяет либерализм как антитрадиционалистский поиск способов подняться над традицией к выигрышной позиции универсального рассуждения, и выражается он как в либеральном теоретизировании, так и в либеральной практике. Это единый проект либерального общества как такового. Но Макинтайр тут же продолжает: история этого проекта и, в частности, нескончаемость дебатов о предположительно универсальных принципах свидетельствует, что на деле либерализм представляет собой одну из многих традиций. А значит, либерализм есть традиция, но такая, замысел которой заведомо состоит в том, чтобы перестать быть тем, что она есть. Эту линию аргументации использовал не только Макинтайр, но и Хауэрвас; оба они желали обойтись без либерального общества как воплощения очевидно непоследовательного замысла. В «Чьей справедливости» Макинтайр останавливается недалеко от этого вывода. В его намерения явно входит произвести на читателя впечатление парадоксальностью идеи «либерализма, преображенного в традицию», и он считает, что у либералов имеются основания испытывать неловкость из-за этой трансформации, но он идет и на уступку, когда добавляет: 184 ^ 5. &() @&A¤ «Все больше появляется либеральных интеллектуалов, которые, по той или иной причине, признают, что их теория и практика представляют не более чем очередную последовательно обоснованную и убедительную традицию... и не способны отойти от концепции традиции. Однако даже это может быть признано без какой-либо непоследовательности, и мало-помалу это признают такие либеральные философы, как Ролз, Рорти и Стаут» (ЧС, 346; курсив мой. — Авт.). Действительно, можно, не впадая в непоследовательность, признать сказанное, причем без малейшего оттенка парадоксальности или неловкости, но только в том случае, если мы откажемся от данного Макинтайром определения либерального проекта. Идея «либерализма, преображенного в традицию», остается парадоксом или оксюмороном лишь при условии, что либерализм изначально определяется так, как его определяет Макинтайр. Позвольте мне рассмотреть два варианта выбора. Первый из них состоит в том, чтобы заменить определение либерального проекта, данное Макинтайром, другим. Предложенный Макинтайром новый анализ отрицания Аристотеля на начальном этапе современной эпохи сразу же предлагает нам возможную замену. Мы можем сказать, что либеральный проект замышлялся только лишь для приспособления политических институтов и морального дискурса в современных обществах к проявлениям плюрализма. Если мы скажем так, то дадим ответ на вопрос, заданный Макинтайром в «Чьей справедливости»: «Какого рода принципы могут потребовать верности такой форме общественного порядка (и обеспечить участие в ней), при которой индивиды, приверженные различным и зачастую несовместимым концепциям блага, могут жить вместе и избегать таких потрясений, как бунты и внутренняя война?» (210). Если мы будем рассуждать таким образом, то сможем увидеть поиск позиции над любой традицией и попытку полностью абстрагироваться от представления об общем благе как о двух и только двух возможных выражениях либерального проекта. Мы вольны объявить эти два выражения абсолютно дискредитированными и при этом ни в малейшей степени не отказываться от самого проекта. Заметим, что в соответствии с таким пониманием человек может оставаться либералом и при этом на дух не переносить все, что Макинтайр в «Чьей справедливости» отождествляет с либерализмом, включая — не в последнюю очередь — «либеральную личность» и «либеральную систему оценивания». Вторая возможность выбора заключается в том, чтобы отбросить представление, будто существует нечто, что заслуживало бы 185 наименования единого либерального проекта. В этом случае мы вправе использовать словосочетание «либеральное общество» (если оно вообще нам понадобится) в качестве всего лишь названия системы социальных практик и институтов, среди которых случилось жить нам, гражданам Соединенных Штатов и ряда других стран. Мы могли бы добавить, что всякая система такого рода слишком сложна, чтобы ее можно было рассматривать как воплощение одного проекта. Исходя из этого положения, мы можем доказывать, что социальной критике не идет на пользу высказывание заявлений, поддерживающих или обвиняющих либеральное общество; скорее она выиграет от появления сдержанных и подробных комментариев, касающихся его значимых качеств, и взвешенных советов относительно того, как следует изменить то или иное из них. Мы можем даже прийти к заключению, что «либерализм» — это название определенного рода устаревшей идеологии, приверженцы и критики которой думают, что существует нечто достойное имени единого либерального проекта, и потому втягиваются в бесплодные дискуссии о том, хорош такой проект или плох. Оба варианта обладают своими преимуществами. Я стою за второй и в этой книге по возможности избегаю термина «либерализм». (Потому-то я чувствую себя несколько неуютно, когда Макинтайр называет меня либеральным автором.) При чтении его главы о «либерализме» я укрепляюсь в своем подозрении, что сам термин на данном этапе может быть помехой на пути исследователя. Впрочем, возможно, Макинтайр ответит, что я в используемом мной словосочетании «либеральное общество» в неявной форме признаю центральную идею книги «После добродетели»: наше общество слишком раздроблено и непоследовательно, чтобы поддерживать рациональный моральный дискурс. В «Чьей справедливости» автор подтверждает эту мысль, описывая метафизически строгие «интернационализованные языки современности (modernity)» как результаты попыток абстрагировать дискурс от «всех реальных критериев и стандартов истины и рациональности» (ЧС, 384). Повидимому, он хочет подвести нас к выводу о том, что языки, фактически используемые в либеральном обществе, делают невозможным рациональный моральный дискурс. Те, кто прибегает к таким языкам, например, упоминаемый в «Краткой истории этики» социальный солипсист, могут делать свой выбор, но он не будет рациональным, поскольку для этих людей не существует никакой системы критериев и стандартов, в рамках которой могут быть найдены основания для действий. 186 ^ 5. &() @&A¤ Я сказал, что намерения Макинтайра, по-видимому, таковы, но в конце главы, в которой описываются «интернационализованные языки современности», автор приводит следующую квалификацию: Условие, которое я описал как характеристику языка интернационализованной современности конца двадцатого века, возможно, лучше всего было бы понимать как идеальный тип, условие, к которому реальные языки, используемые в столичных городах, в особенности в самых богатых, приближаются в разной и возрастающей степени. А социальное и культурное положение тех, кто говорит на языке данного типа, определенного рода разновидность лишенного корней космополитизма... также идеальнотипичное (ЧС, 388). Идеалы-типы Макинтайра имеют и другое имя: это карикатуры. Карикатуры могут использоваться на легитимной основе. Они могут привести нас, благодаря обращению к преувеличениям, приданию абстрактного облика реальным чертам, к значительным истинам. Они не занимают место реалистического портрета. Если нам предстоит судить о рациональности нашего морального дискурса на основе теории Макинтайра, нам необходимо знать кое-что, чего Макинтайр нам так и не показал, а именно: в какой именно степени «употребимые языки» в нашем обществе приближаются к крайней точке, которую он описывает в виде своего мрачного идеала. В последней главе «Чьей справедливости» Макинтайр поддерживает тех немногих из нас, кого можно назвать социальными солипсистами, кто «чужд всякой традиции исканий», с которой мы сталкиваемся, и кто полностью лишен ресурса рациональных традиций (ЧС, 395–396). Большинство наших современников не находится даже близко к этой крайней точке... Нет, эти люди живут скорее между одним и другим; они принимают, как правило, не задавая вопросов, постулаты доминирующих либеральных индивидуалистических форм общественной жизни, но при этом в разных сферах жизни обращаются к различным порожденным традициями ресурсам мысли и действия, которые заимствуют из множества семейных, религиозных, образовательных и других социальных и культурных источников (ЧС, 397). Здесь термин «либеральный» применяется только к тем характеристикам нашего общества, которые Макинтайр находит достойными презрения. «Порожденным традициями ресурсам мысли 187 и действия» позволяется присутствовать в нашем обществе, но они должны быть следствиями нелиберальных или долиберальных традиций. Такая манера выражаться вкупе с использованием идеалов-типов позволяет Макинтайру изображать все, что он одобряет в нашем обществе, как нечто несущественное. И тогда он волен не принимать в расчет очевидные контрдоводы, противоречащие его утверждениям о «либеральном обществе», как не относящиеся к делу. Контрдовод всего лишь свидетельствует, что существуют силы и тенденции, еще не раздавленные тяжелой стопой либерального проекта. Автор не предполагает, что мы должны испытывать благодарность либеральной демократии за то, что она позволила «порожденным традицией ресурсам» разных типов сохраниться на заре современной эпохи, в годы войны всех против всех. Я еще раз обращаюсь к предложенной Макинтайром критике «Одномерного человека» Маркузе: «Он утверждает, что в обществе есть силы и тенденции, действующие вразрез с тенденцией, описываемой в этой книге. Он уверяет, что ”Одномерного человека“ также касаются эти контрсилы и тенденции; однако, если не считать одного-двух абзацев, они не появляются в его книге до предпоследней страницы, да и там он оставляет мало надежды в отношении их перспектив. Пессимизм Маркузе... лишь очень слабо подтверждается его апелляциями к свидетельствам» (ГМ, 70). Аналогичным образом и пессимизм Макинтайра в отношении «либерального общества» зависит от риторических фигур, в которых, во-первых, общество отождествляется с сущностно антитрадиционалистским проектом, а во-вторых, все противодействующие ему силы существуют в отрыве от состояния опустошенности и неукорененности, на которое создатели проекта возлагают свои упования. Потому неудивительно, что Макинтайр предает проклятию не только немногих социальных солипсистов, еще существующих внутри общества, но также и большинство своих современников, что «живут между одним и другим»: «Этот тип личности (self), у которой слишком много половинных убеждений и слишком мало твердых и последовательных убеждений... несет тем, кто с ней встречается, в ответ на утверждения представителей конкурирующих традиций фундаментальные противоречия, которые слишком неприятны, чтобы их сознательно признавать, за исключением редчайших случаев» (ЧС, 397). Но это жесткое суждение, направленное 188 ^ 5. &() @&A¤ как против современников, так и против несколько более молодого человека, который написал «Краткую историю этики», «Марксизм и христианство» и «Герберт Маркузе: экспозиция и полемика», не утвердилось. Чтобы утвердить его, Макинтайру пришлось сделать еще два шага, которых он до сих пор не сделал. Прежде всего он должен был четко указать на точку, в которой эклектическое многообразие «порожденных традицией ресурсов мысли и действия» вырождается в банальную раздробленность, обрекая тем самым большую часть членов общества на «фундаментальные противоречия». Кроме того, ему бы пришлось доказать, что наше общество уже миновало такую точку. Теория рациональности, которую Макинтайр отстаивал в «Чьей справедливости», не справилась с первой задачей. А со второй едва ли справится нарисованная им карикатура на либеральное общество. К тем же механизмам, слегка видоизмененным, Макинтайр прибегает в книге 1990 года «Три альтернативные версии моральных исканий» (15). В этой работе он ставит перед собой задачу развенчать две основные в условиях современности альтернативы его собственному томизму. Одну позицию, которую он нарекает «генеалогией», представляют сочинения Фридриха Ницше, Поля де Мана, Жиля Делёза и Мишеля Фуко. Другая, которая, как предполагается, утверждает, что либерализм Просвещения, переживший в девятнадцатом веке период упадка, представлен в девятом издании «Британской энциклопедии». «Три альтернативные версии» заслуживают одобрения за то, что в них либерализм ассоциируется с трудами конкретных мыслителей. Макинтайр упоминает ряд имен, среди которых — Дж.Г. Фрейзер, Генри Сиджуик и Эдвард Бёрнетт Тайлор. В книге вниманию читателя предлагается анализ этоса, который разделяли авторы статей девятого издания. Здесь анализ гораздо более подробен и независим, нежели какой-либо фрагмент соответствующей главы «Чьей справедливости». Но предположим, что мы признаем, что Макинтайр справедливо характеризует создателей девятого издания. Далее предположим, что Макинтайр прав, объявляя авторов энциклопедии проигравшими в организованном им споре с представителями генеалогии и традиции. Иными словами, мы допускаем, что от той формы либерализма, которую они отстаивали, к концу книги не остается камня на камне. Чему учит нас, людей современности, не сотрудничавших в девятом издании и не Де Ман, Поль (1919–1983) — американский философ, представитель Йельской школы деструктивизма. 189 подписывавшихся под этическими и философскими постулатами его авторов, это диалектическое упражнение? Видно, что Макинтайр подразумевает, что авторы энциклопедии выступают от имени чего-то большего, чем они сами. Но почему Сиджуик и его соавторы по девятому изданию должны отвечать за Уитмена, Дьюи или в данном конкретном случае Т. Х. Грина? Здесь действует не подлежащий обоснованию принцип селекции, а именно — тот, что способствует лишь усилению резкой дихотомии традиции и современности (modernity). Макинтайр предлагает читателю интересные и убедительные критические замечания в отношении работ, к которым обращается, но не затрудняет себя разъяснением их выбора. Почему мы должны исходить из того, что труды Сиджуика, Ницше и папы Льва XIII являются равноценными образцами этических исканий девятнадцатого века? В книге «После добродетели» выбор, предлагаемый читателю, был заявлен в названии главы 9: «Ницше или Аристотель?». Разумеется, отсюда следовало, что «проект Просвещения» уже был развенчан в предыдущих главах, после того как был подвергнут уничтожающей критике Ницше. В «Трех альтернативных версиях» авторы энциклопедии выступают представителями таких философов, как Юм и Кант. За Ницше сохраняется его прежняя функция. А томизм папы Льва XIII выступает в качестве образчика аристотелевой этики в ее позднейшей модификации. Так что предлагаемый нам выбор остается по существу тем же (16). Но, как и прежде, Макинтайр не дает нам оснований верить, что современный этический дискурс можно так легко свести к небольшой группе теоретических вариаций. В книге «После добродетели» (243) Макинтайр называет Уильяма Коббета, наряду с Джейн Остин и якобинцами, одним из последних великих представителей традиции этики добродетели. Решительное и дерзкое заявление, а доводов в его поддержку Макинтайр не приводит. Верно ли оно? Я думаю, верно только в том случае, если мы примем очень узкое определение «этики добродетели» как не более чем формы этического дискурса, близко примыкающей к рамкам томизма или традиции Аристотеля. Если же чуть расширить определение и оглядеться, то легко обнаружить, что дискурс о добродетелях пронизывает этос современной демократической культуры. Сам Коббет был титанической фигурой, его этика была двойственной, переходной, он разрывался между ностальгией по Грин, Томас Хилл (1836–1882) — английский философ, представитель неогегельянства. 190 ^ 5. &() @&A¤ Средневековью и современной демократией. Его труды почти так же важны, как и труды Томаса Пейна или Мэри Уоллстонкрафт, для всякого, кто хочет разобраться в отношениях между религией, критической мыслью и возникновением демократической культуры в Великобритании и Америке. Как показал Э. П. Томпсон, журналистика Коббета сыграла ключевую роль в формировании массовой аудитории социальной критики в Британии в первые десятилетия после Французской революции (17). Другой историк, Кристофер Лаш, признавал его не менее значительный вклад в развитие современной популистской мысли (18). Разоблачительная «История протестантской Реформации» Коббета является фундаментальным современным свидетельством антипрогрессивистской ностальгии по средневековому прошлому (19). Кроме того, Коббет дал импульс формам современного радикализма, которых вдохновляет образ досовременных сообществ и добродетелей. «Сельские прогулки» положили начало жанру наблюдающей, то есть построенной на свидетельствах очевидцев, социальной критики, которая в умах читателей двадцатого века может ассоциироваться с такими произведениями, как «Дорога на Уиган-Пирс» Оруэлла или «Восславим знаменитых» Эйджи (20). «Тринадцать проповедей» Коббета и бесчисленные выпуски еженедельного журнала «Политикал реджистер», который Коббет не один год не только редактировал, но и почти единолично снабжал корреспонденциями, были среди наиболее читаемых текстов того времени (21). Короче говоря, достижения Коббета значительно более важны, чем указывает Макинтайр, и произошло так главным образом по причине, для объяснений которой последний с трудом находит в своей истории место. Я говорю о чрезвычайно многочисленных вариациях современного этического дискурса, которые, как легко проследить, испытали на себе влияние Коббета. Когда нас озарит и мы поймем, что по праву можем назвать в числе наследников наблюдающей социальной критики Коббета Оруэлла и Эйджи, то не уйдем от подозрения, что приводимые Макинтайром примеры этического дискурса после Коббета выбирались либо произвольно, либо в силу личных соображений автора. Если Коббет — образцовый социальный критик, как отмечает Макинтайр, и если другие образцы социальной критики были, по большому счету, вдохновлены его примерами, то со Получившая широкое признание книга американского писателя и киносценариста Джеймса Эйджи (1909–1955) была написана им в соавторстве с Уокером Эвансом. 191 временный этический дискурс начинает казаться не таким уж несостоятельным, даже если судить по стандартам самого Макинтайра. Возможно, для доказательства этого тезиса лучшим современным примером будут работы Уэнделла Берри. Он в дневное время работает на ферме в Кентукки и является одаренным представителем наблюдающей социальной критики. Большинство его работ носит на себе сельский отпечаток, враждебный столичному духу и родственный «Сельским прогулкам». Такие темы, как традиция, община и добродетели (во множественном числе), также весьма характерны для его трудов. Так что характер его работ неправомерно обозначается как антитрадиционалистский или «после добродетели». Конечно, они в немалой степени являются продуктами демократической культуры. В них цитируются Хэзлитт, Торо, Эмерсон и Уитмен, а в стиле его прозы читатель чувствует влияние этих авторов, так же как и его собственные нормативные принципы. Берри, а не Макинтайр, ближе всех здравствующих авторов к Коббету. В моем представлении его работы более честны и строго выдержаны, чем книги Макинтайра. У Берри есть три значительных преимущества перед Макинтайром. Во-первых, это добродетель выражения глубоко духовной чувствительности плюс красивый стиль. Вовторых, Берри работает по большей части, не допуская отклонений от темы или позерства. И в-третьих, его «Беспокойство Америки» и «Спрятанная рана» представляют собой соответственно серьезнейшую из всех написанных на сегодняшний день книг, посвященных этике экологии, и лучшую книгу о расовых проблемах из всех созданных белыми авторами (22). Здесь стоит отметить, что работы Берри, в которых находится место как для традиционалистских, так и для демократических элементов, вообще существуют или, точнее, существуют в условиях демократической современности (modernity). Но то же можно сказать и о работах Макинтайра. Поскольку традиционализм Макинтайра сам по себе принадлежит современному этическому дискурсу и не мог явиться из ниоткуда, он не может не испытывать затруднений при оценке самого себя, не игнорируя того факта, что Коббет и Остин не обрели современных наследников. В «Трех альтернативных версиях» Макинтайр признает, что он в долгу у своих предшественников-томистов, но его риторическая манера, которую мы уже отмечали в книге «После добродетели», не может объясняться только этой данью признательности. Во-первых, создание «После добродетели» было этапом того пути, который привел Макинтайра к новому открытию его предтеч томистов. Предназначение, понимаемое в духе томизма, которое, на192 ^ 5. &() @&A¤ верное, нельзя предвидеть или использовать для объяснения эволюции Макинтайра на этом пути. Во-вторых, связь с томизмом не может исчерпывающе объяснить использование возвышенной риторики, на что я уже обращал внимание читателя. На самом деле его книга принадлежит к мощному романтическому течению в этическом дискурсе, которое нетрудно обнаружить в современном периоде и которое всегда опиралось (и Макинтайр — тому пример) на образы разрушения и раздробленности. Это очень современная форма этического дискурса, но это еще и форма, которая несет свою долю ответственности за неспособность признать свою принадлежность к системе, против которой направлена ее критика. @­ @&¥& ¥ Я воспользуюсь своим правом говорить как о традиционализме, от Бёрка и Кольриджа до Макинтайра и Хауэрваса, так и о современном демократическом мышлении, от Эмерсона и Уитмена до Нэнси Фрейзер и Корнела Уэста, как о традициях. Если я поступлю так, то обрету возможность поместить Берри в область, где традиции пересекаются. Под термином «традиция» в данном контексте я буду понимать дискурсивную практику, рассматриваемую в историческом измерении. Никакого общего критерия для разграничения традиций при таком использовании терминологии не применяется; не будет его и у меня. Я охотно позволю парадигматическим сообщениям стать основаниями для решения вопроса об индивидуализации на базе конкретных примеров. Когда-нибудь исследователь, поставивший перед собой другие цели, найдет причины объединить последователей Кольриджа и последователей Эмерсона под эгидой одной, более широкой, свободно понимаемой традиции. Макинтайр иногда использует этот термин приблизительно в том же смысле, что и я, но порой он трактует его в более узком, нормативно нагруженном смысле. Сюзан Моллер Окин в своей едкой феминистской критической работе о Макинтайре справедливо замечает, что он путает два значения. Несмотря на то что Макинтайр настойчиво использует нейтральный в родовом отношении язык, ясно, что большинство женщин, так же как и мужчины, обладающие феминистским сознанием в той или иной форме, не найдут ни в одной из его традиций рациональной базы для действий морального и политического характера. Так на чем же мы стоим? Находимся мы вне всяких традиций и, следовательно, во всяком случае, на взгляд Макинтайра, «в состоя193 нии моральной и интеллектуальной нищеты»? Может ли человек находиться где-либо, кроме как вне традиции, которая изгоняет его и некоторые наиболее ценимые им вещи из того, что она считает лучшей жизнью человека?.. Он предлагает противоречивые интерпретации того, что же есть традиция. Иногда он характеризует ее как определяющий контекст, подчеркивая предписывающую природу ее «текстов»; иногда он говорит о традиции как о «живой», как о «еще не завершенном повествовании», как об аргументе, относящемся к благам, которые составляют традицию (23). Далее Окин указывает на то, что феминизм, хотя он и не является традицией в том смысле, что он не определяется почтением к авторитетным текстам, все-таки представляет собой традицию во втором значении. Я предлагаю развивать второе значение в терминах концепции дискурсивной социальной практики, рассматриваемой диахронически. Макинтайр говорит о традиции во втором смысле, рассматриваемом Окин, чтобы вызвать доверие к представлению о том, что рациональность зависит от традиции, что, безусловно, так, если под «традицией» мы понимаем исключительно продолжительную дискурсивную практику. Макинтайр использует первый, более узкий смысл, чтобы создать впечатление, что если мы не будем идентифицировать себя с дискурсивной практикой совершенно определенного типа, то неизбежно станем помещать себя вообще за пределы рационального дискурса. Тип дискурсивной практики, который он считает сущностно важным для развития рациональности, подразумевает уважительное повиновение авторитетным текстам и авторитетным интерпретаторам текстов, хотя это требование, как он заверяет, не лишает нас способности производить масштабный пересмотр унаследованных нами убеждений, когда мы оказываемся перед лицом эпистемологических кризисов. Равно существенно для сохранения рациональности практического поведения, согласно представлениям Макинтайра, его воплощение в институтах, способных обеспечивать согласие граждан по поводу доктрины блага человека (вероятно, при помощи катехизиса, адресованного новичкам, и учительских уговоров, применения дисциплины и исключения из сообщества, что относится к инакомыслящим) (24). Когда традиция идентифицируется с традиционалистской практикой (и иерархической институциональной структурой, которая устанавливается этой практикой), у нас появляется возможность утверждать, что современная демократия, благодаря свойственному ей этическому дискурсу, безусловно, не управляемому традицией в этом 194 ^ 5. &() @&A¤ смысле, есть не более чем арена концептуальной раздробленности. Тем не менее, как только проясняется двузначность термина «традиция», становится очевидным, что дискуссии о новом традиционализме лучше всего строить не как споры между традиционным и современным типами этического дискурса, а как споры, участники которых исходят из существования по меньшей мере двух традиций, или направлений, в рамках современного этического дискурса: традиции, приверженной очень узкой концепции методов, которые должны в идеале использоваться традициями, и традиции, приверженной проекту расширения упомянутой концепции при помощи таких средств, как демократия и диалог. Конечно, также возможно определить и третью традицию, задействованную в дискуссии; это картезианская традиция, которую я в свое время определял как традицию, которая предпочитает вовсе не быть традицией. Выше в этой главе я попытался показать, какую неразбериху внес Макинтайр, характеризуя либеральную современность (modernity) как социальное выражение антитрадиционалистского проекта Просвещения. Здесь я только хотел бы привлечь внимание к существованию многочисленных направлений этического дискурса в современных обществах и указать на опасность ситуации, когда мы полностью сосредоточимся на этических традициях в узком смысле. Макинтайр не продемонстрировал того, что традиции его излюбленного типа обладают исключительной способностью сберегать рациональный дискурс, и потому не показал, что только такие традиции достойны изучения и самоидентификации с ними. Более того, если мы будем изучать одни лишь жесткие традиции, которые отстаивал Кольридж, когда усматривал в воспитании добродетельного духовенства противоядие от современной раздробленности, то в дискуссии, в которой участвовал сам Кольридж, мы окажемся не в состоянии услышать обе стороны. В самом деле, мы вовсе окажемся не способны воздать справедливость сложностям современной дискуссии о традиционализме. А она длится вот уже два столетия. Относительно свободный тип традиции, представленной механизмами влияния, идущими от Уоллстонкрафт, Хэзлитта и Эмерсона к их современным наследникам, важен для понимания того, что представляет собой этический дискурс вне институциональных рамок, в которых осуществляется могущество духовенства. Не стоит удивляться, если найдутся авторы, желающие выйти из-под власти такого рода духовенства и стремящиеся дистанцироваться от него через отказ от самой «традиции». Часто трудно предугадать, что может повлечь за собой использование подобной риторики; одна195 ко эти же авторы нередко оказывались достаточно изощренными, чтобы в других случаях уклониться от гипербол и выразить признательность дискурсивной практики, которая эволюционировала от поколения к поколению. Возможно, лучшими из таких авторов были Эмерсон и Уитмен. Термин «традиция» скользит от одного значения к другому не только в писаниях Макинтайра. Из первых философов, размышлявших над противостоянием Просвещения и традиционализма, Гегель полнее других понял важность преодоления представления о том, что современному человеку необходимо делать выбор между разумом и традицией, если он хотел избежать произвола власти над собой. Макинтайр попросту отвергает таких мыслителей, как Томас Пейн, клеймя их за то, что «они встали во главе» проекта Просвещения. Он не приемлет традиционалиста Эдмунда Бёрка как фальшивого теоретика, ренегата и «агента позитивного вреда» (25). Важнейшая теоретическая ошибка Бёрка, согласно Макинтайру, состоит в его неспособности преодолеть характерную для Просвещения оппозицию между разумом и традицией, в силу чего он оказался вынужден перейти в стан традиционализма иррационалистического типа, коль скоро он хотел уйти от интеллектуальных и политических порождений антитрадиционалистского разума. Это здравая критика. Но она не была в полной мере понята Уоллстонкрафт и Хэзлиттом, зато нашла свое выражение на высочайшем уровне философской теории в работах Гегеля. Читатель таких книг Макинтайра, как «Марксизм и христианство» или «Против представлений века о себе», может ощутить родство автора с победой Гегеля над описанным дуализмом и его зависимость от гегелевских достижений. Осознание данной преемственности может быть частью того, что позволяло ему как радикальному социальному критику в те годы не терять из вида источники его собственных теорий. Его работы 1960-х годов уже представляли собой образчики критического мышления, которое сознавало свою зависимость от разворачивающейся диалектики. В одном из лучших критических разборов книги «После добродетели» Ричард Бернштейн пришел к выводу о том, что «в макинтайровой критике проекта Просвещения содержится очень мало того, что упустил или чего не предвидел Гегель». При этом, однако, Бернштейн недоволен тем, что Макинтайр после краткого упоминания о том, что «Гегель называл философской теорией» (ПД, 3), приступает к разговору о современном обществе и этической теории так, как если бы Гегель вообще никогда не существовал. «Это курьезная лакуна, если принять во внимание длину ряда мыслите196 ^ 5. &() @&A¤ лей, о которых Макинтайр пишет, его тонкое понимание Гегеля, явленное в более ранних его работах, и в особенности значимость Гегеля в обсуждении проблем, которые заботят Макинтайра». Похоже, что Макинтайр утратил всякое представление о том, сколь многое он «сам получил от этой традиции для своей критической реконструкции добродетелей» (26). Нетрудно найти в ряду убеждений, разделяемых гегельянским прагматиком вроде Бернштейна или меня, место для теоретических размышлений Макинтайра о традиции и рациональности. Стоит только убрать аргументы, зависевшие от путаницы двух выделенных Окин смыслов «традиции», и затем устранить все следы невольно принятого тезиса в духе Бёрка о том, что все традиции, достойные этого имени, являются традиционалистскими. Но для того чтобы исправить рассуждения Макинтайра о современной мысли общества, потребуются более серьезные коррективы. Ведь к тому времени, когда создавалась работа «После добродетели», сочетание устойчивой ненависти Макинтайра ко всему либеральному и утраты им веры в марксизм затуманило его историческую память. Современные интеллектуальные традиции, которым он более всего обязан, не получили в его трудах никакого признания. Эта необычная форма амнезии тесна связано с его неутешительным выводом о том, что представление о неплодотворности марксизма «разделяется всеми другими политическими традициями в рамках нашей культуры» (ПД, 262). В середине своей научной карьеры Макинтайр не был менее рациональным человеком, чем сейчас. К настоящему времени он мог бы написать современный аналог «Исповеди» Августина. История его обоснованного дрейфа между одной и другой традициями, с которыми он отождествлял себя, сама по себе является убедительным аргументом против теории, согласно которой рациональность может наилучшим образом осуществляться только в рамках твердо последовательных и «хорошо согласующихся» традиций. На протяжении многих лет Макинтайр остается одним из самых интересных и будящих мысль социальных критиков. Даже его ошибочные аргументы часто бывают поучительными, даже его карикатуры нередко оживляют дискуссии. Но он сослужил драгоценную службу своей культуре именно тем, что он — как раз тот человек, на которого хмуро поглядывает его нынешняя теория рациональности. Что же он за человек? Он принадлежит к тому типу людей, которые время от времени видят необходимость позабыть о нравственности, столь удобной, что начинает душить мысль. Некоторые находят в себе мужество занять позицию, для которой еще не придуман 197 удобный ярлык или не созданы легко узнаваемые формулировки, и кому достает практической мудрости разработать для себя критический язык из материалов, позаимствованных во многих источниках. Все это возможно и вне участия в едином либеральном проекте, достижимо для человека, который отнюдь не мечтает быть ничьим гражданином или перестать быть одним из нас. Одна из черт нашего общества, которые более всего мне импонируют, вопреки его многочисленным бедам и несправедливостям, это то, что оно порождает таких людей и порой вознаграждает их по справедливости, то есть раскупает их книги, обсуждает их идеи, а иногда даже предлагает им престижные университетские кафедры. Когда Макинтайр жалуется на «один из самых поразительных фактов», относящихся к нашему обществу, а именно — на отсутствие «институциализованных форумов, на которых... фундаментальные разногласия могли бы систематически изучаться и устраняться» (ЧС, 2), мне бывает трудно понять, как согласуются его сетования с вехами его собственной карьеры или с существованием различных журналов и печатных станков, которые мы с ним используем для преодоления наших разногласий. И в силу этой же логики, обращаясь к его традиционалистской теории рациональности и его описаниям современности, я задумываюсь о том, что сам он, возможно, может послужить лучшим опровержением своих же ключевых утверждений. 198 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ Глава 6. ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПУТЬ МИРА ^ 6 ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПУТЬ МИРА Из всех теологов, ныне работающих в Соединенных Штатах, наиболее плодовитым и влиятельным является, безусловно, Стэнли Хауэрвас. Он также более чем кто бы то ни было способствовал распространению нового традиционализма среди христиан в англоязычном мире. Но во введении к недавно вышедшей книге «Лучшая надежда» он признается, что «устал от споров о мнимых добродетелях или пороках либерализма» (1). Это можно понять, поскольку Хауэрвас бесчисленное количество раз выступал против пороков либерализма, часто при этом обращаясь к авторитету Макинтайра в своих работах, изданных после выхода в свет книги «После добродетели» в 1981 году. В предметном указателе к «После добродетели» содержится более двадцати подразделов к теме «либерализм». Книга начинается с критики соблазнов политического либерализма, которые описывал Ролз (ЛН, 26–27, 30), а за ней следует более общее утверждение; «Если Евангелие истинно, то политика либерализма должна быть ложной» (ЛН, 124). Если в «Лучшей надежде» мы найдем немного свидетельств усталости Хауэрваса от споров и заявлений, то там, вероятно, можно заметить признаки нарастающей тревоги, вызванной тем положением, в которое они завели автора. Он предупреждает читателей — и напоминает себе, что «христиане не могут позволить себе» принимать определение, основанное на том, против чего они стоят. Он говорит о своей книге как о «попытке сделать “за” более определяющим, чем “против”» (ЛН, 9). Он говорит, что «никогда не имел трений с политическими либералами, а его проблемы скорее вызывались широко распространенным среди христиан убеждением, что политический либерализм должен определять деятельность, если не вообще существование, церкви» (ЛН, 9). Он призывает своего читателя, который видит в нем сектанта, «подумать дважды» (ЛН, 10). Однако необходимо заметить, что в своем труде он значительно больше выступает «против», нежели «за». 199 На протяжении двух последних десятилетий главными объектами его критики были теологи двадцатого века, посвятившие себя изучению вопросов социальной справедливости и стремившиеся оградить церковь от демократических упований. Если Хауэрвас будет добиваться своего, такие люди лишатся почетного ореола в памяти христиан Америки, так как они вопреки своим благородным намерениям будут захвачены мирскими делами, а не христианскими добродетелями. У Хауэрваса есть другие образцы добродетели. Нет сомнений, что основным следствием его антилиберальной риторики, если не считать значительного расширения аудитории, стало ослабление самоидентификации христиан с демократией. Ни один теолог не способствовал в большей степени разжиганию в христианских слоях населения недовольства светской политической культурой. << O£ ­ @& ¤ Чтобы понять, что более всего привлекало Хауэрваса в идеях Макинтайра, в первую очередь нужно вспомнить, что Хауэрвас принадлежит к методистской церкви. В течение короткого времени он преподавал в колледже Августаны, затем вошел в штат богословского факультета университета Нотр-Дама, а в 1984 году занял кафедру в методистской школе богословия Дьюкского университета. Но с самого начала константой в его концепциях оставался свойственный его традиции акцент на мощи Святого Духа, способного изменить жизнь верующего. Основатель методизма Джон Уэсли учил: когда Бог «оправдал» верующего посредством дара веры и поставил его таким образом в личные отношения с собой, то сам верующий получил возможность обрести святость путем достижения христианского совершенства. Этот процесс, именуемый «освящением», зависит от божественной милости, но также требует от оправданного грешника серьезных и неустанных усилий по самосовершенствованию. Приверженность Хауэрваса методистской доктрине освящения привела его к неудовлетворенности основными формами протестантской этики, которые он изучал при подготовке докторской диссертации в Йеле. Он пришел к переосмыслению учения, которое было центральным для протестантской Реформации, — доктрины sola fide. Согласно этой доктрине, грешник считается оправдан Единой веры (лат.). 200 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ ным, или наставленным на путь истинный, только в силу божественной милости, явленной в даре веры. А это означает, что человек не может установить правильные отношения с Богом благодаря своему нравственному поведению или добродетельным устремлениям; возможно это только в том случае, если Бог посылает ему дар веры. С точки зрения Хауэрваса, в этой доктрине заключена большая доля правды, но многие протестанты допускают серьезную ошибку, когда используют эту доктрину для того, чтобы, в конечном счете, ослабить не менее важную доктрину освящения, которая налагает на оправданного грешника обязательство следовать добродетелям христианского совершенствования. Так, лютеранская теология отчасти ответственна за вытеснение понятия «добродетелеи» на периферию христианской этической мысли с некогда занимаемой ими центральной позиции. Хауэрвас вознамерился воздать добродетелям должное. В области этики это означает сместить точку равновесия между тем, что есть правильно, и тем, что есть благо. В теологии же это означает понижение статуса Бога предписывающего и возвеличение Бога, персонифицирующего добро в образе Христа и милостью своей преображающего природу тех, кто следует за ним (2). В своей докторской диссертации Хауэрвас не только изложил уэслианскую и кальвинистскую концепции освящения, но и связал эту доктрину с более старой философской трактовкой добродетелей, восходящей к Аквинату, а через него — к Аристотелю (3). Теперь можно увидеть: на кафедру преподавателя теологической этики Хауэрваса привело то, что сам он в свое время называл «экуменическим богословием в католическом университете» (4). Итак, перед нами молодой талантливый протестантский теолог, высказывающий сомнения в той самой доктрине, которой вдохновлялись деятели протестантской Реформации, и выступающий за возрождение тем, которые поднимал первый этический теолог католицизма. Но в наследии Аквината Хауэрваса прежде всего интересует его концепция добродетелей, а не приписываемые ему схоластами от томизма и основанные на естественном праве характеристики нравственных принципов. Католики не продвинулись дальше лютеран в воздании должного добродетели в моральной теологии. В глазах методиста Хауэрваса христианская этика носит перфекционистский характер. Речь идет главным образом о том, кем христиане призваны быть, а не о том, какими они должны быть, и этот вопрос для Хауэрваса остается главным, когда он читает тексты Аквината. Работы Хауэрваса 1970-х годов оказали огромное влияние на американскую теологию, поскольку ему, как правило, удавалось убеж201 дать теологов, представлявших разные фланги широкого спектра, пересмотреть роль добродетели в христианской этике (5). Эти работы вдохновляли и консолидировали таких авторов, как Элизабет Энскомб, Айрис Мёрдок, Стюарт Хэмпшир и Эдмунд Пинкоффс, которые еще прежде поднимали вопрос о схожих дисбалансах в философской этике. Наверное, самым громким выступлением Хауэрваса того периода было эссе, озаглавленное «От системы к истории: альтернативная схема рациональности в этике» (ИТ, 15–39). Соавтором его выступил коллега Хауэрваса по Нотр-Даму католик Дэвид Баррел. Именно в этом эссе современная этическая теория была прозвана «этикой недоумения»; это словосочетание Пинкоффс применил в работе, первоначально опубликованной в 1971 году. Пинкоффс первым подчеркнул, что «этика недоумения» склонна сосредоточиваться на «недоумении, которое возникает вследствие того, что я попадаю в определенную ситуацию. Ситуация такова, что ее можно описать в абсолютно общих терминах, не прибегая к какой-либо характеристике меня как индивида, в том числе к моим личным представлениям о том, что является достойным или недостойным поступком, взглядом или чувством; о том, что достойно меня» (6). Получается, что недоумение — это пример ситуации, могущей вызвать нравственную растерянность, проблему отнесения ее к той или иной нравственной категории. Этика недоумения в трактовке Хауэрваса — это отражение разнообразия дискурсов, в которых характер человека успешно устраняется из этического рассмотрения. Под недоумением следует понимать повествование о ситуации, освобожденное от всего, за исключением нескольких деталей, необходимых для демонстрации того, что она может обернуться столкновением конфликтующих неопределенностей. Для этого пример должен вначале пройти через фильтр, благодаря чему повествование обретает тонкость и — с точки зрения человека, применяющего к нему правила, — ясность. Хауэрвас и Баррел утверждали, что в результате такого процесса повествование делается чересчур тонким и абстрактным, чтобы соответствовать тем нравственным проблемам, с которыми нам приходится сталкиваться в реальной жизни. Если мы будем сосредоточиваться главным образом на примерах такого рода, то можем прийти к искаженному пониманию ситуаций, требующих размышлений этического характера. Со временем это также может исказить наше представление о нравственной жизни как о целом. Этика недоумения порождает мнение, будто нравственная жизнь есть не более чем цепочка проблем, требу202 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ ющих разрешения, и, соответственно, взгляд на личность (self) как на нечто немногим большее, чем твердая воля. Там, где этика недоумения представляет собой многообразие этических дискурсов, этическая теория обязана озаботиться формулированием принципов, которые позволили бы нам систематизировать и рационализировать наши интуитивные понятия о недоумении. Современная этическая теория «представляет попытку заставить моральную жизнь основываться на характеристиках системы» (ИТ, 23). В качестве альтернативы Хауэрвас и Баррел предлагают этику характера. Вместо примеров, приводимых в этике недоумения, этика должна прибегать к повествованиям, которые были бы достаточно богаты, чтобы выявить значение черт добродетели и порока в характере жизни определенных людей. Согласно приводимому здесь определению повествование — это «связное описание действия и ощущения, которое приводит к заключению. Заключение не должно быть обособлено от самого повествования; другими словами, повествование лучше тогда, когда оно не заканчивается предписывающей моралью» (ИТ, 28; курсив в оригинале). Истории, небезразличные человеку, определяют сущность его этической жизни. Этика недоумения, оперирующая тонкими примерами, слишком абстрактна, чтобы в ней можно было усмотреть весомую сущность. Религия, по существу, предполагает «принятие определенного набора текстов за канонический» (ИТ, 38), но эти тексты становятся меньше похожими на примеры, которыми оперирует представитель современной этической теории. Скорее это что-то вроде Евангелий или «Исповеди» Августина, где представлены «образцовые проявления» божественности, святости или добродетели. Критика этики недоумения была одним из наиболее сильных аргументов, выдвигавшихся Хауэрвасом в 1970-е годы. Ее быстро стали ассоциировать с предметом повествовательной теологии, который в то время привлекал немалое внимание в богословских учебных заведениях. Однако Хауэрвас тем временем многому научился у Джона Ховарда Йодера, другого протестанта, преподававшего в тот период в Нотр-Даме теологическую этику. Йодер представлял меннонитов, пацифистское вероучение, поначалу зародившееся в качестве радикального крыла протестантской Реформации, руководимого Менно Симонсом, голландским священником, отошедшим от церкви. В весьма аргументированном эссе 1974 года «Церковь непротивления» (ВД, 197–221) Хауэрвас предложил подробный анализ взглядов Йодера. Он утверждал, что пацифизм Йодера, облеченный в профессиональную терминологию, был, в сущности, не затронут стан203 дартной аргументацией против пацифизма. Он также подтверждал заявление Йодера о том, что задача церкви состоит не в том, чтобы преобразовать социополитический порядок путем прямых обращений к нему, а в том, чтобы установить свою общность ученичества — в мире, а не мира. Это эссе почти привело автора к позиции пацифиста. От последнего шага его, по-видимому, удержала тревога: «Природа зла шире, чем вопросы насилия как такового. Мы постоянно встречаемся с другими тонкими формами агрессии и несправедливости, более опасными из-за их ненасильственного характера, и применяем их к другим людям. Какую форму принимает непротивление перед лицом такого рода проблем нашей жизни?» (ВД, 221). На этом этапе Хауэрвас беспокоился, что пацифизм не умеет признать, насколько трудно человеку избавить себя от хитросплетений зла в мире. Конечно, воздержание от убийств может иметь ненамеренные, но предвидимые последствия. И насилие не единственное зло, которого нужно избегать. В последней части своего эссе Хауэрвас разбирает другие серьезные вопросы, связанные с позицией Йодера. Один из них, «касающийся даваемой Йодером интерпретации природы дуализма веры и безверия», состоит в том, «могут ли некоторые формы справедливости, основанные на возможностях, которые открыты неверию, не иметь более позитивного отношения к жизни веры», чем это готов допустить Йодер (ВД, 217) (7). Далее Хауэрвас спрашивает, «не теологическая ли предрасположенность Йодера мешает ему обратиться к более позитивному восприятию природы политического сообщества. Уверенность Йодера в том, что насилие есть сущность государства, не позволяет ему увидеть, что государство как форма сообщества не может быть объяснено или сведено к обществу взаимной защиты в духе Гоббса» (ВД, 218). Хауэрваса не устраивает, что «Йодер, вероятно, предполагает, что язык справедливости полностью определяется грехом и потому с точки зрения веры может пониматься только негативно… Таким образом, язык веры не может иметь позитивного отношения к языку справедливости». Но Хауэрвас задается вопросом, «может ли христианин выносить те или иные дискриминационные суждения социального порядка, не прибегая в какой-то мере к языку справедливости» (ВД, 219). Трудность кроется в том, что Йодер, вероятно, проводит «точную параллель между верой и новой эпохой [царства Божия], неверием и старой эпохой». Хауэрвас заключает: «В этом не было бы трудности, если бы Йодер понял, что отношения между двумя эпохами более динамичны» (ВД, 220). 204 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ Хауэрвас продолжал развивать свои воззрения на повествование и добродетель, борясь при этом с влиянием Йодера, на протяжении всех 1970-х годов. Но к началу 1980-х он обрел два важных убеждения, в силу которых тональность его работ заметно изменилась. Во-первых, он разрешил свои сомнения относительно позиции Йодера и провозгласил себя пацифистом. С этого момента он будет стоять на том, что сущность церкви в том, что она являет собой сообщество мирной добродетели. Цель этого сообщества — следовать примеру Христа в его ненасилии и потому идти по пути Бога перед лицом зла в мире. Во-вторых, когда в 1981 году появилась книга Макинтайра «После добродетели», Хауэрвас немедленно с одобрением назвал ее автора парадигматическим философским критиком нашего времени. С тех пор он стал использовать предложенную Макинтайром традиционалистскую систему понятий, говоря о добродетели и повествовании, поскольку есть философ, который не просто соглашается с ним в том, что эти понятия центральны, но и выдвигает убедительное историческое объяснение того, каким образом этика недоумения приобрела доминирующее положение. Согласно этой трактовке, многое, что неправильно в современном обществе и современной мысли, можно объяснить пренебрежением к тем понятиям, которые сам Хауэрвас выдвигает на первый план. Перемену во взглядах Хауэрваса впервые отразил вышедший в 1981 году сборник его эссе, который назывался «Сообщество характера», а еще более полно ее представила книга 1983 года «Мирное царство»; она остается наиболее цельным изложением его теологических и этических взглядов зрелых лет (8). В обеих этих книгах церковь представляется как сообщество добродетели в «разделенном» или «раздробленном» мире (СХ, 89–110; МЦ, 1–16). В последнем случае (МЦ, 4–5) приводится целая страница из горделивого вступления к «После добродетели», где задается тон всей книге. После этого Хауэрвас добавляет: «Если Макинтайр прав, то мы живем в ненадежном положении. Жизнь в мире, состоящем из моральных фрагментов, всегда находится на грани насилия, так как не существует средств, которые гарантировали бы, что нравственная аргументация сама по себе способна разрешить наши нравственные противоречия. Неудивительно, что мы в таком мире жаждем абсолютов, поскольку по праву желаем мира в нас самих и в наших взаимоотношениях. Безусловно, насилие в мире было всегда, но когда у нашей цивилизации, по всей видимости, нет средств обеспечить внутренний мир, наше положение, наверное, безнадежно» (МЦ, 5–6). 205 Хауэрвас согласен с Макинтайром в том, что граждане либерального демократического государства — это не имеющие корней индивиды, а не члены сообщества, объединенные приверженностью одним и тем же «каноническим текстам» и «авторитету образцов». Каждый из них как индивид имеет собственные, частные представления о благе и стремится к удовлетворению собственных желаний. Чтобы добиться этого, люди могут принимать на себя роли и при желании вступать в ассоциации с другими людьми. Но они не имеют той повествовательной рамки, которая им понадобится, если они хотят придавать своей жизни смысл, поощрять добродетель, вести друг с другом содержательный диалог по этическим и политическим вопросам. Этические теоретики, как и все мы, начинают жизнь с набором унаследованных моральных правил, укорененных в традиционных контекстах, в которых они изначально имели смысл. Затем люди, живущие в условиях раздробленности, начинают стремиться к источнику стабильности и ищут принципы, принять которые имеет основания каждый рациональный человек. Именно раздробленность, вызванная распадом традиционного образа жизни, заставляет людей держаться за такие принципы. Но поскольку теоретический проект лишь отражает стоящую за ним раздробленность, он обречен на крах. В соответствии с этим взглядом в современную эпоху этика перестает иметь отношение к поощрению добродетели и оборачивается поиском универсально признанных принципов. Так как ни обыкновенные граждане, ни этические теоретики не могут достичь согласия в отношении того, какие принципы правильны, трудно увидеть, откуда следует, что такие принципы, какие мы ищем, существуют. Всякая этическая теория предоставляет свидетельства того, что конкурирующие теории ошибочны, и все-таки претендует на то, что в ее рамках найдены универсально признанные принципы. Католические теоретики естественного права как будто занимаются тем же делом, что и современные моральные философы. Но очень многие люди не согласны с католиками относительно фундаментальных принципов естественного права, и едва ли следует ожидать, что эти принципы записаны в нашем сознании Богом. Если такие принципы существуют, то они вызывают слишком много разногласий среди безусловно рациональных людей и потому едва ли принесут нам большую пользу. Далее Хауэрвас говорит: другая проблема естественного права заключается в том, что его теория создает впечатление, будто определенно христианская вера немногим отличается от этики. Задача 206 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ христианской этики в том, чтобы объяснять, какое значение для этики имеют убеждения и практики христиан. Если христианская вера небезразлична для этики, не стоит удивляться, что люди, воспитанные вне церкви, приходят к этическим убеждениям, которые вызывают их разногласия с христианами. Главный способ убеждать таких людей, на взгляд Хауэрваса, — это проповедовать Евангелие и вести жизнь, согласную с Евангельскими правилами, чтобы люди могли видеть, что собой представляет христианский образ жизни. Может быть, эти люди все-таки его отвергнут. Когда Бог прикажет, чтобы они обратились в христианство, они так и поступят. Задача христианина — проповедовать Евангелие и жить в соответствии с ним, а не искать философской базы, привлекательной для всякого рационального человека, является он христианином или нет. Попытка найти основания, которые были бы убедительны для всякого рационального человека, вне зависимости от его воспитания и жизненных обстоятельств, не только обречена, но и отклоняет силы церкви от цели, к которой она призвана, то есть просто быть церковью. Быть же церковью, согласно взглядам Хауэрваса, ныне полностью перенятым им у Йодера, означает поддерживать пацифистское сообщество добродетели в мире насилия и ожидать прихода мирного царства, в котором власть Бога абсолютна и вечна. Хауэрвасу более интересны не поиски универсально признанных моральных принципов, а стремление увидеть, чему привержены христиане как члены определенного сообщества. В центре христианской практики на протяжении столетий лежит пересказ конкретных повествований и поощрение определенных привычек и склонностей. Иными словами, Хауэрвас начинает не с фундаментальных принципов, открытых чистым разумом, а просто с литургической и этической практики, которую он и его единоверцы осуществляют в силу своей принадлежности к церкви. Христианская этика, заключает он, существенно нуждается в ее последователе, «христианине» (МЦ, 1–2, 17–34). По его мнению, всякая форма этики нуждается в определении — прилагательном, обозначающем связь с некоей конкретной традицией или конкретным сообществом. Даже защитники естественного права, которые пытаются основывать этику на универсальных позициях, на деле выражают веру и убеждения, принадлежащие к определенной исторической традиции и практике. Христианин, как и всякий другой, с чего-то начинает. Но не все начинают с одного и того же места. Место старта определяет, как и что человек думает, как и почему действует. Дальнейший опыт и диалог с другими могут убедить его 207 переменить мнения. Разумность требует от него оставаться открытым для такой возможности. Гарантий в этой жизни не бывает. Мы можем лишь начать там, где находимся, и сделать все возможное, чтобы разумно распорядиться унаследованной нами традицией, менять свои позиции, когда у нас, как нам представляется, есть достаточные основания для этого. Выступая против поиска универсально действующих принципов, Хауэрвас допускает, что все мы обладаем каким-то традиционным наследием, за которое несем ответственность. Тут видно, как много общего у Хауэрваса с перфекционизмом Эмерсона, взглядами Уитмена на значимость характера и прагматизмом Дьюи. Может показаться, что он прокладывает путь к плюралистическому обмену мнениями между людьми, представляющими различные точки зрения, — к обмену мнениями, посвященному по крайней мере отчасти обсуждениям требований справедливости как внутри церкви, так и вне ее. За пренебрежение этими требованиями он упрекал Йодера. По-видимому, он активно исследовал реальную перспективу в сборниках эссе 1970-х годов. Но в «Мирном царстве» он неявным образом отказывается от такой возможности, когда представляет политическую культуру, существующую вокруг церкви, при помощи терминологии, сочетающей антилиберализм Макинтайра с предложенной Йодером «дуалистической» концепцией отношений между верой и неверием. А в последующих книгах он заявляет об отказе открыто, когда отвергает окружающую политическую культуру во все более резких выражениях. «Либеральное общество», «все светское» и «демократия» — так определяет он то, во что превратился мир в эпоху раздробленности после гибели добродетели и традиции (9). Его прежние сомнения относительно «дуализма» Йодера внезапно и полностью исчезли с горизонта. @<¥ ¤ Хауэрвасу не нравится, когда его называют «сектантом». Во введении к книге «Христианское бытие сегодня» он возражает оппонентам, что меннонитское представление о церкви, которое он перенял у Йодера, не влечет за собой ухода из мира (10). Он справедливо замечает, что перед христианами стоит не простой выбор между «полной вовлеченностью в культуру и полным уходом» (ХБС, 11; курсив в оригинале). Они должны выбирать — на своих условиях, — какой уровень вовлеченности совместим с христианскими убеждениями. Этот вопрос должен решаться с учетом контекста. Он при208 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ знает, что «действительно был критически настроен в отношении либеральных социальных и политических предрассудков, особенно в отношении их проявлений в американском обществе… Внеисторический характер либеральной социальной и политической теории видится мне чрезвычайно пагубным, так как во имя свободы узакониваются манипуляции в общественных отношениях» (ХБС, 12). Но Хауэрвас напоминает критикам, что «писал, почему и как христиане должны поддерживать и приобретать профессии, связанные с медициной и юриспруденцией, об отношениях между христианством и иудаизмом, о том, как мы могли бы представлять себе справедливость, анализировал нравственную дискуссию о ядерной войне» (ХБС, 7). Поэтому должно быть ясно, что он не выступает за полный уход даже из либеральных политических структур. Более того, Хауэрвас открыто отрицает, что «единственное сообщество, в котором могут и должны жить христиане, это церковь». «Христиане с полным правом становятся членами многочисленных сообществ. Так, я не только христианин, но и преподаватель университета, житель Техаса, гражданин Соединенных Штатов и преданный болельщик “Даремских быков”» (ХБС, 15). Насколько я понимаю, смысл этого высказывания в том, что Хауэрвас признает, будучи гражданином США, определенные обязанности перед согражданами. Но он настаивает: христианское единство требует пристального изучения мнимых обязанностей, возникающих в силу социальных связей вне церкви. «От христиан требуется не уход, а ощущение избирательности служения и способность расставлять приоритеты». В частности, «христиане обязаны отказывать в поддержке» общественному или политическому строю, который «прибегает к насилию ради поддержания внутреннего порядка и внешней безопасности» (ХБС, 15). Хауэрвас неоднократно заявлял, что представление Йодера о церкви, если оно сформулировано должным образом, не влечет за собой неприемлемо жесткой формы дуализма церкви и государства. Он ставит своим критикам в вину то, что они не сумели оценить позицию Йодера, выраженную в предложенных им самим понятиях. Он говорит, что их заблуждения происходят из-за строго проводимого Эрнстом Трёльчем различения между «церковью» и «сектой». Я не предполагаю атаковать Хауэрваса по вопросу о том, как нужно трактовать позиции Йодера и Трёльча. Напротив, я подозреваю, что если бы Хауэрвас и его критики согласились в течение целого десятилетия писать и выступать, воздерживаясь от употребления слов «сектантство» и «либерализм», мы быстро ра209 зобрались бы, как много они имеют сказать. Смысловая нагрузка обоих этих понятий искажает содержание дискуссии. Термин «сектантство» слишком легко можно неверно применить, говоря, что христиане «всегда могут по собственному усмотрению быть уважаемыми, словно мученичество — это произвольная склонность или церковная политика» (11). Люди, не лишенные совести, всегда могут встретиться с таким общественным и политическим порядком, который просто должен быть ими отвергнут в силу их фундаментальных убеждений. Всегда остается открытым вопрос, настал ли такой момент. Верно, что Хауэрвас время от времени говорит, что именно сейчас такое тотальное отторжение от американского общества не требуется. Но он не до конца понимает, насколько столь тяжеловесное использование им понятия «либерализм» создает у читателя представление, что на самом деле тотальное отторжение необходимо. А это обстоятельство, на мой взгляд, оставляет в силе обвинение в сектантстве. Настоящая проблема заключается в том, что же происходит, когда Хауэрвас соединяет проводимое Йодером разделение церкви и мира с антилиберализмом Макинтайра. В ответ на упреки в сектантстве Хауэрвас не сказал почти ничего о том, чем он обязан Макинтайру. А ведь ответ на этот вопрос должен был быть ясен с самого начала. Если взгляд Йодера, взятый в отдельности, составлял истинную проблему, то критики писали бы больше о нем, а Хауэрвас рассматривался бы как относительно менее весомая фигура, герольд, возвещающий о явлении наставника. На деле же копья ломаются вокруг созданного Хауэрвасом сплава тематики Йодера и Макинтайра. Следовательно, нужно разобраться, каков же вклад Макинтайра в этот сплав. Как мы видели в предыдущей главе, традиционалистская риторика Макинтайра основывается на дуализме традиции и современности. «Современность» и «либерализм» стали в его понимании почти взаимозаменяемыми понятиями, двумя названиями ситуации, в которой после того, как добродетель утратила значение, стал доминировать зловредный индивидуализм. А когда эта риторика присоединяется к йодеровской концепции церкви, результатом оказывается жесткий дуализм церкви и мира — вне зависимости от намерений Хауэрваса. Здесь, на мой взгляд, кроется корень позиции критиков Хауэрваса. Нельзя находиться в церкви, понимаемой так, как понимает ее Йодер, и описывать окружающий мир так, как описывает либеральное общество Макинтайр, если только скрыто не принимать дуалистическое, в сущности, положение так, как это не нравилось Хауэр210 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ васу в 1974 году. Защита такого положения, которая концентрирует внимание исключительно на данную Йодером концепцию церкви, вызывает вопросы. Но есть при этом и другая причина того, что споры о сектантстве усилились, а не стихли. Вскоре после опубликования «Христианского бытия сегодня» Хауэрвас, как представляется, утратил свой недавний интерес к проблемам справедливости. К 1991 году, когда вышла в свет его работа «После христианства», в своем лексиконе он как будто решил отделить «язык веры» от «языка справедливости» такими же методами, как те, за которые критиковал Йодера (12). Главу 2 он отдает объяснениям, «почему справедливость не годится для христиан». Хауэрвасу нравится вначале шокировать, а затем объясняться, и в данном случае мелкий шрифт беспокоит читателя ненамного меньше, чем жирный. Глава открывается заявлением, что «нынешний акцент на справедливости и правах как главнейших нормах для социальных свидетельств христиан является ошибкой» (ПХ, 46). Хауэрвас не ищет поддержки своей позиции у Йодера, да ему и нелегко было бы это сделать, так как я не вижу признаков того, чтобы Йодер высказывался в этом же духе. Нет, Хауэрвас прибегает к аргументации Макинтайра, чтобы защититься от критики Ролза (ПХ, 47–50, 60–62), и предполагает, что теология освобождения могла бы «нести ответственность за чувство освобождения, которое противоречит Евангелию». Впрочем, на последней странице главы он в зашифрованном виде намекает, что в его намерения не входит призывать христиан «отказаться от работы во имя справедливости в модернизированных обществах». Так что же, получается, что либеральная концепция справедливости не годится, а работа во имя справедливости на библейских основаниях очень даже годится? Этого Хауэрвас не говорит. И он не берет на себя ни в одной известной мне работе разъяснения, какие же это библейские основания (13). Зато представляется ясным, что из философии Хауэрваса почти полностью устраняется «язык справедливости». Чтобы увидеть результаты описанных процессов, сравним манеру Хауэрваса описывать социальные процессы, в которых формируются личности (selves), и манеру демократических авторов феминистского направления. Наши действия, верования и черты характера, согласно Хауэрвасу, не суть плоды решений, принимаемых на основании размышлений. Более вероятно, что они являются следствиями определенного воспитания и нашего каждодневного участия в практиках и деятельности институтов нашего общества. Этот процесс начинается в детстве. Мы учимся играть в одни 211 игры, а не в другие. Мы слышим рассказы, учимся узнавать и оценивать действующих в них лиц. Подражая старшим, мы участвуем в ритуалах повседневной жизни. В каком-то обществе это означает униженность в присутствии определенных людей. В другом — крепкое рукопожатие и уверенный взгляд при встречах. Возможным вариациям несть числа, но очень важно, какие из них нам предоставляются, поскольку это и определяет, какими людьми мы имеем возможность стать. Хауэрвас думает, что в христианской этике необходимо постоянно помнить о способах, которыми социальные практики формируют личность. Он считает, что основной вопрос, которым нужно задаваться при рассмотрении того или иного общества, это вопрос о том, каких людей оно порождает. Если базовые типы характеров формируются в плохом, недобром обществе, то, как он считает, вы уже знаете самое главное о данном обществе. Глория Альбрехт, автор интересной феминистской критики Хауэрваса, согласна, что общества моделируют личности в играх, рассказах и других родах деятельности (14). Она согласна также, что вопрос о том, какого рода людей порождает общество, действительно важен. Она согласна даже с тем, что критические рассуждения могут быть действенны только в рамках ограниченного социального пространства, и тогда этика всегда нуждается в определении, как и указывал Хауэрвас. Но она считает, что Хауэрвас не высказывается с полной ясностью относительно своего собственного социального пространства. Я бы сказал, что одна из причин этого в том, что он не прибегает к языку справедливости, когда говорит о методах, при помощи которых он и его читатели стали такими людьми, какими стали. И поэтому он приходит к созданию этики, которая заведомо укрепляет несправедливые соглашения. Ясно видно, что Хауэрвас и Альбрехт расходятся в том, каких людей можно считать подлинно добродетельными. Альбрехт полагает, что демократия в целом и феминизм в частности преподали христианам важные уроки того, что есть добродетель. Насколько я вижу, она напоминает нам, что справедливость — это одна из добродетелей, о чем говорил и Аквинат. Но справедливость, то есть добродетель, которая воздает каждому человеку по заслугам, не может принимать как данность, что патриархальная структура власти, будь то в церкви, в семье, в бизнесе или в государстве, адекватно отражает то, чего в действительности заслуживают мужчины и женщины. Нам необходимо смотреть, как общества создают людей, из которых они состоят. Но если мы взглянем на этот вопрос так, чтобы увидеть реальные заботы всех людей, то, по мнению Альбрехт, мы 212 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ увидим, что Хауэрвас не замечает ряда пороков, которые поощряет исповедуемая им форма традиционализма. Когда некоторые сторонники феминизма говорят, что их цель — освобождение женщин, они как будто имеют в виду, что желают устранить социальные ограничения, существующие ныне, чтобы впервые воссияли реальные достоинства женщин. Однако Альбрехт признает, что ограничения, обусловленные теми или иными социальными обстоятельствами, будут всегда. Нельзя просто так устранить все социальные ограничения. Вопрос в том, какие это ограничения, а не в том, сохранятся ли они. Какие бы практики или институты ни пришли на смену ныне существующим, они создадут человеческие типы, которые могут существовать при данном общественном устройстве. Хауэрвас в некоторых своих работах делает сходное замечание, выступая против теологии освобождения (напр., ПХ, 50 — 58). Если вас увлек идеал освобождения, говорит он, то в конце концов вы придете к выводу, что конечной целью является освобождение от любых социальных ограничений. Но личность (self), свободная от всех ограничений, не будет способна добиться многого. Чтобы быть свободным делать многое из того, что вы признаете достойным, вам нужно приобрести навыки и привычки путем участия в практиках и деятельности институтов. Вы будете свободны штурмовать высоты в футболе, джазе, написании сочинений или строительстве соборов путем участия в деятельности, которая накладывает ограничения на ваше поведение, где не все из того, что вы будете делать, будет считаться приемлемым, где люди, обладающие большим опытом и добившиеся более высоких достижений, могут служить ролевыми моделями и выступать с критикой. Идеал совершенной свободы или полного освобождения не поможет вам. Во всем этом Хауэрвас прав, пусть и не всегда справедлив в своей критике взглядов «либералов» и «либерационистов». Его позитивная цель при построении данной аргументации состоит в том, чтобы доказать, что категории добродетели, традиции и повествования имеют решающее значение в этике. Этим категориям он отдает предпочтение перед концепцией освобождения, поскольку думает, что они помогают ему разрешить вопрос о том, какие типы людей порождает наше общество, и еще более важный вопрос: каким общественным практикам и институтам мы должны быть привержены. Альбрехт согласилась бы, что это не соответствует стремлению создать общество, в котором мы были бы полностью свободны от ограничивающих влияний. Если молодая женщина намерена стать выдающейся исполнительницей джаза, ей 213 придется встречаться со стандартами компетентности и мастерства и стремиться соответствующим образом ограничивать свою исполнительскую практику. Она многого добьется, если будет учиться у кого-то более опытного и успешного, чем она сама, и до достижения определенной ступени в своем развитии подражать образцам совершенства. Но предпосылкой для того, чтобы быть свободной играть джаз хорошо, является требование свободы вообще играть. Другой предпосылкой является возможность учиться у компетентных мастеров, которые охотно помогут ей совершенствоваться и будут ее поощрять. Если существующие ныне институты лишают ее таких возможностей в силу того, что она женщина, то накладываемые на нее ограничения являются теми, от которых ей необходимо освободиться. Иными словами, она должна быть освобождена от такого рода социальных ограничений, которые либо исключают женщин из социальных практик, либо сковывают их осуществление, если женщинам позволено в них участвовать. Можно стремиться к освобождению от ограничений такого рода и при этом не считать, что было бы возможно или желательно обходиться без ограничений вообще. Я осмелюсь утверждать, что одна из демократических практик, в которых женщины могли бы свободно участвовать, — это стремление, присущее нам как народу, брать на себя ответственность за деятельность — нашу и тех институтов, которые составляют сущность нашей совместной жизни. Среди таких институтов — семья, компания, рынок, университет, церковь. Среди таких практик — воспитание младших, производство и реализация товаров, осуществление стремления к знаниям, вероисповедание. Похоже, что Хауэрвас не видит в такой демократической деятельности первостепенной важности практику, которая предполагает поощрение добродетелей или выстраивание и передачу повествований. Он видит в демократической постановке вопросов не ценную социальную практику наподобие джаза или бейсбола, а одну из отрав индивидуализма, разъедающих традицию. В его представлении (и здесь заметно влияние Макинтайра) либеральная демократия и традиция являются противоположностями, неизбежно противостоящими друг другу. А поскольку он рассматривает эти предметы в таком свете, то сползает к идее, что единственным путем к формированию добродетельных людей является следование определенной досовременной, авторитарной традиции, которая находится в центре его внимания. В этой книге я отстаиваю мысль о том, что демократическая постановка вопросов и представление аргументации 214 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ являются практикой такого рода, который предполагает и поощряет добродетели, включая справедливость, и становится, подобно всякой социальной практике, традицией, когда ей удается продержаться в жизни нескольких поколений. Я отвергаю, как непоследовательную, идею поиска социальной ситуации, полностью свободной от ограничений (15). В моем представлении свобода — это род ограничений, устанавливаемых нормами. Перед нами, на мой взгляд, встает вопрос: приверженность каким нормам мы должны развить в себе, зная все, что мы знаем. Если, как я покажу в части 3, нормы суть порождения социальных практик, то вопрос сводится к тому, какие практики и институциональные установления нам следует стимулировать. Мы не стоим перед выбором между непоследовательным поиском существования без ограничений, с одной стороны, и авторитарными практиками и иерархическими институтами — с другой. Здесь нам предстоит выбирать между этикой поведения и этикой характера, между деонтическими и аретаическими соображениями. Правила важны, потому что в них в открытой форме выражаются нормативные ограничения поведения, возникающие в социальных практиках и институтах. Эти нормативные ограничения делают возможными некоторые формы свободы выражения, различные роли и устремления, а следовательно, и появление разных типов людей. Обращение к добродетелям важно, так как оно позволяет нам открыто выражать наши идеалы при вынесении суждений о том, какими людьми мы стали, а это, в свою очередь, позволяет нам возвратиться назад и спросить, требуются ли изменения в социальных практиках и институтах. Приверженность демократии не предполагает отказа от традиции. Она требует одновременного принятия ответственности за критику, за обновление традиции и за справедливость наших социальных и политических установлений. Как первоначально говорил Хауэрвас, критикуя Йодера, сомнительно, «может ли христианин выносить те или иные дискриминационные суждения социального порядка, не прибегая в какой-то мере к языку справедливости» (ВД, 219). Разделяемая нами ответственность за справедливость наших политических установлений внутри и вне наших религиозных сообществ касается не только тех, кто принял на себя роль; она касается и того, какими будут основные роли и типы характеров. Альбрехт говорит, что в наше время принятие ответственности за социальные роли и типы характеров в нашей общественной системе влечет за собой вопрос, как мы могли бы видоизменить наши практики и институты так, чтобы сформировать в себе личности (selves), 215 способные справедливо относиться к женщинам. Этот вопрос уже поднимали Мэри Уоллстонкрафт, Харриет Мартино и Вирджиния Вулф, но при этом ни одна из них не выступала за общество, абсолютно свободное от ограничений (16). Однако Хауэрвас проявляет мало внимания к сетованиям феминистских авторов о том, какие человеческие типы порождает наше общество и какие роли оказываются доступными для них. Более всего его интересует роль ученика (что и понятно). Он мог бы сказать, что ученичество доступно всем христианам. Но проблема в том, что накладываемые им нормативные ограничения будут игнорироваться, если только церковь не будет помнить о своем истинном призвании. Даже в Средние века, как указывает Йодер, основная тенденция в церкви уже отступила перед соблазном преследования нехристианских по своей сути интересов. Эта проблема возникла тогда, когда император Константин обратился в христианство. Неожиданно власть обратилась к христианам с просьбой помогать императору советами по управлению империей. Когда христианство в его католической форме сделалось официальной религией империи, говорит Йодер, оно утратило связь со своим истинным предназначением быть сообществом мира и гостеприимства, готовить почву для пришествия царства Божия. Попытки католиков Средневековья править всемирной цивилизацией на основе христианских принципов справедливости на деле привели к тому, что христианство стало в большой степени принадлежностью мира. Оказалось, что христианские моралисты обратились к старому вопросу о том, как можно управлять империями и вести войны с любовью. По мнению Хауэрваса, это обстоятельство связало их самыми разнообразными интеллектуальными путами, в том числе и вопросом о двойном эффекте, лежащем в основе идеи справедливых войн. Они в высокой степени овладели искусством объяснять христианам, где, когда и как можно применять насилие или убивать людей во имя Христа. Все это произошло, как утверждает Хауэрвас, оттого что христиане стали уделять мало внимания словам своего же учителя, то есть повествованию о том, как Бог относится к злу. Что делает Бог, столкнувшись со злодействами эпохи? Он не прибегает к насилию, а принимает страдания на кресте, сохраняя совершенную добродетель. Таков жизненный (и жертвенный) путь, являющийся призванием христиан. Христиане отвергли этос церкви ранних веков именно тогда, когда стали пытаться с любовью управлять обществом. На деле они всего лишь облачились в маскировочные одеж216 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ ды любовной риторики на реалии имперского насилия. Сегодняшние христиане, в первую очередь озабоченные борьбой за справедливость, являются не более чем демократическими наследниками Константина. Они только поливают прогнивший каркас государственного насилия святой водой, но им не удается изменить вкус или запах данной структуры. Неясно, как Хауэрвас предполагает соединить это направленное против Константина рассуждение с антисовременной риторикой, заимствованной им у Макинтайра. Понятно, что одна трудность, возникающая при попытке сочетания, состоит в том что, оба текста относят драматическое преображение (или падение, если угодно) к разным эпохам. Йодер говорит о периоде обращения Константина, тогда как Макинтайр датирует перемену приблизительно временами Лютера и Макиавелли. Возможно, Хауэрвас хочет сказать, что более широкая социальная среда, в которой христианам довелось жить, к сожалению, всегда пребывала вне Града Божия, но в современный период ее духовное и этическое состояние чудовищно ухудшилось. Если так, то получается, что Йодер объясняет, как церковь оказалась сбита с пути. С другой стороны, Макинтайр рассказывает, как ситуация морально и духовно ухудшилась для тех, чья жизнь проходит вне церкви, когда либералы предложили обходиться без всеобъемлющей системы текстов, что позволило бы им найти этический смысл своей жизни. Язычники античности могли в лучшем случае совершать блистательные грехи, ибо они не почитали истинного Бога, но они хотя бы старались вести добродетельную жизнь в рамках общей для всех системы предписаний. Их современные последователи утратили представление о концепции добродетели и остались просто грешниками, так как они довольны жизнью в обществе, которое смотрит на приверженность широкомасштабным повествованиям как на частное дело каждого. Объединяя два рассуждения в приблизительно такой комбинации, Хауэрвас оставляет мир, лежащий вне современной церкви, во вдвойне плачевном состоянии. Этот мир находится не только вне церкви, но и после добродетели. А потому его грехи не блистательны, а особенно отвратительны. Такое описание грехов приводит многих читателей к выводу, что он видит мир либеральной демократии как совершенно лишенный благодати. Заметим при этом, что Йодер задумывал свое историческое повествование как критику в адрес церкви, а не мира. А потому в принципе было возможно, чтобы Хауэрвас развил йодеровскую критику церкви в недуалистическом ключе; таково, судя по всему, и было его намерение 217 в 1974 году. Для этого ему было нужно только подчеркнуть, что мир, как и церковь, — это царство, в котором владычествует и которым управляет Бог, арена, на которой имеющий глаза да увидит деяния благодатного провидения Бога. Он мог бы усилить акцент, приняв взгляд Барта, о котором уже говорилось выше, в главе 4: «Граница между Церковью и всем мирским постоянно и упорно отклоняется от области, в которой, как мы до сих пор полагали, она пролегает». Главный результат влияния традиционализма Макинтайра на воззрения Хауэрваса — возникновение препятствия к тому, чтобы последний принял йодеровскую «политику Иисуса», к чему он одно время склонялся. Сейчас он вроде бы уже не движется в сторону всемирного диалога о пригодности библейских предписаний для построения сообществ — церковных, семейных, национальных — на принципах справедливости и мира. Одна причина этого в том, что справедливость в большой мере выпала из сферы его внимания. Другая — в том, что Барт описывал как постоянно изменяющуюся границу между церковью и миром и что в понимании Хауэрваса трансформировалось в жесткую линию, отделяющую христианскую добродетель от либерального греха. Понятно, что он не намерен позволять этой границе застывать на уровне доктрины. Но его антилиберальная риторика легко может создать у читателя впечатление, что в жизни граница все-таки стала жесткой. Проще говоря, картина Барта совсем не похожа на картину Хауэрваса. Барт хотел одновременно сказать абсолютно недвусмысленное «нет!» нацизму и противодействовать возникшей в исповедующей церкви тенденции верить, что она может обладать Евангелием без прогрессивной политики (17). Хауэрвас произносит свое «нет!» либерализму, но мало что в его трудах напоминает активную приверженность Барта демократии и социалистическим реформам. Подробное доктринальное сопоставление суждений Хауэрваса и Барта о природе церкви увело бы нас слишком далеко в сторону. В «Мирном царстве» (166–167, прим. 5) Хауэрвас сочувственно цитирует два фрагмента «Церковной догматики», IV/2. В первом говорится о потребности в смиренной концепции церкви, которая «сама есть лишь человеческое общество, идущее, подобно всем остальным, к учению [Христа]». Второй утверждает, что «если сообщество предполагает, будто освящение человечества, достигнутое в Иисусе Христе, сводится только к самому себе и к собраниям верующих, не производит сходного воздействия extra muros ecclesiae, значит, оно За церковными стенами (лат.). 218 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ находится в прямом противоречии со своим собственным исповеданием Бога». Далее Хауэрвас развивает эти тезисы, утверждая, что вполне смиренная концепция церкви как «естественного института никоим образом не ослабляет требований, налагаемых церковью на любое сообщество, в котором она существует, и не в последнюю очередь требование свободной проповеди Евангелия». С этим бы Барт, основной автор Барменской декларации, конечно, согласился бы. Впрочем, позднее Хауэрвас критиковал Барта за отрицание нужности церкви как инструмента распространения веры и за неспособность описать роль, которая принадлежит ее социальным практикам в освящении верующих (18). Здесь возникает важное теологическое противоречие. С точки зрения Барта, вопрос в том, удается ли церкви правильно оценить дистанцию между человеческими социальными практиками, которые она осуществляет, и свободой Бога действовать милостиво там и так, где и как он считает нужным. Хауэрвас же ставит вопрос иначе: можно ли воздать церкви должное как глашатаю и прообразу царства Божия? Критик, стоящий на позициях Барта, может сказать, что односторонняя негативная полемика Хауэрваса, направленная против либерального общества, и его неспособность разграничить то, что он называет либерализмом, и демократию, — это результаты теологической ошибки. Но мне кажется, что возражать против особенно сурового взгляда Барта на церковь можно, и не солидаризируясь с данными Хауэрвасом характеристиками «мира» в их нынешних формах, то есть его описаниями «чрезвычайно пагубных» либеральных идей. Долг Хауэрваса перед антилиберализмом Макинтайра остается ключевым вопросом. Многие из теологически ортодоксальных критиков Хауэрваса приветствуют его призыв к сильнейшему акценту на влияние церкви, поскольку он выступает против либеральных и либерационистских программ, авторы которых склонны сводить церковь к уровню движения за социальную демократию. Приветствуют они и резкую критику секуляристского либерализма как идеологии, направленной на изгнание голоса теологии из общественной дискуссии. Не устраивает их то, что Хауэрвас, как правило, высказывает эти ценные тезисы в такой форме, которая грозит исказить их смысл. Вот некоторые из допускаемых им крайностей: 1) немилосердное отношение к обществу, особенно демократически организованному; 2) неспособность провести верную границу между растворением в мире и утверждением справедливости; 3) излишняя гордость за видимую церковь как добродетельное сообщество. Первая и третья 219 претензии в сочетании образуют еще одну: 4) чрезмерную уверенность в том, что человек обладает добродетелью прозорливости, способностью увидеть разницу между путем мира и смятением Духа. Критики не говорят, что Хауэрвас всегда впадает в перечисленные крайности. Вопрос в том, готов ли он в целом проявить достаточную осторожность, чтобы уберечься от них, в особенности в работах, адресованных максимально широкой аудитории. Недавно Хауэрвас предложил тем, кто считает, что он пишет чересчур много, указать ему, какие части его трудов следовало бы опустить. Это саркастическое замечание мы находим во введении к книге «В хорошем обществе», и из него вытекают некоторые замечания, которые заслуживают цитаты (19). Хауэрвас говорит, что «есть два стандартных упрека тем, кто много пишет: 1) мы повторяемся и 2) мы неосторожны» (ВХО, 12). И добавляет: «Впрочем, я не верю, что моя работа «неосторожна», хотя и понимаю, что мои попытки рискованны, и рискованны тем более из-за моего “еретического”, полемического стиля. Риск, на который я иду, имеет академический характер, а потому не так уж “рискован”. Я понимаю, что дерзко выхожу за академические рамки и поэтому оказываюсь уязвимым перед теми, кто знает “больше”, но, учитывая, какая задача стоит перед теологией, не вижу иного выбора. Риск не так уж велик, если помнить, какие опасности угрожают церкви» (ВХО, 13). В этом абзаце Хауэрвас принимает на себя роль человека, готового рисковать ради благородного дела. Он оказывается уязвимым в связи со своим рискованным делом, как будто здесь нет никакой опасности, что он неверно представляет свою аудиторию или общество, которое анализирует. Он уверяет, что риск, которому он подвергается, «академический», то есть риск почувствовать смущение, оказавшись задержанным академическими пограничниками (20). В примечании к этому же абзацу Хауэрвас называет свои первостепенные мишени: «Мой “еретический” стиль необходим для полемики с теологическим и политическим либерализмом. Либералы обоих сортов отчаянно стремятся “глобализовать” в либерализме все позиции» (ВХО, 224, прим. 32). Но Хауэрвас недостаточно близко к сердцу принимает тот факт, что его желание привести всех оппонентов к одному знаменателю, «либеральному», ввергает его в соблазн игнорировать подробности реальных слов и поступков критиков. Если свести их воедино, будет удобно применить одни и те же аргументы против них всех. Приведение к общему знаме220 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ нателю и повторение внутренне присущи риторическому процессу. Тогда вопрос об интерпретационной щедрости можно поставить так: соблюдать ли должную осторожность, чтобы быть правильно понятым оппонентами, выслушать, что они скажут, присмотреться к их поступкам и только потом засовывать их в мешок своей аргументации? А ведь его оппоненты — не только такие же интеллектуалы, как, например, Ролз, Нибур или Альбрехт, но и его сограждане, которые, приняв то, как он их изображает, могут начать смотреть на внецерковный мир как на просто «пагубный», разучиться доверять другим и идентифицировать себя с ними. Для автора, обладающего таким авторитетом и стилем, данный риск — уже не только академический. Как описать все это на языке Аристотеля, к которому Хауэрвас часто прибегает? Это называлось бы «недружественностью». Легкомысленная трактовка других людей была бы названа «пренебрежением», а повторение подобного поведения — дурной привычкой, «пороком». И тем не менее сейчас аудитория Хауэрваса шире, чем у какого-либо специалиста по теологической этике в англоязычном мире. Лишь небольшой доле его читателей известны книги, которые он критикует, поэтому многим его читателям остается только аплодировать остроумному профессору, выступающему в защиту добродетели и против безбожников. Если бы Хауэрвас опустил абзацы, в которых он резко выступает против призыва к интерпретации филантропического характера, ему пришлось бы опустить немало. Но и оставшаяся часть была бы объемной и ценной. Я имею в виду в первую очередь крупные труды Хауэрваса, посвященные заботе об инвалидах и умственно отсталых, где выражается терпимость по отношению к физическим недостаткам, что мне импонировало у Уитмена (21), его размышления о медицине и страданиях, равно как и многочисленные прозорливые суждения, являющиеся вкладом в теорию добродетели (22). Когда Хауэрвас не поддается искушениям и не повторяет своих диатриб против либерального общества, он часто предстает одаренным и благородным мыслителем. Вспомним один из вопросов, которые Хауэрвас ставил перед Йодером в 1974 году: как пацифистская церковь предполагает выпутываться из хитросплетений зла в мире и стать образцом неподдельной добродетели, когда убийство представляется наиболее очевидным способом устранения несовершенств? И в этом случае ранний Хауэрвас был своим же лучшим критиком, так как он мало сделал для того, чтобы прояснить, как именно христиане должны выпу221 тываться из тисков либерального общества и милитаристского государства, которые он отвергает. Похожий призыв к верности этосу раннего христианства прозвучал бы по-другому из уст новой Дороти Дэй, нового Толстого или хотя бы истинного меннонита. Ведь в этом случае живой пример призывающего составляет этическое содержание призыва и при этом выступает наглядной демонстрацией того, что же именно нам предстоит выпутывать. В случае же Хауэрваса трудно усмотреть какую-либо невербальную попытку такого выпутывания. Циник мог бы сказать, что секрет обширного влияния Хауэрваса на церковную аудиторию в 1980–1990-х годах заключается в неопределенности жертвы, которой он как будто требовал от своих последователей. Безусловно, он не исходил из того, что сила душевной самоидентификации человека с церковью может быть сама по себе надежной гарантией его непричастности к злу. Мне представляется, что его любимый святоотеческий текст — «Воззвание к мученичеству» Оригена (23). Но при отсутствии ясного указания на цену, которую христианин должен быть готов заплатить, читатели Хауэрваса могли находить для себя оправдание в фантазиях о мученичестве, не проходя на деле испытания бедностью и не подвергаясь преследованиям. Возможно, многим читателям Хауэрваса нравилось, что им больше говорили о необходимости принадлежать церкви, чем о необходимости быть справедливыми к неимущим. На каком-то уровне они прекрасно знали, во что им обойдется справедливость. Поэтому им едва ли было неприятно узнать, что справедливость для христиан не годится. Было соблазнительно заключить, пусть лишь наполовину сознательно, что следовать путем Иисуса означает ненамного больше, чем ненавидеть либеральных секуляристов, которые предположительно правят страной, жалеть бедных на расстоянии и приносить часть доходов в церковь. Хауэрвас мало позаботился о том, чтобы оградить своих читателях от описанного искушения. Голоса христиан влияют на уровень налогообложения, на состояние окружающей среды, на судьбу малоимущих слоев, на характер внешней политики. Хауэрвас далек от того, чтобы осветить все эти обстоятельства. Вместо этого он безжалостно критикует тех теологов, которые обращают на них внимание. Они виноваты в том, что разбавляют Евангельское вино водой либерализма. А альтернатива этой ситуации, по мнению Хауэрваса, в том, чтобы позволить церкви быть церковью. Лозунг лаконичен, и он приобрел популярность среди тех, кто находит в христианском либерализме «соци222 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ альное Евангелие». Но неразумно заменять одну ограничивающую интерпретацию Евангелия другой. Трудно представить, что сводить Евангелие к демократии или к теории церкви — единственные альтернативы. У христианина имеются все основания считать себя частью церковного единства и задаваться вопросом, какой образ жизни она предписывает. Христиане являются, как однажды указал Хауэрвас, членами семей, союзов, трудовых коллективов, учебных сообществ, этнических групп, наций. Кроме того, христиане — активные потребители, они занимают влиятельные посты в корпоративных и государственных структурах. Христианская этика традиционно считает, что все эти социальные роли входят в область ее компетенции. Она оценивает существующие социальные установления по строгим стандартам справедливости и любви. При этом она вступает в диалог и в союзы с группами, пребывающими вне церкви. В современную эпоху предметом диалогов часто становится демократия. Союзы преследовали такие цели, как отмена рабства, равноправие женщин, уничтожение жестокости. Хауэрвас в полемических трудах, принесших ему широкую известность, судя по всему, вряд ли усматривает во всем перечисленном что-либо большее, нежели искажение Евангелия — испорченный плод заблудшего «константинизма». В своей критике он стремится сформулировать более сбалансированный взгляд, более благосклонный и к традиции христианской этики от Августина до Барта, и к вовлеченности христиан в политику. Стержнем выступления Хауэрваса против Константина является абсолютный пацифизм, оправдываемый библейскими основаниями как призвание к ученичеству во Христе. Многим его читателям трудно проглотить эту приверженность, но часто они бывают готовы относиться к ней как к второстепенному предмету, а наибольшее внимание уделяют критике либерализма. Хауэрвас, к его чести, долгое время настаивал на том, что в его воззрениях центральное место принадлежит пацифизму. Однако он не разъяснял, чего же добивается пацифизм в практическом плане. Коль скоро милитаристская концепция уже не господствует в законах страны, то последователи Хауэрваса не испытывают правительственного давления, которое побуждало бы их служить в вооруженных силах. Он не рассматривает, в отличие от Хансинджера, Pax Christi и «движение святилища» в качестве конкретных примеров образцовой практики. Насколько мне известно, он не выступает в поддержку отказа от уплаты налогов, идущих на военные цели, или участия в дорогостоящих акциях гражданского неповиновения, или отказа прини223 мать в церковные общины солдат и их командиров. По этой-то причине пацифизм Хауэрваса нередко воспринимается скорее как донкихотская поза, чем нормативная доктрина, как философ хотел бы его представить. Если из пацифизма не вытекает ничего значительного, то о чем беспокоиться? Но, как представляется, позиция Хауэрваса начала меняться в месяцы, последовавшие за 11 сентября 2001 года. В новой политической ситуации пацифизм становится небесспорным предметом. Выступать с пацифистских позиций в такое время, когда ячейки террористов планируют убийства твоих сограждан, значит подвергать сограждан опасности. Когда практические приложения пацифизма стали видны совершенно ясно, аудитория Хауэрваса начинает понимать, что он проповедует то, что ей не обязательно хотелось бы слышать. Для того чтобы говорить «аминь» после его иеремиад, сегодня требуется больше смелости. Тем временем становится видна быстро ширящаяся пропасть между Хауэрвасом и Нойхаусом. При том что последний оплакивает умирающее христианство, благословляет милитаризм и провозглашает провиденциальную роль Америки в мировой политике, новым традиционалистам становится значительно сложнее выступать единым фронтом в оппозиции к обществу, в котором, как принято считать, доминирует светский либерализм. Что, в конце концов, общего у Хауэрваса и Нойхауса, кроме того, что оба они называют себя христианами? Только то, что парадоксальным образом сближает с исламскими радикалами, а именно — убежденность в том, что светскому либерализму необходимо противостоять, ибо он разрушает традицию, питающую истинную добродетель. Но сейчас для всех заинтересованных людей очевидно, что очень разные традиции предлагаются нам в качестве противоядий от предполагаемых пороков секулярного либерализма, причем даже теми, кто стоит за христианство (24). Сейчас не было бы несвоевременным спросить, предлагает ли нам традиционализм критический словарь, подходящий для постановки диагноза: что же плохого произошло с нашим обществом, в каких лекарствах оно нуждается, будь то мирные или иные средства? Теологическая этика Хауэрваса может, при использовании своих понятий, преуспеть только в том случае, если она точно, без искажений отражает жизнь и учение Иисуса в их целостности. Если сделать сейчас упор на пацифизм, чего всегда хотел Хауэрвас, главной трудностью будет объяснить более ясно, чем это делалось раньше, почему некоторые, по всей видимости, строгие положения учения Нового Завета выдерживают ригористское им следо224 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ вание, тогда как другие — нет. Хауэрвас занял недвусмысленную позицию противника абортов, о которых в Новом Завете ничего не говорится, но данное явление отталкивает его как очевидно несовместимое с принципом ненасилия. Возможно, где-то он уже предложил морально строгие выводы по вопросам, относительно которых его читателям трудно будет принять предписания Нового Завета: новый брак после развода, например, или возможность для богатого попасть в царство Божие. Если это так, то суждения Хауэрваса ускользнули от моего внимания (25). Сейчас, по крайней мере, нелегко избежать заключения, что этика сейчас основывается на очень избирательном прочтении Библии (26). Язык справедливости, который Хауэрвас некогда превозносил как способ быть верным библейскому призыву к праведности, ныне приобрел колоссальное значение в условиях борьбы с терроризмом. Этот язык нам нужен, чтобы объяснить, почему у нас есть причина для ношения оружия против террористов, почему наши вооруженные силы не должны стрелять в мирных граждан, почему мы не должны поддерживать зависящие от нас режимы и тем самым рушить демократические надежды народов их стран. Есть в социальной этике и многие другие предметы, для которых был бы важен этот язык; это такие предметы, как критика глобального капитализма, реформа налогового законодательства, перераспределение ролей в семье. Если бы Хауэрвас прекратил трепать свое либеральное соломенное чучело, заново открывать язык справедливости и использовать лексикон этого языка в пророческих книгах на темы социальной критики, его оппоненты оставили бы выдвигаемые против него обвинения в сектантстве. И за этим последовало бы немало хорошего. Его положение позволяет ему, не менее чем любому другому теоретику, донести вызовы двадцать первого века до христиан Америки (27). Хауэрвас хочет изложить сложившийся этос живой традиции, а не утопический идеал или категорический императив, основанный на чистом разуме. Мы уже видели, как новый традиционализм отвергает формализм современной этической теории. Его аргументы напоминают те, которые два века назад Гегель выдвигал против Канта. Как и Гегелю, ему нужно sittlich, то есть альтернатива формализму. Он хочет дать прямо выраженную картину этической жизни общества. В этом смысле он обладает экспрессивистскими чертами. Но о каком обществе идет речь? Новый традиционализм не Нравственное (нем.). 225 лелеет надежд, которые Гегель и Уитмен возлагали на описание самосознания нации. Он находит современное общество «в целом извращенным» «действием индивидуальности» и тем самым стремится сформулировать требования торжества «справедливости» над «путем мира» (28). Но для этого, как мы видели в предыдущей главе, он должен разрешить проблему точки зрения. Он должен найти место в современном мире, но не для него. В противном случае у него не будет внятной позиции для критики этого мира. Он не хочет вставать на позицию чистой ностальгии, а потому стремится разработать формулировки для описания этической сущности живого сообщества досовременной добродетели. Для Макинтайра подходящее сообщество должно основываться на томистическом католицизме, и он готов указать приходы, воплощающие такую форму сообщества. Хауэрвас с не меньшей самоуверенностью хочет выступать в пользу действующей церкви сообщества, проповеди, изучения Библии, обедов в складчину. Но где мы найдем сообщество ненасильственного ученичества, которое он имеет в виду? Хауэрвас методист, а не меннонит, и тесно связан с католицизмом. Так что можно только задаваться вопросом, где он ищет видимое наследие мучеников первых веков церкви. Хауэрвас обычно бывает менее конкретен, чем Хансинджер, который обращает свой взор к Барменской декларации и указывает на примеры сопротивления и гражданского неповиновения из современной истории Америки, чтобы читателям стало ясно, что означает сегодня самоидентификация с исповедующей церковью. Хауэрвас завершает свой сборник Гиффордских лекций «С зерном Вселенной» главой под названием «Потребность в свидетеле», где называет представителями церкви, как он ее понимает, Джона Ховарда Йодера, Иоанна Павла II и Дороти Дэй. Похоже, что имя Дэй пришло ему в голову слишком поздно. Ей посвящен только короткий абзац (320), что даже не соответствует политике «Католического рабочего», тогда как о Йодере и Иоанне Павле II Хауэрвас говорит более или менее пространно. И тем не менее это дает мне надежду, что Хауэрвас движется по более перспективному пути. В той форме, в какой высказывался Хауэрвас, отрицание пути мира во имя добродетели приводит к неприятной дилемме. С одной стороны, чем сильнее желание представить добродетель как противоположность пути мира, тем скорее оно вырождается в «самонадеянность», которую невозможно отстаивать честно. Действующая ныне церковь мало напоминает сообщество добродетели, если применять к ней пацифистские стандарты. Большой процент тех, 226 ^ 6. ]¥ §¥ ¤ кто называет себя христианами, одобряет смертную казнь, обладание ядерным оружием и применение силы для защиты нации от террористов. С другой стороны, признавая сообщество добродетели, мы тем самым уже вскрываем пороки, в которых оно обвиняет мир, и тогда сущность добродетели испаряется и остается лишь нечто неуловимое, «только имя добродетели, в чем нет осязаемого содержания». Но так или иначе, добродетель рискует обратиться в то, что она намеревалась критиковать. Вот почему Хауэрвас испытывал трудности и не умел выразить «за» в пользу своей позиции так же четко, как он выражал свои «против». Распространенный, вдумчивый рассказ о Дороти Дэй и ее политике сделает его «за» более определенными и более конкретными. В этом случае у Хауэрваса также появится возможность возвратиться к своей былой приверженности языку справедливости. А пока он будет проявлять слабый интерес к убеждению граждан христианского вероисповедания в том, что они имеют обязательства перед своими наименее обеспеченными соотечественниками, «роль рыцаря добродетели в сражении [останется], строго говоря, ролью спарринг-партнера в учебном бою». Обычный пацифизм, в котором память о мучениках отдаленных времен и образ мирного царства отделены от осязаемой практики социальной справедливости, «похож на бойца, который во время сражения озабочен только тем, чтобы его клинок блестел». 227 Глава 7. Между примером и учением ^ 7 МЕЖДУ ПРИМЕРОМ И УЧЕНИЕМ Предыдущая глава призывает Хауэрваса положить конец спорам вокруг приписываемого ему сектантства, а именно — отказаться от своей антилиберальной полемики и придать своей социальной критике несколько иные формы. Я не призываю его стать менее страстным или менее приверженным теологии в обличениях зла и порока. Он, безусловно, прав, когда говорит, что американское общество должно за многое ответить, стоит только вспомнить совершенное американцами за несколько последних десятилетий. Да если бы он стал в меньшей степени теологом, то перестал бы быть Хауэрвасом. Я же надеюсь, что в будущем он сделает многое, чтобы высветить совершенное нами зло или недостатки характера нашего народа. Но, как мне представляется, у нас мало шансов на то, что это пожелание исполнится, если Хауэрвас будет по-прежнему так же основательно опираться на традиционализм Макинтайра, как он это делал в предыдущие двадцать лет. В первых двух разделах настоящей главы я хотел бы рассмотреть, как видоизменилось проводившееся им на раннем этапе его творчества противопоставление этики, занимающейся систематизацией наших интуитивных представлений о моральных недоумениях, и этики характера, которая сосредоточивается на повествованиях о жизнях принимаемых за образцы людей. В заключительном разделе я завершу кольцо рассуждений второй части анализом отношений между взглядами Хауэрваса и взглядами политического теоретика Сейлы Бенхабиб. £< §¤ Претензии Хауэрваса к этике недоумения представляют собой попытки отыскать в рамках этического дискурса место для взгляда на личность не как на средоточие достоинства или обладателя прав, а как на конкретного человека во всей полноте его индивидуальности. Когда этическое суждение рассматривается просто как попытка расклассифицировать индивидуальные примеры в соответствии 228 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ с принципами, люди могут оказаться представленными в этическом дискурсе лишь относительно абстрактными, обобщенными характеристиками. Схема классификации требует тонких описаний личностей (selves) и ситуаций. В «Мирном царстве» Хауэрвас утверждает, что этика характера не нуждается в полном избавлении от казуистики; зато она нуждается в лучших, более богатых примерах, нежели те, на которых сосредоточивает свое внимание этика недоумения. Повествования, о которых мы критически размышляем, должны быть достаточно детализированными в описаниях ситуаций и оказавшихся в них людей, чтобы были ясно видны конкретные черты характера, истории жизни, перспективы и потребности. Во всем изложенном до сих пор я солидарен с Хауэрвасом. Но когда Хауэрвас соединяет данный тезис рассуждениями Макинтайра о современном этическом дискурсе, возникают серьезные проблемы. Хауэрвас, как и Макинтайр, считает, что светский философский поиск рационально обоснованных, в высокой степени обобщенных моральных принципов — таких, на которых могла бы выстроить свои иерархии примеров всякая рациональная личность, — потерпел крах. Он принимает и заключение, которое Макинтайр выводит из этой предпосылки: защищать современный этический дискурс как таковой нельзя. Но этот вывод предполагает, что теоретическая защита современного этического дискурса, которую ведет теоретик этики, по меньшей мере экспрессивно правомерна, и теоретики этики адекватно воспроизводят этический дискурс своего времени. Мне хотелось бы предложить другую возможность: теоретики этики катастрофически упрощают представление о современном этическом дискурсе. Задумаемся над тем, что многие простые люди находят жесткий и зачастую технический язык этической теории нелепым, претенциозным или непонятным. Им часто бывает неприятно, если их мысли в теоретических терминах оцениваются как «деонтологические» или «консеквенционалистские». Большинство людей не испытывают интереса к преимуществам, которые дает применение этической теории к ним самим. Они считают абсурдными многие вымышленные примеры, рассматриваемые теоретиками. Еще больше людей ищут для себя моральной поддержки в поэзии, в романах, эссеистике, драме, проповедях, а не в трактатах на моральные темы или в философских трудах. На мой взгляд, этот факт не подлежит обсуждению. Всякий, кто преподает в колледже курс «нравственной проблематики» в традиционной трактовке, с этими труд229 ностями сталкивался. Теоретик этики испытывает соблазн назвать такое восприятие этики недоумения признаком антифилософской, или антиинтеллектуальной, предвзятости. Может быть, иногда эти люди и предвзяты, но при этом они доказывают, что специалисты по этике нередко идут против тех подходов и того языка, которые они призваны анализировать. Я думаю, что им стоит дать теоретикам этики время на размышление. Если задача этической теории состоит в критическом осмыслении этического дискурса, а сопротивление систематическому теоретизированию является постоянной темой в современном этическом дискурсе (а это, несомненно, так), то этическая теория должна такое сопротивление принимать всерьез. Если мы обратимся к письменным свидетельствам, то нам станет ясно, что в данном вопросе существуют основания для обоснованных сомнений, а не просто необдуманная реакция. Некоторые современные авторы в открытую нападают на этическую теорию. Появляются пародии и сатиры на нее, а также прямые аргументы, направленные на предотвращение ее появления. Есть и непоколебимые критики, отстаивающие этическую теорию в рамках теоретических конструкций. Наверное, еще более многочисленны авторы, пусть и знакомые с этической теорией, но при этом сознательно избегающие ее. Иногда они оставляют в стороне аргументацию, но в других случаях формулируют свои аргументы предельно ясно. Нам известны по меньшей мере три упрека в адрес систематической этики, которые регулярно предъявляются ей в современный период. Во-первых, она являет собой опасную разрушительную силу: интеллектуалы как класс заявляют требования о привилегиях для себя, то есть о праве судить на основании универсальных аргументов, вопреки традициям и обычаям, существенным для устроенности и благосостояния устоявшегося сообщества. Во-вторых, здесь налицо ложное отклонение от практических нужд борьбы против зла и несправедливости. В-третьих: систематическая этика вовлекает нас в область откровенно догматического и чрезвычайно абстрактного мышления. В сущности, все эти три упрека во многих случаях можно парировать, предложив особую дискурсивную альтернативу теоретическому стилю этики недоумения. Эдмунд Бёрк, выдвинувший первое обвинение против философов Французской революции, отдавал предпочтение традиционалистским ностальгическим сетованиям перед иерархическим порядком и внезапным возвышеннопоэтическим вспышкам образного мышления. Джерард Уинстэн230 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ ли с позиций второго обвинения выступил против университетских клириков, склонных к созерцанию с позиции пророка, взывал к «внутренней силе» и прибег к пуританской версии иконоборчества, дабы побудить к активности своих последователей-диггеров. Выразителем третьего обвинения был Мишель де Монтень, выступивший против всех известных ему форм моральной философии и теологии. Он стал изобретателем современного жанра эссе, который характеризуется разговорной интонацией, приоритетным вниманием к частным деталям и фигурой автора — вопрошающего и независимого. Эти примеры наводят на размышление, поскольку все они находятся у истоков современной традиции, в которой многие поколения придерживаются своих особенных стилей мышления, речи и письма на этические темы. Не каждый философ, кто внес свой вклад в эту традицию, повторяет или присоединяется к первоначально высказанным обвинениям в адрес этической теории. К примеру, некоторые современные единомышленники Бёрка пытаются соединить формалистическую этическую теорию, средоточием которой является концепция естественного права, соединенная с другими элементами постулатов Бёрка. Но каждая из этих традиций по-прежнему сеет семена сомнения по поводу этической теории, поскольку в обоих случаях остаются в силе, время от времени трансформируясь и вбирая в себя новые черты, старые претензии. А что еще существеннее, каждая из названных традиций внушает нам и демонстрирует системы этических рассуждений, значительно отличающиеся от тех, что обычно изучаются в рамках этической теории. Рассмотрим вкратце традицию Монтеня. Среди его английских преемников мы можем назвать Уильяма Хэзлитта, Джорджа Оруэлла и Вирджинию Вулф. В Америке его наследниками были Ралф Уолдо Эмерсон, Уолт Уитмен, Джеймс Болдуин, Ралф Эллисон и Адриенна Рич. Все эти авторы в совокупности внесли большой вклад в свои политические культуры, разъяснив, что значит иметь нравственное воображение. Многие из них проходили через моменты пророческого вдохновения, когда словно бы взывали к изменчивой публике в экстатическом пылу, но все же предпочитали обращаться к своим читателям так, как Монтень обращался к своим, — как к индивидам. Они строят свои эссе в форме бесед и воздерживаются от Уинстэнли, Джерард (1609 — после 1660) — руководитель и идеолог диггеров в период Английской революции XVII в. Рич, Адриенна (р. 1929) — американская поэтесса и теоретик феминизма. 231 любых притязаний на привилегированное положение. К тому же они не занимаются систематическим теоретизированием на этические предметы в том смысле, как это делали Кант и Сиджуик. Они могут гордиться своей принципиальностью, как, например, Хэзлитт и Оруэлл, но они не пытаются организовать принципы и установления в строго упорядоченную систему. Также они не дерзают дать полное изложение, обоснование или доказать истинность своих принципов. Они не заинтересованы в прекращении дискуссии. Они просто что-то глубоко продумывают, опираясь на опыт, и ожидают, что кто-нибудь откликнется. Они пишут, как бы приглашая к ответу. Всем им ближе форма эссе, а не трактата или ученой статьи. Некоторые из них экспериментируют с историографией, романами, обличениями иконоборцев. Эссе не единственный их инструмент участия в этическом дискурсе. Но, безусловно, это один из инструментов, обладающий мощным потенциалом для противостояния этике недоумения и риторике этических теоретиков. В этой традиции эссе не призваны систематизировать или повествовать, хотя в них нередко выстраиваются системы и рассказываются истории, встроенные в ход рассуждений. Эссе внедряется между повествованием и системой, между отдельным случаем и общей идеей — или, говоря словами Роберта Музиля, «между примером и учением» (1). Для систематически мыслящего философа, как мы уже видели, пример становится прецедентом, чем-то таким, что можно подчинить общему закону. Однако Монтень нередко начинает с примеров, не будучи уверенным в том, примерами чего они являются, а затем приглашает читателя к живой критической мысли. Раз за разом он проходит по тропам между абстрактными идеями и анекдотическими подробностями, не стремясь ни к доктринальному, ни к повествовательному заключению. Выводом из эссе, говоря опять-таки словами Музиля, является не система и не история, а «уникальный и неизменный облик, который принимает внутренняя жизнь человека в какой-то решающей мысли» (ЧБС, 294). Напротив, здесь налицо то, что Музиль говорит о привычках разума, выраженных в систематическом стиле философской теории: «Философы — это притеснители, не имеющие в своем распоряжении армии и потому подчиняющие себе мир путем заключения его в систему» (ЧБС, 294). Музиль считает добрым знаком то, что «во времена развитой цивилизации и демократии не удается создать убедительную философию». Я понимаю его в том смысле, что этическая жизнь демократического общества слишком расплывчата и диалогична, чтобы ее можно было втиснуть в рамки формалистической системы. 232 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ Монтень не был демократом. Не были демократами и философы поколения Юма, считавшие своими образцами для подражания Монтеня и Сенеку. Но прошло не так много времени, прежде чем сразу после Французской революции эссеисты стали писать для появившегося наконец широкого читателя и общаться с ним. В результате достоянием общественности стали пророчествующие брошюры Тома Пейна и журнал Уильяма Коббета «Политикал реджистер». В то время эссеистика как метод размышлений для себя, «между примером и учением», обращенных к читателям любых классов как к индивидам, внесла большой вклад в развитие демократических духовных и этических упований. Хэзлитт и Оруэлл утверждали, что разговорный стиль эссе больше всего подходит демократическому мышлению, и именно такой стиль скорее всего создаст и сохранит аудиторию, расположенную к демократии и настороженно относящуюся к насилию и привилегиям. Достаточно прочитать любой хороший сборник современных эссе, и у вас исчезнет впечатление, что такие традиционные предметы этики, как характер и добродетели, полностью вытеснены дискуссиями современной эпохи о правах и выгодах. В современной демократической литературе существует масса сочинений о характере и добродетелях; это многообразие еще ждет своих исследователей, которые работали бы вне рамок философского канона. Эссеисты создают очерки характеров, создают типы характеров в духе Феофраста и сочиняют назидательные послания к молодежи. Они размышляют о том, как охарактеризовать группы в соответствии с предположительно представляющими их чертами или свойствами составляющих их индивидов. В арсенале каждого из этих мини-жанров имеются особые способы передачи абстракций через повествования и описательные детали. Хауэрвас написал множество эссе; большая часть его книг — это сборники эссе. Но он использует данный жанр, чтобы показать: христианская этика должна отдать дань почета тому жанру, который историк античности Питер Браун назвал «классической жизнью». Вот что пишет Браун: «Греко-римский мир, позднее породивший святых, представлял собой цивилизацию пайдейи в том же смысле, в каком наш мир можно назвать цивилизацией высоких технологий. Он неизменно тянулся к неизбежному См.: Феофраст. Характеры. — М.: Ладомир, 1993. Пайдейя — античная система воспитания разума, чувства гармонии, гражданских добродетелей. 233 самообману, состоявшему в том, что все важнейшие проблемы могут быть сформулированы и разрешены в рамках главного имеющегося в его распоряжении ресурса, то есть в данном случае в рамках парадигматического поведения элит, вскормленных пайдейей, в которой неизмеримо велика роль древних примеров. Тенденция видеть в образцовых людях классические примеры усиливается чрезвычайно личностной манерой, в которой культура пайдейи передавалась от поколения к поколению. Ярко выраженное мужское начало составляет сердце «Цивилизации пайдейи» (2). Цель обучения — отлить юношу по образцу настоящего совершенства. Средство обучения — прямой доступ к образцу, т.е. к наставнику, который открывает нам древние примеры красноречия, прямодушия и добродетельной жизни. Как иудаизм, так и христианство внесли свой особый вклад в становление этого способа нравственного обучения, и не последнюю роль в этом сыграло христианское представление о том, что канонические Евангелия открывают природу Бога живого. В глазах христиан Иисус Христос как главный пример для своих учеников не только совершенным образом воплощает добродетель, но и олицетворяет божественность. В «Мирном царстве» Хауэрвас предписывает нам именно тот тип нравственного обучения, который Браун ассоциирует с культурой этического аристократизма, окружающей культ святых. Христиане хотят, чтобы люди, по-настоящему преданные вере, являли собой «примеры жизни, выстроенной» в соответствии с памятью их сообщества. «Авторитет Писания основывается на жизни святых, признанных сообществом в качестве людей, ближе всего подошедших к тому, к чему мы стремимся. Если выразиться яснее, то, чтобы узнать, в чем же именно состоит смысл Писания, мы обязаны взглянуть на тех, кто лучше всего освоил науку воплощения его требований в своей жизни». По каким же критериям мы сможем узнать таких людей? Эти критерии, как говорит Хауэрвас, суть «не столько принципы, сколько истории того, что представляют нам жития святых. В житиях святых мы начинаем понимать, как образы Писания формируются так, чтобы мы могли изложить и прожить бесконечную жизнь Бога, неуклонно ведущего людей к миру Царства» (МЦ, 70–71). В более поздней книге «Чужие среди нас» Хауэрвас и его соавтор Уильям Уиллимон представляют идею святости следующим образом: «Главный путь, учащий нас быть учениками, — это общение с теми, кто учениками является. Поэтому важнейшая роль церкви состоит в том, чтобы привести нас к общению с теми этическими 234 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ аристократами, кто живет в согласии с христианской верой». Христианская этика принимает «антидемократическую», аристотелеву теорию о том, что есть «этические аристократы» и для нас единственный путь сделаться добродетельными — это следовать их путем и стать их «учениками». Святые — это «значимые примеры», «этические аристократы» христианской веры. «Говоря эпистемологически, не существует замены “святым”, то есть конкретным, личностным представителям христианской веры, поскольку… нам не узнать Царства, если наши глаза не будут открыты для него» (3). Я соглашаюсь с утверждением Хауэрваса, что наличие этической аристократии важно для поддержания бытия добродетельного сообщества — при условии, что «аристократия» понимается метафорически. Но при этом данное утверждение едва ли можно считать антидемократическим, во всяком случае, если видеть в Эмерсоне, Уитмене и Торо парадигматически демократических мыслителей. В их представлении, демократия — это не попытка сгладить качественные различия в разных сферах жизни людей. Все эти философы полагали, что совершенство «образцовых» индивидов не возвышает их над средним уровнем, но дарует им высокое призвание — внушать другим идеалы добродетели. Если угодно, можно объявить, что эти образцы и составляют аристократию. Но Хауэрвас, безусловно, не предполагает, что они являются особым общественным классом или что их духовный дар можно обозначить титулами, рангами или должностями в рамках какой-либо существующей организации, церковной или светской. В Библии говорится, что такой дар может обнаружить в себе всякий человек, живущий среди нас, — будь он молод или стар, будь то мужчина или женщина, свободный человек или раб (Иоиль 2: 27– 28, Деян. 2: 17–18). Ни одна идея не может считаться более основополагающей для современной демократии — или «либерализма» в лучшем смысле этого слова. Эмерсон, Уитмен и Торо утверждали демократический идеал равенства именно тем, что с недоверием относились к институциональным установлениям, которые могут помешать людям услышать вдохновенную речь или истинное пророчество. Они утверждали особую духовную концепцию, которая одушевляла миротворческое движение католиков в четырнадцатом веке и протестантский радикализм эпохи гражданской войны в Англии (4). Этот идеал является обоснованием равного доступа к общественной дискуссии. Его мотивирующая предпосылка: общество должно брать на себя заботу о том, чтобы не существовало препятствий для выражения мыслей, которые могут оказать235 ся вдохновленными свыше. А значит, налицо противоречие с неумным представлением о том, что все слова обладают равной значимостью. Если бы не существовало существенных качественных различий во вкладах, вносимых людьми в общественную жизнь, не было бы нужды прислушиваться к кому-либо, за исключением немногих избранных. Всем ясно, что свобода высказываний повышает средний уровень этического дискурса, как его широты, так и общественного резонанса. Но такова наша плата за демократию, а не причина, по которой мы эту цену платим. Если Хауэрвас желает выдвинуть обвинение против современных демократических мыслителей на основаниях теологического свойства, то легче всего было бы предъявить его с позиций монтанистской ереси. Мы, убежденные эмерсонианцы, теологически близки к монтанистам, поскольку ставим под сомнение право официальной церкви выносить суждения о разнице между истинно вдохновленной речью и лжепророчеством. Это означает решительное отклонение от теологической ортодоксии; следует заметить, что это не мешает мне оставаться на позициях, очень близких к позициям Барта. Но антимонтанистски настроенные христиане все-таки могут последовательно защищать предлагаемые ими основания для того, чтобы общественная дискуссия оставалась открытой для всех высказываний, поскольку эта посылка являются связующим звеном между инакомыслящими эмерсонианцами и теми течениями внутри христианской ортодоксии, которые легли в основу убеждений творцов Конституции США. Эта установка обращена к тем, кто получает доступ к трибуне, а не к тем, кто претендует на верховный авторитет суждений о том, какие высказывания воистину являются вдохновленными свыше. Свобода слова, как и свобода вероисповедания, служит краеугольным камнем духовного согласия между теми течениями протестантизма, которые оказали влияние на Мэдисона, и нецерковными формами эмерсонианского инакомыслия, появившимися несколькими десятилетиями позднее. Впоследствии к этому консенсусу присоединилась большая часть американских евреев. В 1950-х годах к этому же соглашению привел многих католиков Джон Куртни Меррей, а еще Монтанистская ересь (монтанизм) — течение в христианстве, основанное во второй половине II в. в Малой Азии проповедником Монтаном. Он учил, что любой верующий может обрести дар пророчества. Мэдисон, Джеймс (1751–1836) — четвертый президент США (1809–1817), один из авторов проекта Конституции 1787 года. 236 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ через несколько лет данный теологический вывод ратифицировал Второй Ватиканский собор. В наши дни к консенсусу присоединяются, руководствуясь собственными теологическими основаниями, и некоторые мусульмане. На протяжении многих лет Хауэрвас остается наиболее влиятельным теологом из тех, кто бросает вызов ширящемуся демократическому консенсусу. Я задаюсь вопросом, имеет ли он ясное представление о том, что он оспаривает, жестко высказываясь против «демократии». A&'¤( §¤( ¤&&) A& Евангелия и жития святых — вот основные жанры христианского этического дискурса; так предлагает нам воспринимать их Хауэрвас. В основе тех и других лежат «значимые примеры» — образчики божественности, святости, любви, веры, прощения, ненасилия, то есть образчики, являемые ученикам. Выступая защитником этих образцовых биографий, Хауэрвас явным образом противопоставляет их современному этическому дискурсу, который в его изложении является нам несостоятельным. Но, обращаясь к роману, иному повествовательному жанру и предлагая нам считать его «школой добродетели», он не отдает себе отчета в том, что восхваляет одну из составляющих современной культуры (5). Представляя нам свое прочтение современных романов, он сомневается в их этической значимости, но они не возникают в его описаниях современности. Он пишет эссе и представляет фигуру автора на манер Хэзлитта или Честертона, но традиции современных эссеистов не остается места в той форме исторического повествования, которую он заимствует у Макинтайра. И он не задает вопроса о том, какими могут быть исторические взаимоотношения между жанрами. Книга Джона Лайонса «Exemplum», увлекательное и насыщенное фактами исследование судьбы такого средства, как пример, в культуре ранней эпохи современных Франции и Италии, привлекает наше внимание к переходу от типично средневековых этических жанров, таких как моралите, новелла или басня, к таким книгам, как «Гептамерон» и «Опыты» Монтеня. На Втором Ватиканском соборе (1962–1965) были намечены меры по модернизации католической церкви в современных условиях. «Гептамерон» — сборник новелл французской писательницы Маргариты Наваррской (1492–1549), написанный в духе «Декамерона» Дж. Боккаччо. 237 Авторы шестнадцатого и семнадцатого столетий отреагировали на изменения на горизонте веры тем, что попытались соединить общий тезис с конкретными, особенно убедительными случаями и привлекли внимание к своим позициям путем частого употребления термина «пример». Для многих авторов риторическое использование примеров стало не столько иллюстративным приемом, при помощи которого до аудитории доводится смысл общего тезиса, сколько процессом открытия, в ходе которого противоречие между иллюстрацией и общим положением искажает содержание этого положения (6). Как красноречиво показывает Лайонс, пример в эту эпоху был важным материалом для размышлений, поскольку соотношение между примерами и абстракциями становилось все более спорным. В моем понимании, усиление противоречий между примером и общим тезисом имеет глубокие корни в конфликте двух устремлений, неоднократно выражавшихся представителями ренессансного гуманизма. Первое из них — это желание использовать недавно ставшие доступными научные методы для изучения биографий, провозглашенных образцовыми. А второе — это желание использовать созданные в последнее время литературные средства для более полного изображения человеческих характеров в драматических и повествовательных формах. Оба эти устремления полностью согласуются с недовольством Хауэрваса по поводу использования примеров в этике недоумения. Но чем больше внимания гуманисты уделяли — в повествованиях или в драмах — подробностям якобы образцовых биографий, тем труднее им было соединить эти детали с идеей добродетелей или общих истин, которые их персонажи должны были персонифицировать. Когда объем подробно изложенной информации о характере лица и об обстоятельствах его жизни, содержащейся в рассказываемой истории, резко возрастает, становится сложнее понять, что же именно должна представить нам данная история. Новая, богато оснащенная подробностями или эпизодами биография оказывается уже не так прямо связанной с общими идеями или абстракциями, которые она была призвана олицетворять. Лайонс обращается к проблеме избытка, которую авторы эпохи Ренессанса намеревались буквально воплотить в приводимых ими примерах: «Пример избыточен, поскольку каждый элемент исторической реальности, даже любой вымысел, призванный для подтверждения обобщения, обладает характеристиками, выходящими за рамки того, что содержит в себе 238 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ обобщение… Беря пример некоего объекта, мы описываем лишь одну, ограниченную сторону этого объекта… Будем помнить, что пример есть вспомогательное утверждение, значение которого выводится из господствующей общности. А поскольку вспомогательные утверждения перерастают в сложные повествования, число концепций, которые могли бы быть проиллюстрированы этими повествованиями, мало-помалу начинают выходить из-под контроля общей идеи. Вспомогательное утверждение может содержать в себе детали, которые абсолютно по-новому осветят казавшуюся простой общую идею, которую они призваны проиллюстрировать, или же как писатель, так и читатель отвлекутся на богатство приведенного примера и упустят из поля зрения иллюстрируемую концепцию» (Exemplum, 34). Гуманисты стремились обрести насыщенные деталями описания жизни людей, которыми их наставники призывали их восхищаться. Однако чем более насыщенным становилось жизнеописание, тем более сложным оно оказывалось в этическом отношении. Вполне понятно, что к этой же логике прибегли Хауэрвас и Баррел, когда критиковали постоянные искания этической теории в 1977 году. Они предлагали заменить скудные описания примеров, применявшиеся в теории недоумения, богатыми повествовательными описаниями характера и обстоятельств. Риторика подробностей в более развернутых описаниях затрудняет мыслителю восприятие последних как представления образцов. Прагматическая значимость примера как логического связующего звена между частным и общим становится неочевидной. Чтобы вычленить этот пункт в более философском плане, скажу, что обогащение повествования описательными деталями представляет собой вопрос прибавления заверений и, следовательно, внедрения новых убеждений для тех, кто уже воспринял изначальное повествование. Но на уровне детализированного описания новые убеждения могут ослабить привязанность воспринимающего к общему выводу, обоснованному примером в его первоначальной форме. Причина в том, что логическое обоснование, представляемое на практике первоначальной вариацией примера, может утратить действенность. Обоснование теряет свою силу, если новые убеждения подрывают его авторитет. Общее утверждение, базировавшееся на первоначальном обосновании, оказывается несовместимым с новой версией. Что же тогда нам остается делать с общим утверждением? Отвергнуть его? Дать ему оценку? Ограничить сферу его действия? Или нам стоит вернуться к самому примеру и пересмо239 треть систему утверждений, составляющих его описательное содержание? Задаться этими вопросами значит встать между убеждениями, воплощенными в воздействии примера, и теми убеждениями, что получили воплощение в общем утверждении, то есть прийти к обдумыванию тех и других (7). Или, выражаясь словами Музиля, оказаться «между примером и учением». С исторических позиций я заявляю, что определенные жанры этического дискурса, возникшие в начале современного периода, были созданы для того, чтобы дать нам возможность разрешать эти вопросы. История показывает, что эти жанры были высоко оценены членами современных демократических обществ. Один мыслитель, работавший на раннем этапе современного периода, написал эссе, в котором выразил свое восхищение любимым им Сократом . Он счел нужным это сделать, поскольку добродетели Сократа (реальные, насколько это возможно) не составляют всего его жизнеописания, но еще и включают подчинение голосу демона. Тем самым автор эссе откликнулся на проблему избытка, возникшую вследствие полноты его знаний о Сократе, которые были им почерпнуты как из трудов Платона, так и из неплатонических источников. Другой автор, приверженный другому жанру, мог бы обратить внимание на сходное противоречие между персонификацией и персонифицируемым путем описания персонажей средневековой пьесы, в которой как герои, так и злодеи представляют собой смешение пороков и добродетелей. А кто-то еще мог бы видоизменить новеллу таким образом, чтобы ее центральные персонажи представились нам более живыми человеческими существами из плоти и крови и меньше напоминали бы нам кукол с наклеенными на них дидактическими ярлыками. Именно таким образом культура пайдейи трансформировалась в культуру Монтеня, Шекспира и Маргариты Наваррской. Когда в 1977 году Хауэрвас и Баррел писали, что предпочитают такое повествование, которое «не заканчивается предписывающей моралью», они невольно выразили чувство, которое в начале современного периода способствовало формированию чисто современных жанров, в рамках которых проходит значительная часть нашего этического дискурса. Но когда это чувство стало частью этической жизни современных обществ, оно нанесло урон культуре пайдейи, в которую Хауэрвас хочет вдохнуть новую жизнь. Мы можем призывать к абсолютно четкому разграничению между добром и злом См.: Мишель Монтень. Опыты. Т. 1. — М.: Голос, 1992. — С. 45. 240 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ и желать столь же определенных персонификаций того и другого, воплощений добродетели, которым мы могли бы подражать или выражать свое восхищение, и примеров порока, которые мы могли бы осудить или отвергнуть. Но эссе, драма Шекспира и роман — такие формы нравственных исканий, которые неизменно оставляют нас без персонажей, удовлетворявших бы наше желание найти прямые персонификации абстракций и желание обнаружить повествование, которое непосредственно иллюстрировало бы моральные максимы. В этих жанрах исследуется мир проблем, с моральной точки зрения слишком сложных, чтобы культура пайдейи могла бы сохраниться, по крайней мере, в ее первоначальной форме. Евангелия говорят читателям: «Прибегните к представленной здесь жизни Иисуса, и вы познаете характер Бога живого». Жития святых говорят: «В этой истории вы найдете подлинную персонификацию святости». Все классические жизнеописания говорят: «В жизни этого человека заключается истинное воплощение доброго характера или добродетели». В каждом из этих жанров могут встретиться риторические осложнения, и отдельные повествовательные воспроизведения жизненного пути образчиков добродетели при анализе могут оказаться менее простыми, чем это может показаться читателю с первого взгляда (8). Но мы не должны удивляться, если в каждом из этих жанров обнаружим риторику избирательного описания, поскольку это есть обычный метод авторов, позволяющий им держать проблему избытка под достаточным контролем, чтобы установить желаемое отношение персонификации. Напротив, как пишет Милан Кундера, «каждый роман говорит читателю: “Дела обстоят не так просто, как вы думаете”» (9). Мне кажется, то же говорят нам «Опыты» Монтеня и драмы Шекспира. В этой главе я разобрал аргументы Хауэрваса против той роли, которую играют примеры в современной этической теории. Я также обратился к его высказываниям в пользу этики характера, которая, как выяснилось, является этикой ученичества, в центре внимания которой находятся образцовые жизнеописания. Одна из целей сопоставления этих двух систем аргументации по поводу форм использования примеров в этических интересах — привлечь внимание к несоответствиям между ними. Та же формальная характеристика, которую Хауэрвас находит сомнительной там, где этические теоретики пишут о конкретных примерах, обнаруживается в официально признанных житиях святых и в отстаиваемой Хауэрвасом избирательной версии Евангелий. Мало того, одна из главных причин того, что проблема примера оказалась в центре внима241 ния гуманизма Ренессанса, авторов, творивших на начальном этапе современного периода и создававших моральную культуру, в которой романы, драмы и эссе стали важнейшими формами этического дискурса. Однако признать это означает увидеть, что современная демократическая культура обладает собственными ресурсами для противостояния тому, как этические теоретики, как правило, используют примеры. Предлагаемая Хауэрвасом критика формалистической этической теории отнюдь не служит оправданием его интерпретации современного этического дискурса, а лишь помогает нам понять, как мало существует исторических подтверждений сделанных Хауэрвасом оценок того, что собой представляет современный этический дискурс. В мои намерения не входит делать авторов эссе, романов и пьес героями современности. Я просто стараюсь приблизиться к честным отношениям с более широкой этической культурой, которую они помогали создавать, — с культурой, изучить которую во всей ее сложности не дали себе труда ни формалистическая этическая теория, ни новый традиционализм. С одной стороны, в нашей культуре многие люди смотрят на этическую теорию и формы этического дискурса, которые она отражает, как на смехотворные, заслуживающие презрения или как минимум сомнительные феномены. С другой стороны, в нашей культуре моральное образование уже не заключается полностью в моделировании своей жизни по классическому образцу. Моделирование остается решающим аспектом морального развития индивида. Мы по-прежнему становимся такими, какие мы есть, в основном сопоставляя себя с моделями. Но мы обычно не предполагаем, что наше моральное образование требует того рода покорности по отношению к образцам, которую Браун находит у греко-римских элит. Знаменитое высказывание Эмерсона о том, что «подражание — самоубийство» является гиперболой (10). Мудрые демократы умеют применять тоник Эмерсона так, как он и задумывался, — как компенсацию за излишки пайдейи. Это эффективное духовное лекарство для всякого подражателя моделям, для всякого ученика, о ком справедливо может быть сказано: «Если я знаю, к какой партии ты принадлежишь, мне наперед известно любое твое суждение» (11). Верно, что образцовые фигуры — святые, пророки, другие духовно одаренные люди — важны для воспитания в добродетели. Эмерсонианский перфекционизм настаивает на этой истине не менее, чем обновленный уэслианский перфекционизм Хауэрваса. Подражание превосходному примеру — это необходимый аспект для достижения 242 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ совершенства в своей личности. Но подражание легко может обернуться родом рабского идолопоклонства, когда мы оказываемся ослеплены и пленены личностью, которой восхищаемся. А значит, мы обязаны подражать и совершенству доверия к себе, то есть свободе от такого подчинения. Мы боремся с нашими образцами, чтобы не стать их пленниками, как и они в свое время не становились пленниками своих образцов, если они достойны нашего восхищения в первую очередь. Как говорит Эмерсон в эссе «Представители человечества», самые достойные подражания — это те, чей «гений стремится охранить нас от самого себя» (12). Ни один ничтожный человек не пришел к полному успеху в подражании подлинному совершенству. Таково демократическое дополнение Эмерсона к этике примера. В дни моей юношеской гордыни Мартин Лютер Кинг был героем моих гуманитарных занятий, а Иисус — одним из трех воплощений моей божественной любви. Сегодня дело обстоит не так просто, поскольку я сумел узнать об этих людях добродетели больше, чем их агиографы и комментаторы хотели бы. Сегодня, когда я не столь наивен в отношении сложностей, я не в меньшей степени движим идеями любви и справедливости, не хуже сознаю, какое место эти идеи занимают в добродетельном характере, и не утратил способности облекать их в дискурсивную форму. Кинг и Иисус остаются объектами этического интереса, как и раньше. Я по-прежнему подолгу думаю о них. Любовь и справедливость остаются добродетелями. Но сейчас отношения между личностями и добродетелями стали сложнее. Этот вопрос требует другого, менее доктринального, более импровизационного типа изложения. Если Кинг и Иисус и персонифицируют добродетели в моем образном мире, то исполняют эту роль небезупречно и ограниченно. Поэтому я нуждаюсь в способе продумывания этих отношений, не отмеченном концом пути, причем с обеих сторон. Ни доктрина, ни принцип, ни система, ни нависающий сводом сюжет, известные заранее, не стреноживают движения мысли. Большинство из нас находится сейчас между примером и учением — вместе с Монтенем и Музилем. В конце концов, все мы имеем свои образцы, и все они рано или поздно что-то нам дают. Но мы берем у них не одно и то же. И они не получают от нас одно и то же. <' <) < ^) Некоторым читателям покажется, что мое изложение критики этики недоумения, предложенной Хауэрвасом, до странности напоминает аргументацию, независимо от меня выдвинутую Сейлой Бен243 хабиб. В этом разделе я хочу обратиться к абсолютно иному теоретическому контексту, в который вписывается критика Бенхабиб взглядов Хауэрваса. Бенхабиб не теолог, а политический теоретик, и в центре ее внимания — этика демократической дискуссии. Краткий обзор ее взглядов вернет нас к вопросу о ее общей близости к Ролзу и Рорти и поможет высветить вопросы, к которым я обращусь в части третьей. Заговорив на первой же странице книги «Помещая личность» об «изломанном духе нашего времени», Бенхабиб задает общий тон книги и обращается к теме, которая на протяжении замечательно долгого времени в современной мысли (13). Ее корни можно обнаружить там, где романтики от проповеди библейских пророков перешли к светскому призванию социальной критики. В понимании романтиков, решающая задача состояла в том, чтобы расшифровать знамения времени в надежде разглядеть кризис, или разрыв с прошлым, который характеризует нашу нынешнюю ситуацию, а также природу решений, с которыми сталкиваются современные индивиды, оказавшись в этом качестве. В этом высоком свете разрыв с прошлым видится следствием разрыва или обрыва старой духовной преемственности, испорченности, которую внес в историю новый дух. Нелишне отметить то, как данный комплекс идей романтиков пережил уход романтизма. Образы раздробленности, излома, крушения и представления о критике, современности (modernity) с тех пор стали общими местами в рассуждениях о социальной критике. Кто-то находит их у Гегеля, Маркса и Ницше; в спорах рубежа девятнадцатого — двадцатого веков о нигилизме и историзме; у Паунда и Элиота; у Хайдеггера, Макинтайра и Уэста; в критической теории Франкфуртской школы; в стереотипах современной журналистики. Бенхабиб унаследовала этот комплекс идей от своих предшественников из Франкфуртской школы. В своей первой книге «Критика, норма и Утопия» она воссоздала диалектическое развитие этой традиции и показала, как и почему представления о критике, современности и кризисе видоизменялись, передаваясь от Гегеля к Марксу, Хоркхаймеру, Адорно и наконец — к Хабермасу (14). Переходя от одного мыслителя к другому, подвергая каждого из них жесткому анализу, она вскрыла значительную энергию движения. Повествование приводит нас вначале к утверждению, что коммуникативное взаимодействие должно служить для критической теории моделью социальных действий, но в конце концов выходит за рамки тщательно разработанной системы, в которой описываемую 244 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ традицию венчает Хабермас, и переходит к собственной модифицированной концепции коммуникативной этики. Для наших целей наиболее важны две претензии, выдвигаемые Бенхабиб в адрес теории Хабермаса: во-первых, он не идет достаточно далеко в интеграции вопросов, касающихся хорошей жизни, в его этической теории; во-вторых, его этическая теория фокусирует внимание на формальном взаимодействии с «обобщенным другим» как носителем прав и средоточием достоинства и при этом оставляет недостаточно места (а то и вообще не оставляет) для взгляда на «конкретного другого» как на индивида с собственной жизненной историей. Как объясняет Бенхабиб в своей второй книге, эти претензии значимы отчасти потому, что представляют собой отзвуки вопросов, которые коммунитарианцы и сторонники феминизма соответственно ставят перед критической теорией. Она не упоминает о том, что обе претензии являются также откликами на главные темы традиционализма Хауэрваса. Что же мы находим — и находим ли вообще — в этом сплаве? Дает ли он нам какуюлибо надежду на преодоление позиции между секуляризмом и традиционализмом? Бенхабиб прямо говорит, что ее коммуникативная этика «отдает предпочтение светской, универсалистской, рефлексивной культуре» (РЛ, 42). Здесь соприкосновение «светского» и «универсалистского» предполагает, что конфронтация с Хауэрвасом может быть у нее наготове. Что данные понятия означают в данном контексте и как они сочетаются с замечаниями в духе Хауэрваса о важности сосредоточенности на конкретном другом? Мы видели, что, на взгляд Хауэрваса, все основные позиции обусловлены. Ни одна точка зрения не может претендовать на универсальность в понимании Канта. Поэтому, по Хауэрвасу, этика постоянно нуждается в определениях. Он предполагает, что те, кто заявляет о достижении необусловленной позиции для «моральной точки зрения», на самом деле точат топор для секуляризма. Если бы предлагаемая Бенхабиб версия критической теории была «трансцендентальной» в кантовском смысле, она была бы устремлена к оправданию нормативных требований теории и показывала бы, что они необходимы (или необходимы для нас), в том смысле, что они уже предполагаются всеми, кто хочет представлять аргументы на суд других людей (15). В таком случае появилось бы ясное понимание смысла универсальности, на который Бенхабиб опирается при защите своей позиции. Но она убеждена, что у нее нет трансцендентальной аргументации такого рода. Она претенду245 ет на то, что сбросила трансцендентальные оковы с теории Хабермаса. Но если она это заявила, то уже неясно, почему разработанную модель коммуникативной этики следует понимать как обоснование нормативных требований теории. Если человек принимает эти требования, он тем не менее может сомневаться в полезности объединять их в одном конце воображаемого теоретического коридора только ради того, чтобы увидеть, как они выходят из другого его конца в декоре технической терминологии. В качестве обоснования нормативная теория как будто претендует на решение вопроса без обсуждения. Но если она обоснованием не является, то в каком смысле она является нормативной теорией? Обратимся теперь к эмпирической составляющей теории. Бенхабиб критикует меня за то, что я не опираюсь на социальную теорию современности (modernity) Хабермаса. Она рассуждает о том, что более серьезное взаимодействие с социологической теорией Хабермаса даст некоторым моим взглядам «более твердый фундамент в современной социальной теории» (РЛ, 147). Я благодарю за предложение и за его доброжелательную интонацию, но у меня есть свои причины для того, чтобы не желать более твердого фундамента в такой социальной теории, как теория Хабермаса. В особенности меня не устраивают ее предположения насчет эффектов влияния рационализации — в понимании Вебера — на религиозное мировоззрение. Бенхабиб предлагает нам обширное повествование в духе Хабермаса, посвященное возникновению современных структур сознания и включающее в себя рассуждение о секуляризации, которое я критиковал выше, в главе 4. Моя модель секуляризации выстроена гораздо более скромно, и это сделано сознательно. Ее цель — объяснить, каким образом религиозное многообразие может, при определенных условиях, изменить предпосылки дискурса в отдельных институциональных системах. В моей модели секуляризуется система дискурсивных предпосылок, необязательно заложенных в мировоззрении или в состоянии сознания участников дискурса соответствующего типа. Поскольку моя модель не прогнозирует все более нарастающего общего разочарования, она не вступает в противоречие с фактами, свидетельствующими об обратном, в частности, с религиозным возрождением, имеющим место на протяжении последних четырех десятилетий (16). Бенхабиб разъясняет, что «моральная точка зрения» — в ее понимании — частью является продуктом того, что Вебер называет «”разочарованием” мира» (РЛ, 41). Таким образом, принять моральную 246 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ точку зрения означает отказаться от «конвенциональной морали» в пользу другой, полностью «рефлексивной». У тех, «кто придерживается конвенциональной морали, есть когнитивный барьер, за которым они не станут спорить». Они «приводят определенного рода резоны, которые разделят участников нравственного диалога на находящихся внутри и вне его, на тех, кто разделяет и не разделяет их предпосылок». Моральная рефлексивность и моральный конвенционализм несовместимы; но в разочарованной вселенной ограничение рефлексивности служит признаком дефицита рациональности… В этом смысле коммуникативная этика «превосходит» другие, менее рефлексивные «моральные точки зрения». Она может сосуществовать с ними и видеть их когнитивные пределы… но она также помнит об исторических условиях, в которых стало возможным появление ее собственной точки зрения (РЛ, 43). Иначе говоря, в разочарованном мире люди, рассуждающие об этических проблемах, как это делает Хауэрвас, и опирающиеся на предпосылки, не разделяемые другими, демонстрируют свою собственную слабость как рациональных действующих лиц. А тогда воображаемая универсальность позиции Бенхабиб тесно связана с некоторым типом секуляризма. Получается, что она принимает за предпосылку предложенное Вебером толкование исторических условий, в которых ее точка зрения стала возможной. Мне кажется, это странный вывод для теоретика, который вместе с Хауэрвасом отстаивает необходимость поворота нашей этической мысли от «обобщенного другого» этики недоумения к «конкретному другому» в ориентированной на повествование нормативной теории. Ханна Арендт и последователи феминизма научили нас, если верить Бенхабиб, что нам необходимо серьезно отнестись ко всем измерениям человеческой жизни, которые выходят из тени, когда мы обращаемся к детальным повествованиям о «размещенных личностях». Для Бенхабиб (как и для раннего Хауэрваса) смысл выделения роли повествования в этике состоит в том, чтобы усложнить нашу концепцию рациональных действий, поставив ее в контекст отдельных человеческих жизней. Но предположим, что рациональность и иррациональность — это действительно характеристики размещенных личностей, чьи жизненные истории должны быть приняты во внимание, прежде чем мы станем выносить суждения о них. Как же тогда может Бенхабиб испытывать такую уверенность относительно фундамента в высокой степени обобщенных — и неочевидных — исторических соображений о том, что те, 247 кто хочет выступать на основании религиозных предпосылок, демонстрируют дефицит рациональности? Хауэрвас сказал бы, что два индивида могут находить для себя оправдание в том, что они придерживаются разных убеждений по религиозным или другим вопросам, коль скоро у них разные жизненные истории. Это представляется справедливым. Мы отмечали разницу между тем, когда человека оправдывает вера во что-то, и тем, когда он заявляет претензию к другому человеку. Если человек не в состоянии оправдать свои убеждения перед другим — например, на публичном форуме, где ныне не существует разделяемых всеми теологических предпосылок, — это не обязательно ведет к тому, что его убеждения оказываются неоправданными. А если он идет вперед и приводит аргументы, основанные на его личной точке зрения, должно ли это считаться «признаком дефицита рациональности»? Как мы увидели выше, в главе 3, никоим образом не ясно, что все значимые вопросы могут быть разрешены на основе общего фундамента идеалов и принципов, которые рациональные люди не могут отвергнуть на разумных основаниях. Бенхабиб не доказала нам, что демократическая дискуссия обязана иметь светский характер, а именно — основываться на предпосылке разочарования мира. Почему так получилось, открывают нам ее собственные резоны для помещения размещенной личности в центр своей теории. Если все мы — размещенные личности, наши основания не должны обязательно быть связаны с кем-либо, кто размещен иначе; во всяком случае, если гиперконтекст, именуемый «современностью», представляет собой единственный значимый аспект нашего размещения. Обращаясь к вопросам религии, Бенхабиб принимает за данность следующее. Она размещает личности всех нас в едином, всеобъемлющем, широкомасштабном эпистемическом контексте. Она не принимает во внимание возможность того, что могут существовать значительные расхождения, в силу которых убеждения индивида могут быть оправданы в обществе людей, введенных в культуру иным образом. Она принимает как данность, что место в культуре не может предоставить оправдания некоторым индивидам, придерживающимся убеждений, не разделяемых большинством их ближних. Однако в моем понимании именно сосуществование многочисленных субкультур, каждая из которых на некотором уровне успешно аккумулирует молодежь, составляет единственно важный аспект факта существования плюрализма в современных демократических обществах. Такая ассимиляция, 248 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ по моему мнению, проходит успешно тогда, когда конкретные группы индивидов получают оправдание для веры в предпосылки, в которые другие либо обоснованно не верят, либо обоснованно игнорируют. Иными словами, соответствующая эпистемическая ситуация для таких личностей оказывается намного более обособленной и гибкой, чем позволяет нам предполагать гиперконтекст, то есть современность. Вероятность того, что некоторые из наших ближних действительно могут быть оправданы в своей вере в странные (а может быть, и закрепощающие) тезисы, является одним из оснований терпимости в демократическом обществе. Наше уважение друг к другу не обязательно должно быть чисто абстрактным вниманием к потенциально рациональным действиям. На самом деле оно, скорее, бывает более конкретным. Его питает признание того, что многое, во что верят наши соотечественники, является как раз тем, во что любой разумный человек верил бы, находись он в точности в той же ситуации, что и они. Положение личности в этом смысле включает в себя особенности культурной ассимиляции в конкретной семье, участием в конкретных социальных практиках и принадлежностью к конкретным сообществам. В этом главным образом и заключается уважение к конкретному другому. Независимое уважение этого рода может присутствовать (а также поддерживать демократические пристрастия) и в тех случаях, где я, как социальный критик, имею веские основания заключить, что мой соотечественник верит в нечто ложное, противоречащее его собственным интересам или закрепощающее. Когда я принял в расчет все особенности ситуации и сделал все, что в моих силах, чтобы истолковать их в благоприятном ключе, лишь в качестве последнего ресурса я буду вынужден принять гипотезу о том, что данная личность или группа страдают «дефицитом рациональности». Тогда и только тогда я буду должен быть готовым отбросить приводимые моим ближним резоны для действий и веры и воспользоваться специфическими интерпретационными инструментами критической теории. Но когда я окажусь перед необходимостью зайти настолько далеко, что буду обязан помнить о цене, которую мне придется заплатить за свою критику из резерва независимого уважения, на котором может основываться демократический дискурс между ближними. Идеологическая критика — это герменевтическая неотложная помощь, и если прибегать к ней слишком часто, можно представить несостоятельным тот самый демократический процесс, которому она призвана служить. 249 Вот в этом и состоит парадокс критической теории как всеохватного подхода к современному демократическому дискурсу. Критические теоретики начинают с выражений радости в адрес надежды на то, что подлинно демократический дискурс расцветет среди нас. Они встают на службу этой надежде; их служба заключается в том, что они систематически анализируют источники искажений, возникающих внутри нашего дискурса в его нынешних формах. Но в итоге они приходят к отрицанию почти всего, что реальные люди думают, говорят и чувствуют, вместо того чтобы вступить в диалог с ними. Даже развиваемая Бенхабиб версия критической теории ведет к замалчиванию связей между личностями и конкретными ситуациями и историческими традициями, в которых личности обретают свои убеждения и идентичность. Когда в ее теории возникает понятие «дефицита рациональности», то оно оказывается обращено к личностям скорее как к пациентам, нежели как к согражданам. Несомненно, Бенхабиб чувствует наличие проблемы более отчетливо, чем большинство других критических теоретиков. Она начала перерабатывать концепции ситуации и суждения в ключе, который должен помочь решить возникшие вопросы. Но ей пока не удалось добраться до корней проблемы. Нет смысла советовать, чтобы социальные критики прикусывали языки, когда они подозревают своих ближних в выдавании желаемого за действительное или в других формах нерациональности или самообмана. Я лишь имею в виду, что стандарт, который нужно предъявлять к таким подозрениям, значительно выше, чем представляет себе большинство критических теоретиков. Демократические надежды часто будут больше выигрывать, если мы примем более уважительные пути интерпретации как наш первый инструмент. Наши сограждане абсолютно вправе придерживаться ложных убеждений. Мы вполне оправданно можем считать, что они заблуждаются. Но во многих случаях мы обязаны быть готовы объяснять наши разногласия, указывая на разницу в контекстах и допуская, что их убеждения, каковы бы они ни были, могут быть оправданы, а затем начинать или продолжать участвовать в обмене аргументами в дружественном и демократическом духе. Если это нам удастся, сама дискуссия видоизменит наши эпистемические контексты так, чтобы мы смогли бы преодолеть некоторые из наших разногласий или самое малое жить вместе в атмосфере уважения. Нужно ли нам менять свои мнения на определенных этапах демократического обмена идеями — это мы должны решать в каждом конкретном случае как размещенные личности, критически осмыс250 ^ 7. ¤ §¤¤ '&¤ ливая собственный опыт, а также различные традиции и источники, которые ситуация сделает доступными для нас. Впрочем, не всегда верно, что мы обязаны отказываться от убеждений, которые не будут признаны «оправданными» в публичной дискуссии. Здесь возникает множество интересных вопросов относительно отношений, которые могут возникнуть между оправданными убеждениями граждан и оправдывающими аргументами, рождающимися в относительно обобщенном контексте публичной дискуссии. Однако эти вопросы трудно поднимать, не говоря уже о том, чтобы получить на них ответы, в рамках теории, где не существует различия между оправданием в индивидуальных убеждениях и оправданием убеждений или предпосылок перед аудиторией. Когда Бенхабиб приписывает дефицит рациональности тем, кто расходится с ней в религиозных нюансах, она полностью уходит от этих вопросов. Едва ли мы сейчас вправе утверждать, что преодолено взаимное недоверие между секуляризмом Бенхабиб и традиционализмом Хауэрваса. Но мне представляется ясным, что оба эти исследователя представляют возможным, а тем более желательным, возникновение свободно структурированного демократического диалога, в котором по-разному размещенные личности выражают свое видение ситуации в своих собственных терминах. Ни один из них не описывает адекватно сложные функции, которые такие выражения мнений могут получить в рамках этической рефлексии. Оба они в критические моменты отворачиваются от всей полноты их общего представления о том, что разные пути размещения личностей в мире имеют значение в этике. Бенхабиб признает, что пол человека может иметь определенное значение для размещения личности в мире, и справедливо указывает на ценность повествований для того, что влекут за собой особенности размещения мужчины или женщины. Хауэрвас признает значение принадлежности коголибо к определенному религиозному сообществу и справедливо указывает на ценность повествований для ситуации, в которой оказывается тот или иной христианин или иудей. Но Бенхабиб объявляет описание Хауэрваса недостаточным, как будто это может быть известным еще до того, как повествование преподнесено аудитории и подвергнуто критике с разных точек зрения. А Хауэрвас представляет бесполезным обмен повествованиями, если все его участники не согласны заранее с тем, что в основании дискуссии должен лежать канон классического жизнеописания. Два пункта соглашения предотвращают разрешение разногласий. Во-первых, оба теоретика рассматривают демократическую совре251 менность (modernity) как порождение разрыва с традицией, после чего верующий оказывается жертвой разочарования и, следовательно, попадает в фундаментально невыгодное положение в публичной дискуссии. Бенхабиб считает такую перемену прогрессивной, а Хауэрвас — катастрофической. А во-вторых, оба они исходят из того, что рациональный дискурс должен проходить в рамках, которые позволяли бы их личным точкам зрения восторжествовать над противоположными. Для Бенхабиб это моральная точка зрения, основанная на открытой приверженности секуляризму. Для Хауэрваса это перспектива возникновения сообщества христианской добродетели, основанного на библейском метаповествовании и канонах классических жизнеописаний. В части второй я представил сомнительность обоих тезисов — и относительно современности, и относительно рациональности дискурса. В части третьей я намерен рассмотреть последствия отказа от них и при этом постараюсь раскрыть возможность рациональной дискуссии между по-разному размещенными в обществе личностями. 252 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ Глава 8. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА ОБУСЛОВЛЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ Хотя заповеди Совести, по существу, абсолютны, они ограничены исторически. Мудрость стремится не к буквальной нравственности, а к полезной, то есть обусловленной, — такой, какую позволят способности человека и положение вещей… Существующий мир — не сон, и к нему нельзя относиться безнаказанно, как ко сну; это и не болезнь, но это почва, на которой вы стоите, это — мать, родившая вас. Реформа имеет дело с возможностями, случайность — с невозможностью; но это священный факт. И это верно, иначе этого не могло быть: в этом была жизнь, иначе того не существовало бы; в нем есть жизнь или его бы не оставалось. Эмерсон ^ 8 ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ЭПОХУ ТЕРРОРИЗМА Дискуссия второй части всецело протекала в критическом русле. Мы подробно останавливались на либерализме Ролза и Рорти, традиционализме Милбэнка и Хауэрваса и убедились, что оба подхода неспособны предоставить удовлетворительный анализ роли религиозных традиций в современной демократии. Задача третьей части состоит в выработке приемлемой альтернативы этим подхо253 дам. Успешный философский анализ демократической политической культуры помог бы преодолеть слабости, установленные мной в данных подходах, и одновременно перенять их сильные стороны. Таким образом, мы сможем объяснить как слабости, так и сильные стороны предшествующих подходов. Либерализм и традиционализм поднаторели в выявлении слабостей оппонента. Либералы, не колеблясь, указывают на то, что традиционализм угрожает нам лишением имеющихся и потенциальных выгод обмена соображениями, поднимающимися над границами анклавов. Традиционалисты столь же спокойно доказывают то, что либерализм потерпел неудачу в разрешении конфликта между приверженностью идеалам свободы и желанием диктовать условия общественного сотрудничества. Обе стороны преуспели в умении, стиснув зубы, выставлять своих оппонентов в наихудшем свете. Но ни одна из сторон не имела большого успеха в объяснении достоинств другой. В толковании кардинального вопроса о религии нечем похвастаться даже таким требовательным теоретикам, как Бенхабиб. Однако есть и обнадеживающие признаки того, что выход из существующего тупика найден. Мы уже увидели, как Ролз, пытаясь решить проблемы при помощи теории общественного договора, вдохновленный Локком, Руссо и Кантом, ввел понятия, исходящие из прагматического экспрессивизма Гегеля и Дьюи. Концепция дискурса, которую Рорти развивает в «Философии и зеркале природы», но затем забывает о ней во время обсуждения роли религии в политической культуре, — также продукт прагматического экспрессивизма. Того самого экспрессивизма, который имеет в виду Макинтайр, подтверждая, что Ролз и Рорти недавно признали, что либерализм должен пониматься как традиция. Критическая теория Бенхабиб также многим обязана гегельянскому экспрессивизму. Что касается традиционалистов, Милбэнк открыто признает форму прагматического экспрессивизма, инспирированного Гегелем и различными постмодернистами. И Макинтайр, и Хауэрвас отдают приоритет социальным практикам. И хотя никто из них не находит контраргументов гегельянской критике их собственных позиций, оба все еще находятся в неоплатном долгу у Гегеля, что держит их в непосредственной близости от прагматического экспрессивизма. Макинтайр колеблется между двумя концепциями традиции. Одна из этих концепций решает вопрос в пользу традиционализма, утверждая, что традиции требуют высокого уровня согласия по поводу канонических авторитетов и природы блага. Другая определяет традицию по образцу, предложенному Гегелем, как 254 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ диалектическое рассуждение о благах и добродетелях в контексте совместных общественных практик, крепнущих со временем. В работах и Макинтайра, и Хауэрваса мы видим проблески того, как эта вторая концепция традиции и связанные с ней понятия добродетели и образца могут творчески применяться к современному обществу. У Макинтайра положение современного этического дискурса часто выглядит безнадежным, но он также развивает представление о рациональности, провоцирующее нечто вроде рассуждений в духе Рорти. Хауэрвас упорно настаивает на том, что он не является сектантом, и превозносит Дороти Дэй, в чем можно усмотреть возможность демократически окрашенной этики добродетели, очищенной от антилиберального негодования. То же можно сказать и о кратких ссылках Милбэнка на христианский социализм. Выход из настоящего тупика, на мой взгляд, состоит в рассмотрении обеих сторон как совпадающих по форме прагматического экспрессивизма, воспринимающего устойчивые демократические общественные практики как традицию, с которой мы хотели бы идентифицировать себя. Разрабатывая устойчивую версию прагматизма, я надеюсь раскрыть как слабые, так и сильные стороны либерализма и традиционализма. Это должно предполагать: – разрешение внутренних противоречий в политическом либерализме Ролза путем отказа от его представления о независимой концепции справедливости и его противоречивого анализа разумности, при этом сохранении идеи о том, что мы обязаны друг другу определенными соображениями в разрешении важных политических вопросов; – понимание нашего частичного консенсуса в отношении легитимности конституционной демократии как внедрения практического обязательства быть взаимно ответственными за наши политические соглашения, что позволит таким образом сохранить демократическую дискуссию, проходящую над границами этнических, расовых и религиозных разногласий; – разработку анализа дискурсивных практик наших умозаключений, воспринимающих идеал обсуждения Рорти и акцент Макинтайра на необходимости понять противника в его собственной системе координат при отказе от поиска принципов, которые ни одна разумная личность не смогла бы осознанно отвергнуть; – развитие концепции традиции, сконцентрированной на устойчивых общественных практиках, без решения вопроса 255 в пользу традиций, которые организованы иерархически и требуют соответствия критериям членства; – новое понимание современной демократии как традиции данного, менее определенного типа, и обращение в первую очередь к относительно свободным дискурсивным практикам, ей присущим. Компромисс — старая и испытанная стратегия для преодоления диалектического тупика. И Гегель, и Дьюи блестяще владели этим искусством. На самом деле, я полагаю, что Гегель взялся за установление компромисса между более ранней версией либерализма и традиционализма, а Дьюи сознательно пошел по его следам. Таким образом, нельзя сказать, что мы вступаем на неисследованную территорию. Более того, благодаря этой стратегии я оказываюсь в непосредственной близости от моих современников: в качестве нескольких очевидных примеров упомяну Роберта Брандома, Сабину Ловибонд и Черил Мисак — в философии, Нэнси Фрейзер — в политической теории, Ребекку Чопп и Корнела Уэста — в религиоведении. Настоящая глава открывает эту более явно выраженную философскую часть книги попыткой объяснить то восприятие, при котором демократические нормы суть порождение практики подотчетности, в которой мы обмениваемся аргументами. Для иллюстрации — а также с прицелом и на современную политическую ситуацию — я рассматриваю хорошо всем знакомую дилемму, известную у философов как проблема «грязных рук». Это вопрос о том, вправе ли политические должностные лица, ответственные за защиту общества от нападений, в условиях чрезвычайной ситуации совершать то, что обычно воспринимается не просто как неправильное, но и как ужасное. Проблема представляет философский интерес, так как она заставляет нас выяснить, чем же являются нормы ответственности, к каким видам ответственности они имеют отношение и как разного рода ответственности могут между собой конфликтовать. Насущность проблемы проистекает от ее очевидной связи с борьбой против терроризма. Моя цель состоит не в разрешении этой проблемы, а в улучшении нашего понимания того, в чем заключается данная проблема и почему трудно найти решение, которое бы вызвало одобрение всего гражданского общества. В процессе рассуждения я надеюсь прояснить некоторые особенности избранной мною версии прагматизма и указать на границы нравственного консенсуса в обществе, столь расколотом религиозно, как наше. 256 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ ^) ­ , §¦¶O < &]O¤ Политики творят зло повсюду. Черта тиранов в них — желание творить такие ужасные вещи, как пытки политзаключенных или убийства гражданских лиц, с целью заставить оппонентов страшиться беспринципности применения власти. Задача такого применения власти — поразить людей нежеланием руководствоваться в процессе применения власти моральными соображениями. В представительной демократии, однако, мы ожидаем, что политические власти будут отвечать перед гражданами за то плохое, что они совершают. Они действуют от нашего имени, как наши представители, с согласия управляемых. Так что мы требуем обоснования их действий, включая плохие. Практика требования обоснованности является упражнением в добросовестности. Основания, которые мы требуем, предполагают или налагают ограничения. Когда наши чиновники делают нечто плохое, они часто действуют втихомолку, надеясь избежать всеобщего внимания. Они не стараются поразить нас отсутствием угрызений совести, они стремятся скрыться от нас, поскольку им нечего представить в свое оправдание. Они предпочли бы уклониться от наших вопросов. Это каменная стена: препятствие любому вторжению. Когда их «грязные руки» становятся видны и отпирательство невозможно, власти частенько ссылаются на необходимость. Они утверждают, что им пришлось пойти на плохое, чтобы сослужить нам хорошую службу в прискорбных обстоятельствах. Выбора не было. Именно так, говорят они, делается политика в реальном мире. На одном уровне проблема «грязных рук» является вопросом о том, какой должна быть реакция граждан во времена демократии, когда политические власти используют данное оправдание при совершении, по общему признанию, чего-то плохого. Зачастую оправдание оказывается дутым просто еще одним грязным делом. Обстоятельства совсем не таковы, какими их представляет нечестный политик. Возможно, они вовсе и не были отчаянными. Или, возможно, они были таковыми по отношению к чьимто личным интересам, таким как желание оставаться у власти, но не по отношению к жизни и благосостоянию граждан. В большинстве случаев, когда люди ссылаются на вынуждающие обстоятельства в обычной жизни, существует гораздо больше возможности для маневра, чем они считают. Говорят: «У меня не было выбора», но на деле подразумевают, что рассмотренные ими альтернативы пока257 зались им неприемлемыми в то время (2). Зачастую же существует множество альтернатив, которые следовало бы принять во внимание, но людям свойственно ошибаться насчет неприемлемости изучаемых ими альтернатив. То же верно и в отношении политической арены. Оправдание необходимостью почти всегда оказывается неверным. И даже будучи ложным, оно часто срабатывает. Желание сделать его эффективным, таким образом, побуждает политиков к созданию ощущения чрезвычайности у граждан. Склонные к плохим поступкам лидеры также склонны играть на наших страхах. Соседствующие нации и внутригосударственные меньшинства превращаются ими в угрозу. Иногда лидеры даже осознанно провоцируют своих оппонентов на пугающее поведение, в надежде на снисхождение за такое же ответное поведение. Чем более сильное ощущение чрезвычайности и крайней необходимости лидеру удастся породить, тем убедительней выглядит ссылка на необходимость. Чем убедительней становится такое оправдание, тем сильней для лидера становится искушение плохим поведением. Чем больше пространства мы отдаем лидерам при этом, принимая данное оправдание, тем ближе мы оказываемся к неограниченному правлению властей предержащих. Чем ближе мы приближаемся к неограниченному правлению, тем меньше оснований у граждан доверять властям в деле своей защиты или иного способа служения их интересам. В отсутствии такого доверия демократическая культура будет разрушаться. Оправдание необходимостью принадлежит порочному кругу, пагубному для демократии в таких различных контекстах, как финальная фаза войны с Японией, политика ядерного сдерживания во время холодной войны, Балканы в 1990-х, палестино-израильский конфликт и глобальная борьба с терроризмом. Политики, ссылающиеся на крайнюю необходимость, обычно враги демократии. Доверять им нельзя. Но некоторые лидеры действительно оказываются в чрезвычайной ситуации. И я допускаю, что в некоторых из подобных ситуаций добросовестные лидеры, верные идее поддержания культуры доверия, необходимой для демократии, сталкиваются с поистине трудным выбором не по своей вине. Даже если они рассмотрели со всей ответственностью все альтернативы и точно восприняли все факты, они все же могли оказаться перед выбором: причинить вред людям или позволить чему-то плохому произойти с людьми. Как нам следует реагировать при подобной ситуации? Один из ответов — следовать простой логике: каждый должен всегда поступать так, чтобы последствия были наилучшими; исхо258 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ дя из этого, лидеры всегда должны поступать именно так. Если последствия невмешательства в происходящие с людьми плохие события в целом будут хуже, чем последствия причинения вреда, тогда следует причинить вред, зная, что цель оправдает средства. Однако принцип данного ответа слишком прост, чтобы соответствовать правам, обычно прописываемым в демократических конституциях, либо утверждению некоторых выдающихся демократических мыслителей о том, что жестокость — наихудшее из творимого людьми (3). На практике мы относимся к данным заключениям как к ограничениям средств, которые могут быть избраны лидерами при достижении своих законных целей. Простая последовательность мышления оставляет данные ограничения вне рассмотрения. Именно поэтому проблема «грязных рук» кажется легкоразрешимой — слишком легкой, я бы сказал, с демократической точки зрения. В следующей части предлагается анатомия проблемы, возвращающая внимание к этим ограничениям. Анатомия проводится в рамках заимствованного у Роберта Брандома прагматического анализа практического рассуждения в «Делая явным». &¤­ §]¤( Одной из возможностей описания проблемы «грязных рук» является обсуждение дилеммы, созданной конфликтующими стремлениями. С одной стороны, это желание охранять жизнь и благосостояние людей. Метафора «грязные руки» предполагает, что другая часть дилеммы имеет отношение к нравственной чистоте лидера. При равенстве всего прочего порядочные политические лица хотели бы, чтобы их руки были чистыми, а мы предпочли бы, чтобы они вели себя соответствующим образом. Но когда желание нравственной чистоты политика вступает в конфликт с его желанием обеспечить благосостояние граждан, как мы можем сознательно предпочесть первое второму? По сравнению с желанием защитить народ, стремление сохранить руки чистыми представляется эгоистичным. Кажется, что желание, которое бы следовало здесь испытывать, в подобной ситуации не должно быть мотивировано. Мы не желаем, чтобы политики пеклись о своей собственной чистоте за наш счет, и главное — мы не нуждаемся ни в щепетильных, ни в беспринципных политических лидерах. Среди демократических лидеров не место не только тиранам, но и пуристам. В то время как такая постановка проблемы очень точно подходит к метафоре «грязные руки», отнюдь не ясно, что вторая часть 259 дилеммы должна быть истолкована как стремление к чистоте. Если бы проблема действительно заключалась в конфликте между этим стремлением и социальным выживанием, тогда большинство из нас не видело бы в ней ничего трудноразрешимого. Не считая нескольких законченных пуристов, тех из нас, кто хочет оказать давление на наших политических представителей, волнуют больше жертвы, чем пятна, оставшиеся на руках сотворившего зло высокопоставленного лица. В нашем представлении первостепенна не ценность нравственной чистоты, а важность, достоинство или святость, которые мы приписываем отдельным личностям. Я еще вернусь к этой мысли. Какое бы значение мы ни придавали вопросу чистоты, я сомневаюсь, что проблему «грязных рук» следует описывать как конфликт устремлений. Чтобы пояснить, почему это так, рассмотрим различение, проводимое Брандомом между тремя типичными паттернами практического умозаключения, которые я проиллюстрирую примерами по следующей модели: а) сходить в магазин — единственный способ раздобыть молоко для хлопьев, так что я пойду в магазин; b) я работаю спасателем, так что буду внимательно следить за купающимися в зоне моей ответственности; c) смеяться над хромотой ребенка значит зря унижать его, так что я воздержусь от этого (4). Согласно Брандому, каждый из трех примеров — фактическое заключение. Чтобы сделать их обоснованными в смысле логического построения, нам будет необходимо добавить предпосылку, в остальном же они — истинные утверждения, поскольку они принципиально верны, раз все соответствующие участники наших оценочных практик относятся к таким умозаключениям как к истинным. Считая данные умозаключения (фактически) истинными, мы принимаем предпосылки данных практических заключений как основания для выводов. Подчеркивая, что каждое из данных заключений (фактически) сконструировано должным образом, мы не отрицаем значимость предпосылок, которые мы должны к ним добавить, чтобы сделать заключения формально обоснованными. Скорее, это способ выяснить, в чем же состоит эта значимость? (MIE, 246–247) Предположим, я добавил к а) утверждение, выражающее мое желание добавить молоко к хлопьям, к b) — условное высказывание о том, что поскольку я являюсь спасателем, внимательно следить за купающимися в прикрепленном за мною участке, — моя обязанность, или 260 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ к c) — правило о том, что нельзя неоправданно унижать людей. Таким образом, в каждом случае, по Брандому, я бы делал эксплицитным фактическое выводимое умозаключение, бывшее имплицитным в оригинальном примере практического рассуждения. В этом состоит преимущество превращения первоначально имплицитного фактического умозаключения в эксплицитное по форме утверждение, открытое для опровержений или подтверждений в свете других возможностей рассмотрения. Это, конечно, становится особенно важным, когда конфликты возникают по поводу проделанных нами разных фактических умозаключений. Проблема «грязных рук» — классический пример подобного конфликта. Но какие типы фактических умозаключений здесь обсуждаются? Кажется, они не принадлежат к тем, что явно выражены языком желания. Тип фактического умозаключения, выраженный в а), — единственный типичный образец, обнаруженный в практическом рассуждении. Если вы восприняли а) как фактически правильное заключение, которое мне предстоит сделать, то это дает право считать заключение, выраженное в предпосылке, наследуемым умозаключением, выраженным в выводе. Если вы так же отнесетесь к ряду других схожим образом структурированных умозаключений, приводя их к такому же выводу, вы имплицитно приписываете мне желание получить молоко к моим хлопьям (MIE, 249). Высказывание желаний — один из способов, которым мы эксплицитно объясняем фактическое умозаключение в практических контекстах, но есть и другие. Представляется, что проблема «грязных рук» в большей степени касается умозаключений типа, выраженного в b) и c), чем умозаключений из примера а). Ясно, что став эксплицитной, первая часть дилеммы вовлекает специфическую ролевую ответственность политического деятеля, состоящую в защите людей. Вторая часть кажется независимой от ролевой ответственности удерживаться от поступков определенного рода. Брандом опирается на эксплицитную формулировку двух этих типов ограничения соответственно как на «институциональную» и «безусловную» обязанность (MIE, 252). Инструменталистские анализы оснований действий вслед за Юмом приравнивают оба к благоразумному «следовало бы», связанному с заключениями типа а). Кантианцы, с другой стороны, склонны сводить все основания для действия к третьему образцу. Брандом, однако, утверждает, что и последователи Юма, и кантианцы слишком поспешно сводят основания действий к единственному паттерну (5). Нередуктивный анализ практического рассу261 ждения обладает преимуществом глубины и проливает свет на ситуации, представляющие затруднения в области морали в случаях действительно конфликтующих соображений. В настоящем случае это дает нам возможность интуитивно понять, что проблема «грязных рук» действительно сложна, и потому не стремиться решить ее наскоком. Начнем с более детального рассмотрения институциональных обязанностей. Роль спасателей — институциональная. На ее основании их ответственность состоит в бдительном наблюдении за купальщиками, находящимися в зоне их надзора. Мы имплицитно приписываем им эту ответственность всякий раз, когда считаем b) заключением о принятии обязательства, к которому должен прийти спасатель. Отметим, что правомерность моего умозаключения в b) не зависит от моего желания следить за купающимся, находящимися под моей опекой. Не зависит она и от моего желания быть или оставатьс, спасателем, то есть заниматься делом, которое влечет за собой ответственность. Быть спасателем значит иметь подобные обязанности. Когда я их признаю, я обращаюсь к умозаключениям типа b) для получения в качестве спасателя оснований для действия, независимых от моих желаний. Мы можем сделать умозаключение b) эксплицитным в форме утверждения о моих обязанностях в качестве спасателя. По мере необходимости обращение к языку ответственности позволяет нам опровергать либо оправдывать такое утверждение. Такая необходимость может возникнуть, например, в случае, если моя обязанность следить за купающимися вступает в конфликт с моим желанием уйти с пляжа (скажем, чтобы купить мороженое) во время работы. Однако также возможен и конфликт между самими обязанностями данного спасателя как спасателя. Профессиональные обязанности данного спасателя могут вступать в конфликт c его супружескими обязанностями либо обязанностями обещания. Главы государства занимают должность, подразумевающую уникальные обязанности. Если в наших глазах они бы не отвечали за защиту людей от серьезного вреда, тогда проблема «грязных рук», с которой они время от времени сталкиваются, не привлекла бы нашего внимания. Если следовать простой логике, то проблемы «грязных рук» применительно к высокопоставленным должностным лицам вообще не существовало бы. Если цель по достижению превосходства добра в его балансе со злом в результате наших действий требовала бы от каждого, независимо от его роли, сделать все необходимое для преследования данной цели, нам не надо было бы рассматривать за262 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ труднения политического лидера как отдельный, с точки зрения морали, случай. Если эта проблема и заслуживает отдельной главы в этике демократии, то только потому, что лица, занимающие высокие посты, в известном смысле уникальны. Они не похожи на нас, поскольку несут официальную ответственность за применение власти от имени народа ради его благосостояния и выживания. Благодаря занимаемым постам они обладают властью и ответственностью, которыми остальные не владеют. Их обязательства зачастую приводят к непростым решениям. Такие непростые решения вынуждают их применять власть таким образом, что их руки оказываются «запачканы». Самые очевидные апелляции к необходимости в подобных случаях происходят с должностными лицами, которые имеют право заявлять, что они должны сделать нечто плохое тогда, когда обязаны выполнить свой профессиональный долг по защите людей. Если оправдание необходимостью недостаточно убедительно и действительно не найдено альтернативных средств, вопрос заключается в том, имеют ли право в такой ситуации должностные лица выполнить соответствующий долг, причиняя зло как необходимое средство достижения цели. Проблема в том, что воздерживаясь от совершения чего-то плохого, они знают, что таким образом оставят долг невыполненным. Спасатели несут ответственность за жизнь купальщиков. Но, предположим, я исполняю подобные обязанности и замечаю купальщика, в третий раз идущего заняться экстремальным серфингом. Предположим затем, что пожилой человек в инвалидной коляске не по своей вине перегораживает мне путь на мол. Я знаю, что единственный способ спасти купальщика — сильно оттолкнуть коляску в сторону, так что есть возможность причинения вреда пожилому человеку. Не сомневаюсь, что это будет плохо по отношению к пожилому человеку. Однако если я воздержусь от этого, я буду ответственен за смерть купающегося, предотвращение которой и входит в мои обязанности. Что же мне делать? Случай искусственен и абстрактен. Спасатели не часто сталкиваются с подобными случаями. Так что хотя он и является хорошей иллюстрацией того, как ролевая ответственность может вступать в конфликт с другим основанием действий, наша концепция обязанностей спасателя не становится каким-либо руководством для фактических действий. Затруднительные ситуации подобного рода обычно оставляют на усмотрение спасателя. От попавшего в такую ситуацию спасателя требуется адекватно оценить тяжесть возмож263 ного вреда, который может быть нанесен пожилому человеку при отталкивании его инвалидной коляски с пути спасателя, сопоставив это с опасностью, угрожающей тонущему купальщику. В особенности, если вред, наносимый пожилому человеку, вероятнее всего, незначителен, оправдание чрезвычайностью ситуации будет принято. Некоторые затруднения, с которыми имеют дело политики, как раз такого рода. В их обзор входят умышленное причинение кому-либо относительно незначительного вреда ввиду непредвиденных необычных обстоятельств, при которых утверждения выносятся на основе решения вопроса жизни и смерти. Мы готовы воспринимать вред, полученный в таких случаях, как прискорбный, но соразмерный. Мы бы не хотели, чтобы спасатели или главы государств были слишком щепетильными, когда, при необходимости, следует делать что-то подобное. Рассмотрим другой сходный случай. Ролевая ответственность католического священника состоит в сохранении тайны исповеди. Он также обязан, как гражданин либо резидент, передавать полиции информацию, способную помочь предотвратить совершение преступления. Предположим, он обладает такой информацией, но отказывается предоставить ее, потому что получил ее во время исповеди. Католики не оставляют решение подобных случаев на усмотрение священника, находящегося в курсе обстоятельств. Вместо этого они посчитали необходимостью максимально исчерпывающе систематизировать свои представления о роли священника в каноническом праве и моральной теологии. Кодекс римскокатолической церкви отдает ответственности священника по сохранению тайны исповеди абсолютный приоритет по отношению к другим обязанностям. Согласно ему священник, не выполнивший данное обязательство, непременно признается виновным. Священник, который при выполнении данного обязательства удерживает информацию, в которой нуждается полиция для предотвращения серии убийств, не признается ответственным за убийства, в случае если они имеют место. Ему не вменяется вина за последствия такого умолчания, даже если он имеет все основания ожидать их происшествия (6). Имеет смысл наделить должностных лиц некоторыми дискреционными полномочиями на наносящие вред действия, если подобное действие можно считать вредным лишь в смысле причинения кому-либо вреда в незначительной степени и если оно является необходимым средством для достижения насущной цели при выполнении важной официальной функции. Когда, однако, несправедли264 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ вость или вред подразумевают настоящую жестокость, мы гораздо менее охотно даем такие дискреционные полномочия властям или спасателям. Когда нечто плохое оказывается еще и ужасным, гораздо более вероятно предположить, что вторая часть дилеммы происходит от обязательства, не только свободного от определенных ролей, но также обладающего абсолютной принудительной силой. Политические официальные лица — прежде всего граждане и люди, а затем уже лидеры, берущие на себя определенную ответственность. Если существуют действительно безусловные обязанности, то они, по определению, относятся к лидерам не в меньшей степени, чем ко всем остальным. И если некоторые из этих обязанностей стоят выше любой ролевой ответственности, с которой они могут вступать в конфликт, тогда есть вещи, которые политические лидеры совершать не могут, независимо от обстоятельств. Никто, даже политик, не имеет права совершать ужасные вещи. Католический кодекс налагает абсолютный запрет на разглашение тайны исповеди, таким образом позволяя обязательствам священника превалировать над общегражданским обязательством сообщить полиции информацию, способную помочь в предотвращении серьезных преступлений. Аналогичное решение проблемы «грязных рук» означало бы, что обязанности политического деятеля по защите людей при определенных обстоятельствах доминируют над обязанностью воздержаться от действий, признаваемых абсолютно неприемлемыми при их совершении обычными людьми. Католическое обоснование конфиденциальности исповеди заключено в священном статусе исповедующегося, принятом в католической теологии. Никто, виновный в тяжких преступлениях, не исповедовался бы в подобных грехах священнику, не связанному таким кодексом. Самое убедительное демократическое объяснение параллельного решения проблемы «грязных рук» состоит в утверждении, что в чрезвычайных ситуациях худшим для политического лица будет позволить людям погибнуть в руках врагов (7). Было бы глупо настаивать на том, что ложь или взятка не будет оправдана, если это требуется лидеру, чтобы вывести свой народ из тяжелой ситуации. Но что можно сказать о действиях, на которые выдающиеся демократические мыслители часто указывают как на худшее, на что способны люди по отношению друг к другу: применение пыток или убийство невинных граждан? Можем ли мы не согласиться с тем, что все мы обязаны воздерживаться от подобных действий, независимо от наших ролей и степени чрезвычайности того или иного момента? Если наш ответ на последний вопрос «да», мы 265 тем самым относимся к обязанности избегать совершения морально неприемлемых поступков как к безусловной, приоритетной по отношению к другим обязанностям политического деятеля. Об этом я хотел бы поговорить и далее в окончании данной главы. Во-первых, я затрону тему безусловных обязательств, а затем рассмотрю, что же происходит, когда одно «следовало бы» отменяет другое. ]A &( ]­A¥ << (&­ ¤<' <) <¥( Безусловные обязательства, в моем понимании термина, универсальны в том смысле, что они не являются ролевыми, или как-то иначе ограниченными рамками определенной группы. Некоторые философы сомневаются, что такие обязательства существуют. Они относятся к вере в долг такого рода, как к нежелательному побочному продукту того, что Гегель в «Феноменологии духа» осудил как кантовское Moralitat (мораль) — шаткую и абстрактную точку зрения, которую он противопоставлял «этической жизни» или «субстанции» дорефлексивного обычая, или Sittlichkeit (нравственность). Если я позволю себе перевести категории Гегеля на язык терминологии Брандома, дорефлексивное этическое сообщество относится к фактическим умозаключениям типа а) и b) как к правильным, но лишенным выразительных ресурсов для конструирования данных типов умозаключений в виде утверждений. Такому объединению также недостает умозаключений типа c), а значит, оно даже имплицитно не признает безусловные обязательства. В Sittlichkeit ни одно обязательство не выражено эксплицитно, в форме оспариваемых утверждений, и любая имплицитная обязанность является обязательством определенного статуса, а не человека как такового. Этическая жизнь такой общности формируется отчасти материально-фактическими умозаключениями, принимаемыми как правильные, то есть тем, что общество делает. Однако оно не способно на этапе Sittlichkeit отразить адекватность данных заключений из-за отсутствия понятий, выразительных ресурсов, необходимых для того, чтобы воплотить их в форме утверждений. Студенты курса этики иногда отмечают, что до определенного периода в древних языках нельзя найти выражений, обладающих смыслом наших выражений «нравственного долженствования», и там едва ли находятся упоминания о желаниях как оснований действия. Это именно то, к чему вели Брандом и Гегель, — к тому, что фактическое рассуждение начинается с имплицитного признания матери266 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ альных умозаключений и со временем развивается в направлении их эксплицитной артикуляции в нормативном словаре, применимом к критической рефлексии. Гегель утверждает, что имплицитно допускаемый конфликт, в котором участвуют ролевые обязанности, направляет фактическое рассуждение к эксплицитности. Католическое учение о конфиденциальности исповеди — лишь один пример следствий такого движения. Другие сообщества реагируют на сходные конфликты иначе. Поворотным моментом в «Феноменологии» является описание Гегелем древнегреческой трагедии как драматического средства репрезентации конфликтов, затрагивающих ролевые обязанности. Нормы нравственности (Sittlichkeit) в фактических заключениях людей оказываются имплицитными. Они этически непосредственны в том смысле, что в фактическом рассуждении, протекающем при данных обстоятельствах, не используется эксплицитная формулировка правил. Однако как показывают трагедии Софокла, в частности «Антигона», возникновение конфликтов неизбежно. Роль Креонта как политического лидера включает ответственность за правильное управление государством. Роль Антигоны как сестры Полиника включает ее обязанность похоронить тело брата после его смерти. Два обязательства вступают в трагический конфликт, когда Креонт для блага государства приказывает, чтобы тело Полиника было отдано на растерзание псам и стервятникам. Софокл показывает читателю, что именно порождает конфликт, побуждая к размышлению такого рода, в котором не присутствует ни один из главных героев (8). Размышление о таком спектакле позволяет аудитории прийти к заключению, что ролевые обязанности могут вступать в конфликт не только при наличии двух людей, исполняющих различные роли, но и в одном человеке, выполняющем долг перед семьей и перед государством. Начавшись, подобная рефлексия, однако, быстро развивает свои выразительные ресурсы, позволяющие действующим лицам принимать ответственность не только за свои действия, но и за эксплицитные утверждения о том, в чем заключается их ответственность, и о том, как эта ответственность должна пониматься. Эти утверждения очень уместны в качестве оснований для действий, но, по сути, они также подвержены потенциальным опровержениям в той мере, в какой от них требуются обоснования. Нормы, которые Креонт и Антигона рассматривали как данность, таким образом, включаются в сферу ответственности. И сегодня индивид будет считаться ответственным за то, что он отнесся к эксплицитной формулировке этих норм как к основа267 нию для действий. Считать кого-либо ответственным, таким образом, означает требовать обоснований эксплицитно признаваемых им норм (9). В современной демократической культуре требования такого рода уже стали повседневными. Трагедия, закон, риторика, логика, диалектика и демократия — все это говорит о необходимости создания выразительных ресурсов, требуемых для рефлексивного дискурса о нормах. Критическую дистанцию от нормативного наследия культуры, возможную благодаря данным ресурсам, также может испытывать как форму отчуждения от ролей и обязанностей человека. В самой крайней форме это отчуждение представляет Moralitat (мораль), условия, в которых моральная рефлексия, однажды вызванная конфликтами, связанными с социально признаваемыми ролевыми обязательствами, вынужденно становится совершенно независимой от этической жизни людей. Согласно Брандому, это потребует попыток мыслить нормативно, без всякой помощи со стороны материальных умозаключений, при которых обязательства, в данный момент подвергающиеся критическому исследованию, были изначально имплицитны. Гегель проницательно замечает, что попытки подобного рода не увенчаются успехом, так как только этическая жизнь людей. То, что люди делают рационально (на основе умозаключений), может дать реальное содержание изучаемым нормам (10). Консервативное гегельянство (правое крыло) определяет идеалы современной демократии в отсутствие морали (Moralitat), что копируется современными коммунитарианцами и традиционалистами, заинтересованными в критике современной демократии во имя предсовременной нравственности (Sitllichkeit), что должно выставить понятия справедливости, прав и приличия, центральных для современных демократических культур, в дурном свете и, в целом, как неподходящие для выполнения дискурсивных ролей, им предписанных. Демократия здесь описывается в духе Бёрка, как, в сущности, деструктивная сила, направленная против этической жизни традиционных культур. Такое развитие противопоставляет безусловные обязательства чисто практического интереса ролевым обязанностям традиционной культуры. Демократические идеалы диагностируются в качестве симптомов обреченной на провал попытки подняться над нравственными (sittlich) сообществами или традициями по направлению к универсальной истине (разуму). Но при таком истолковании морали истории в понимании Гегеля происходит опасное смешивание. Обязательство может быть универсальным в смысле применения (как мы увидим) к каждому, 268 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ не требуя предположительно общепринятой точки зрения (полностью независимой от этической жизни людей) для своего оправдания. Эти два значения универсальности, по сути, различны. Обязательство, которое мы приписываем каждому, обладает тем, что Ролз и Рорти называют «универсальным отношением». Но обязательство, универсальное в этом смысле, не нуждается в том, что Рорти называет «универсальной силой» (11). Наиболее многообещающей защитой безусловного обязательства, не предполагающей моральных ужасов, было бы честное признание его экспрессивной функции в этической жизни демократического народа. Это значит, что оно будет стараться сделать эксплицитной норму, которая уже имплицитно содержится в фактических умозаключениях сообщества, демократично обменивающегося соображениями (12). Став эксплицитной, норма автоматически превращается в объект критического наблюдения, поскольку она принимает форму утверждения, основания для которого могут быть затребованы. Источники материальных дедуктивных характеристик, выразительные ресурсы для выработки эксплицитных норм и практика обмена доводами, требованиями обоснованности в глазах сограждан, в целом, составляют дискурсивное ядро демократической культуры. Демократия отнюдь не сводится к независимому набору институциональных соглашений и абстрактных норм, по своей сути противостоящих культуре, — она сама по себе является культурой. Демократические нормы являются ее экспрессивной реализацией. Эти нормы позволяют нам задавать конкретные вопросы: должна ли существовать роль хозяина, можно ли женщинам становиться политическими лидерами и следует ли вообще приписывать определенные обязательства тем, кто выполняет какую-либо роль? К счастью, такие вопросы мы задавать можем. Мы признаем, что не каждому понятны наши нормы. Но это вовсе не причина полагать, что такие нормы не могут включать безусловные обязательства. Существует определенное различие между теми, кому демократы приписывают обязательства, и теми, кто, как сами демократы, принимает их на себя либо приписывает их другим. Безусловное обязательство есть обязательство, относящееся к каждому, независимо от его роли. Но это оставляет открытым вопрос о том, признает ли каждый гражданин обязательство, приписанное таким образом. Здравомыслящие демократы понимают, что не каждый примет нормы, которые признают они сами. Не будет парадоксальным предположить также, что некоторые из этих норм применимы даже к тем людям, которые их не признают. 269 Если я говорю, что никто не имеет права мучить другого человека, то признаю обязательство и приписываю его всем остальным. Это не требует привлечения утверждений о том, что каждый признает. Истязателям, признающим данную норму, будут свойственны скрытность, нечистая совесть и лицемерие. Другие же истязатели, однако, смогут открыто заниматься своим грязным делом, с чистой совестью и в неведении нормы, которую признаю я, и ее оснований, которые я бы предложил. Неведение последней группы может быть преступным или нет, в зависимости от обстоятельств. Вообразим монаха, орудующего дыбой во времена испанской инквизиции. Предположим, он был совершенно незнаком, не по своей вине, со множеством соображений, которые привели меня к осуждению пытки. (По крайней мере, это можно вообразить. В данный момент нас занимает не история.) Основанием для заключения о том, что неведение монаха действительно не является преступным, является то, что он по назначению использовал данные понятия и нормы, имевшиеся в его распоряжении, — все факторы, различающиеся в зависимости от культурного окружения. Я в меньшей степени склонен оправдывать современного «правого» диктатора, истязающего политзаключенных, при случае высказываясь о чрезвычайности ситуации, и сжигающего книги своих демократических оппонентов, когда ему только вздумается. Если он и не в курсе оснований для осуждения пытки, все же он, вероятнее всего, виновен. Поддержка безусловного обязательства в целях предотвращения пыток означает признание подобного обязательства для себя и его распространение на всех граждан. Признание подразумевает отношение к схеме заключения: «Пытать X было бы жестокостью, поэтому я воздержусь от пытки X» — как к материально истинному. Приписывать обязательство всем остальным потребует отнестись к жестокости пытки как к основанию, которое даст возможность любому из нас воздерживаться от пытки людей. В примере с воображаемым монахом, однако, различия между моими и его сопутствующими обязательствами усложнят вопрос. Безусловная норма, которую я поддерживаю, предполагает, что монаху не следует пытать людей. Но говоря так, я не утверждаю, что ему было доступно основание, признаваемое мной как решающий пункт возражений против пытки. Когда я указываю на жестокость как на то, на основании чего следует воздержаться от пытки, я предлагаю каждому основание и имплицитно выражаю уверенность в своих основаниях, признавая данное основание. Но, говоря все это, я не упускаю из вида этические обязательства в свете моих второстепенных умо270 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ заключений (обязанностей) (MIE, гл. 3). Я говорю о том, от чего каждый должен воздержаться. Я говорю каждому, что он должен воздержаться от того-то. Но я говорю исходя из моей собственной социальной перспективы, используя основания и вспомогательные обязательства, естественные для моего окружения (13). Мне не надо предполагать, что монах (учитывая его социальное положение) на самом деле будет способен признать силу признаваемого мной довода. Такой довод, возможно, существует, и он будет решающим, будучи помещенным в контекст моих вспомогательных утверждений, даже если монах или кто-то другой не имеют оснований относиться к нему как к доводу (14). Проблема может стать более понятной, если мы ее проиллюстрируем. Норма — это разрешение делать умозаключения определенного рода; в данном случае умозаключения, соответствующие схеме, упомянутой в предыдущем абзаце. Поддержать норму, предполагающую безусловное обязательство, значит выдать разрешение каждому делать умозаключения подобного рода. Но давая такое разрешение, то есть предлагая основания, власть которых признаю я сам, я не предполагаю, что люди вне моего собственного дискурсивного окружения смогут им воспользоваться. Даже если они случайно поймут его, то могут не осознать, что оно является разрешением, и признать его силу. Такое разрешение есть дар любому человеку, даже если я понимаю, что люди, которым недостает чего-либо вроде моей концепции жестокости, вряд ли воспользуются ею. Ее доступность и сила проистекают от умозаключений, присущих моему окружению, не из чисто практических умозаключений. Оно универсально лишь в одном смысле. Существует простой путь уклониться от проблемы путем переопределения безусловного обязательства как разнообразия ролевых обязанностей. Вместо того чтобы говорить, что безусловные обязательства применяются ко всем, мы могли бы сказать, что они применяются по отношению ко всем носителям (на демократической основе) роли пользователя норм. Таким пользователем является каждый, обладающий выразительными ресурсами для обмена мнениями «за» и «против» эксплицитных нормативных требований. Тогда можно увидеть, что демократы стремятся мобилизовать на эту роль кого только могут: молодых — путем образования, иностранцев — предлагая им доводы и спрашивая доводы с них, мертвым — представляя себе разговор с ними. Но роль неразрывно связана с обязанностями; мы приписываем роль и обязанности вместе. Некоторые из этих обязанностей дискурсивны; они имеют отноше271 ние к правомерности специфики рассуждений о нормах. Другие накладывают ограничения на возможные действия. Идея о том, что мы свободны приписать эту роль и сопутствующие обязанности людям вне нашей собственной культуры, озадачивает не более чем римское обозначение кого-либо как варвара или еврейское обозначение неиудеев. Это просто наш путь начала процесса по организации их ответственности перед нами и нашей ответственности перед ними. Древние, основывавшиеся на морали культуры, видели свои пути того, как справиться концептуально с людьми, не являвшимися друзьями, соседями или членами семьи. Они называли их чужаками либо врагами — ролями, дифференцировавшимися друг от друга наличием либо отсутствием враждебного поведения, когда каждому приписывались некие отличительные ролевые права и обязанности. Чужак, плюнувший на сандалии местного уроженца и официального лица, нес бы ответственность за совершенный акт. Если оскорбление казалось достаточно серьезным, виновный мог быть переквалифицирован во врага с соответствующим изменением в отношении к нему. Плевок в этом контексте может обернуться санкцией на то, что мы могли бы назвать уже несоразмерной ответной реакцией. У нас есть свои способы заставить отвечать врагов или чужаков. Один из них состоит в предписывании им обязательства избегать пытки людей. Чужаки и враги, как и все остальные, используют нормы. Поэтому мы оказываем давление с целью предоставления оснований и другими разнообразными путями заставляем их ответить за жестокости и нарушения правил благопристойности. Далее продолжение дискуссии предполагает, что можно поддерживать безусловное обязательство и одновременно соглашаться с Гегелем в отбрасывании исключительно практического основания. Поскольку понятие чисто фактического основания, употребляемое мною в уничижительном, гегельянском смысле, есть чисто фактическое основание, действующее независимо от этической жизни людей. Приписывая таким людям, как монах и диктатор, обязательство избегать пыток, я не принимал точку зрения чисто фактического основания в этом смысле. Но, по крайней мере, в случае с диктатором я начал процесс, направленный на расширение моего собственного дискурсивного окружения, а значит и включение его как нормативного сопользователя, то есть лица, от кого я могу потребовать отчет за его действия, и как того, кто мог бы привлечь к ответственности меня за мои. Безусловное обязательство избегать пытки, к которому я его призываю, имеет два последствия. Это вывод из умозаключений, имплицитных для 272 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ наших собственных практик, которое таким образом легко устоит перед критикой в обществе компромиссов демократического дискурса. Каждый, кто овладел необходимым нормативным словарем, конечно, может сопротивляться норме, подвергая сомнению наше право на него либо представляя доводы против него. Мои примеры приводят к другому достойному упоминания затруднению. Существует не один способ следовать норме. Самое очевидное — признать ее путем эксплицитного заявления или же имплицитно, с помощью действия. Но я могу следовать норме, вытекающей из других сделанных мной обязательств. Когда я признаю нормативное обязательство, это признание непосредственно подразумевает другие обязательства, которые я имплицитно буду предпринимать, осведомлен я о них или нет. Вместе с моими изначальными убеждениями и практическими обязательствами новое обязательство предполагает еще больше, и я также буду имплицитно его принимать. В этом случае выведенная путем умозаключений значимость признаваемых мной нормативных обязательств может легко превзойти мою осведомленность (15). То же относится и к монаху, и к диктатору. Как следствие, возможно, монах и следует обязательству, не зная о соображениях, лишающих его того, что является, с его точки зрения, правом истязать людей. Рудименты моей концепции жестокости могут уже быть в наличии среди непризнанных обязательств, ожидающих, так сказать, формулировки и структурирования. Если так, тогда в конце концов, может быть, у него было довольно серьезное основание, благодаря которому он имел претензии к моему основанию отрицания пытки. Относительность права в связи с контекстом необязательно освобождает от ответственности определенного истязателя, незнакомого с эксплицитным выражением демократических норм и утверждений (а потому невиновного в силу его нравственной неосведомленности). Снимается ответственность или нет, в данном случае мы можем сделать выводы, если это вообще возможно, только с помощью тщательного исторического исследования и постоянного критицизма. Но даже если наш монах оказывается ответственным и признается виновным, ввиду пренебрежения фактом незнания, для его привлечения к ответственности не будет достаточно призвать лишь чисто фактическое основание. Заключая, что пытка идет вразрез с некоторыми его собственными непризнанными обязательствами, мы все еще будем обращаться к этической субстанции культуры, в частности, признаваемой им самим культуры. Нам не надо предполагать, что каждый вступающий в фак273 тическое рассуждение — либо кто вступает, как сказал бы Хабермас, в коммуникативные акты — имплицитно принимает на себя обязательство следовать нормативным заключениям, которые демократ хотел бы видеть отстаиваемыми эксплицитно. ¤&¦¶ ]­A¥ &)· § ( В предыдущем разделе обсуждается идея безусловного обязательства избегать некоторых чудовищных поступков, то есть ужасающих действий, таких как истязание людей. Однако этот анализ не решает проблему «грязных рук». Ее первая цель — сфокусироваться на проблеме как на конфликте между ответственностью, которую мы приписываем тем, кто исполняет определенную роль, и обязательством, приписываемым каждому. Вторая цель — показать, что даже последнее может скорее быть интерпретировано как выражение обязательств, имплицитных в демократической культуре, чем как теорема в трансцендентальной философии. Остается вопрос: какая из этих двух норм отменяет другую в случаях, когда политическое должностное лицо не может выполнить обе? (16) В этом вся суть проблемы «грязных рук». Первым делом следует уточнить, отличается ли вопрос об отмене одной нормы ради другой от вопроса об их статусе как ролевых либо безусловных. В католическом кодексе, как мы видим, ответственность священника в отношении сохранения тайны исповеди отменяет общую для всех нас обязанность информировать при определенных обстоятельствах полицию. Совершенно логично предположить, что ролевая обязанность может преодолевать безусловное обязательство и наоборот. Причиной этого является то, что различие между ролевыми и безусловными ограничениями не имеет никакого отношения к вопросу о том, насколько важными являются эти ограничения, с тем, как и почему нам важно, чтобы они выполнялись. Суждения о том, отменяет ли одна норма другую, выражают обязательства об относительной важности сравниваемых норм. В теории обязательство может быть и безусловным, и тривиальным. Однако проблема «грязных рук» актуальна сама по себе, поскольку очевидно, что обе стороны проблемы крайне важны большинству демократических граждан, и поскольку мы приписываем важность обеим проблемам отчасти с разных точек зрения. Упорство католиков в сохранении тайны исповеди отражает лежащую в его основе убежденность в важности исповеди в системе таинств в связи со спасением душ от проклятия (17). В самых общих 274 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ чертах обязательство католиков, приписываемое каждому, не должно быть более важным, чем ответственность, которую они приписывают человеку, исполняющему определенную роль. Но католицизм смотрит именно с самой общей точки зрения. Эта точка зрения оправдывает решительную позицию в вопросе о сохранении тайны исповеди, а потому и по проблеме «грязных рук». Но современная демократическая культура, в отличие от этого, не обладает лишь одной точкой зрения на вещи, она оставляет пространство, в котором можно иметь — и в соответствии с которыми можно действовать — много подобных точек зрения. Она не пуста, бессодержательна в том смысле, в каком Гегель считал нравственность (Moralitat), поскольку этическая жизнь демократических стран явно связывает их с важностью таких вещей, как жизнь людей и достойное обращение с другими (18). Однако это не влечет за собой единственно возможную классификацию важнейших вещей, так как большинство граждан договорились о возможных разногласиях по вопросам крайней важности. Пока они не способны решить эти вопросы в ходе рационального обсуждения и не ожидают подобного в ближайшем будущем. Таким образом, они готовы предоставить друг другу значительную свободу в их решении (19). Они не могут решить, какое из их самых важных моральных убеждений наиболее важно для них как для общества. (Все согласны, что бомбить мирное население чрезвычайно плохо, но не все думают, что подобный ужас будет, буквально говоря, непростителен при любых обстоятельствах.) Поэтому совсем не удивительно, что мнения разойдутся и по проблеме «грязных рук», так что проблема останется для них актуальной. Неудивительно и то, что это один из вопросов, по которым некоторые граждане будут морально вынуждены публично выразить свои религиозные взгляды. Вопросы об относительной важности крайне важных ценностей для многих настолько тесно связаны с религиозными убеждениями, что эти люди будут в затруднении защитить свою точку зрения без употребления подобных убеждений как таких предпосылок (20). Это очень серьезный довод против любой теории, предлагающей исключить выражения подобных предпосылок из публичной сферы. Это вещи, о которых мы должны говорить друг с другом, даже рискуя вызвать конфликты, неловкость и запинки. Что до меня, то я стремлюсь принадлежать к обществу, которое бы относилось к совершению таких ужасных действий, как намеренная бомбардировка гражданского населения, как к непростительным даже в ситуациях, когда подобная тактика при определен275 ных обстоятельствах может считаться необходимой для ограждения от террористической угрозы. Боюсь что-либо меньшее, чем абсолютный запрет подобных действий, не избавит от искушения совершать морально ужасные поступки в ситуациях, которые лишь в определенный момент кажутся чрезвычайными. Так что я беспокоюсь, что поддержка разного рода исключений для «чрезвычайщины» ослабит демократическую культуру, подрывая ее способность неуклонно вести подлинно демократическую политику. Я также готов терпеть при случаях чрезвычайной ситуации. Общество, решительно убежденное избегать причинения нравственно неприемлемых страданий, скорее развалится, всерьез отнесясь к этому, как к неприкосновенному правилу, чем выживет, заранее позволив своим лидерам совершать подобные акты от его имени в случае чрезвычайной ситуации. Я бы стал защищать подобные взгляды как удачное выражение, передающее важность, которую нам следовало бы приписать людям как уникальным, незаменимым личностям, способным любить, обмениваться мнениями, сожалеть о проступках и страдать. Насколько я понимаю, суть заключается в том, каким народом мы собираемся быть; это вопрос самоопределения и честности. Вопрос также в том, чем мы больше дорожим, что полагаем священным, верховной или неприкосновенной ценностью, а не в желании остаться чистенькими (21). Я не ожидаю, что смогу изменить умонастроение тех, кто чувствует, что в условиях нынешней чрезвычайной ситуации им следует придавать больше важности выживанию людей, чем их идентичности и целостности как сообществу, стремящемуся изъять нравственные ужасы из списка дозволяемых политическим средств (22). Не думаю я также, что философия обладает средствами для дискредитации как иррациональной абсолютной неприемлемости ужасных поступков или готовностью предоставлять отдельные исключения. И хотя я надеюсь жить в обществе, разделяющем мои убеждения о нравственных ограничениях войны, я понимаю, что представляемая мной утопия требует от реальных моих сограждан гораздо большего, чем то, на что многие из них способны в условиях, когда им угрожают потенциальные террористические атаки. Более того, одной из важнейших вещей для меня является то, что я живу в обществе, где я могу решать, что является самым важным для меня, и то же могут делать остальные. Таким образом, существуют границы, пределы, до которых я готов идти, чтобы прийти к согласию относительно самых важных в моральном отношении проблем. 276 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ Но у меня все еще вызывают протест бомбардировка гражданских целей, пытки заключенных и разные другие вещи, на которые мое правительство выдает санкции либо спокойно созерцает. Поэтому я неизбежно вступаю в жесткие трения с теми из моих сограждан, которые сегодня позволяют нашим лидерам, хотя и при неких условиях, делать ужасающие меня вещи. Жить в подобном конфликте и напряженности нелегко, поскольку это граничит с соучастием в ужасных вещах. Вот почему Торо, проникновенный современный демократ, так часто символически отрекался от своей страны. Для того чтобы испытывать подобные переживания, даже не требуется быть сектантом. Увы, современный демократический дискурс не продвинулся далее предыдущей договоренности о том, как наиважнейшие ценности должны классифицироваться, но при этом приглашает граждан к выражению оснований своих обязательств по важным общественным вопросам; демократическая культура порождает неуверенность даже у своих защитников. Искушение сектантов заключается в том, чтобы позволить неуверенности, им присущей, превратиться в отчуждение, которое только усугубит положение. Сектанты предлагают отойти от более широкого сообщества дискурса, будучи убеждены в том, что даже обмениваться доводами и требованиями оснований с теми, кто не разделяет их взглядов, было бы навязыванием их обязательств в отношении предметов крайней важности. Я только что изобразил дебаты вокруг проблемы «грязных рук» в эпоху терроризма в качестве аргумента относительной важности, которую следовало бы приписывать двум конфликтующим, на первый взгляд, ответственностям, одна из которых является ролевой, другая — нет. Но было бы неверно оставлять впечатление, что рассуждение по данному вопросу в рамках таких религиозных традиций, как иудаизм, христианство и ислам, порождено неуверенностью в том, насколько весомы интересующие нас первоначальные обязанности. На деле же на протяжении истории всегда или очень часто рассуждения в данных традициях велись совсем иначе. В рамках данных традиций доминирующая важность обязанности избегать совершения некоторых видов несправедливости зачастую воспринималась как само собой разумеющееся, так что проблема «грязных рук» даже не возникала. Для тех, кто придерживался вытекающих из нее форм абсолютизма, фактическое умозаключение обычно начинается с классификации действий как, по сути, запрещенных либо недопустимых, так что «взвешивание» относительной важности конфликтующих обязанностей действует эксплицит277 но лишь при действиях, подпадающих под последнюю категорию (23). Одним из самых глубоких беспокойств, которое современное демократическое общество, с точки зрения приверженцев такого абсолютизма, вызывает, является то, что данное общество не воспринимает абсолютистских обязательств как само собой разумеющихся, в качестве предпосылок, от которых отталкиваются любые фактические умозаключения, рассуждения. В данном контексте абсолютная приверженность справедливости или даже избеганию морально недопустимых ужасов означает обязательство, для которого основания постоянно требуются, — не предпосылка, с которой имплицитно все согласны. Это значит, что наш этический дискурс не приобретает те очертания, которые бы мы хотели увидеть. И пока это неизменно, проблема «грязных рук» остается с нами, при этом некоторые из нас, в лучшем случае, будут амбивалентны в смысле участия в общественной жизни. Не претендуя на решение проблемы «грязных рук» как таковой, я бы хотел в заключение предложить два контекстуально характерных аргумента, в целях наложения особо суровых ограничений на действия политических деятелей, втягивающих нас в борьбу с терроризмом. Первый аргумент прост и апеллирует к логике. То, что мы осуждаем в терроризме, как раз и является моральным ужасом, который он вызывает, — его умышленную направленность на гражданское население. Мы не можем оставаться последовательными, не заставляя наших лидеров следовать тем же стандартам поведения, которые мы применяем к лидерам Афганистана и Ирака. Если мы не готовы сделать исключений для наших врагов, то не должны делать их и для себя. Второй аргумент продиктован предосторожностью. Борьба с терроризмом ведется не только вооруженными, но и идеологическими методами. Мы вряд ли выиграем ее на идеологическом фронте, если не сможем убедить людей, стоящих перед искушением поддержать террористов, что мы не лицемерим, когда осуждаем угрожающий нам терроризм. Если мы проявим грубое безразличие по отношению к жизням невинных гражданских лиц или по этой причине намеренно разрушим законные демократические стремления других людей, чтобы защитить нашу собственную страну от терроризма, тогда наша страна отнюдь не будет выглядеть поборником справедливости и демократии. Исход такой борьбы во многом зависит от искренности и веры в наши идеалы и принципы, от того, как люди всего мира нас воспринимают. Мы победим, только 278 ^ 8. ¤<' < &¤( £§O A¤ если постепенно завоюем доверие таких людей. Мы сможем это сделать, только если докажем свою преданность нашим принципам даже в те моменты, когда крайне соблазнительно простить лидеров за их нарушения. Если нам не удастся достичь нравственных высот и оставаться там долгое время, мы проиграем идеологическую битву. А если мы ее проиграем, то поток рекрутов терроризма никогда не прекратится. 279 Глава 9. Появление современной демократической культуры ^ 9 ПОЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Современная демократия возникла вследствие самоопределения, в качестве своего рода революционной отправной точки по отношению к своим предшественникам и конкурентам. Ее сторонники часто заявляли, что, критикуя традиционные нравы и институциональные соглашения, они порывали с феодальным и клерикальным прошлым. Кто-то услышит эхо данного заявления в «Правах человека» Пейна, в «Доверии к себе» Эмерсона и во множестве менее значительных текстов. Заявления преувеличивают действительное различие. Современная демократия была в определенном смысле революционным разрывом с прошлым. Ее появление сплеталось с английской, американской и французской революциями, а использование ее ранними защитниками таких понятий, как права человека, на деле было инновацией. Но революционная риторика затемняет медленный, эволюционный процесс перехода, занявший несколько веков и еще продолжающий приносить результаты. Если не использовать ее с осторожностью, она также порождает и множество трудностей по поводу того, как найти разумные оправдания поборникам современной демократии, осуществившим множество внезапных изменений. Полный разрыв с традицией должен был потребовать либо трансцендентальной точки зрения, совершенно независимой от того, что я называю этической жизнью людей, либо точки зрения, столь резко порывающей с традиционным прошлым, что мы оказываемся неспособными спорить с ней. Я начну с краткого описания возникновения темы прав человека в современный период. Далее я рассмотрю некоторые заблуждения о том, что современная демократия уничтожает уважение к власти. Первые поборники (и оппоненты) современной демократии, делавшие эту идею основной, ошибались. Затем я обращусь к дебатам между Эдмундом Бёрком и Томасом Пейном по поводу Французской революции. Мой анализ данного спора приведет к изучению роли, 280 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( которую сыграла наблюдательная социальная критика в возникновении и развитии современной демократической культуры. Каждая часть главы что-то добавляет к тезису о том, что демократическую культуру лучше понимать как набор социальных практик, прививающих их участникам характерные привычки, отношение и поведение. Поскольку эти практики действительно подразумевают некоторое почтение к власти (как и сопротивление) и помогли добиться определенной стабильности, передаваемой от поколения к поколению, имеет смысл назвать их отдельной традицией. Но разрабатывая ее значения, мы выходим за пределы противоречий, естественных для Бёрка и Пейна. Это, я полагаю, и есть то, к чему так долго стремился американский прагматизм: антитрадиционалистская концепция современной демократии как традиция. ¥ §: < ­ Когда-то, когда еще существовали феодальные королевства, права в основном считались чем-то, что принадлежит отдельным людям, ассоциировавшимся с определенными ролями. Что значит права? Все права суть нормативные социальные статусы. Иметь статусное право значило иметь легитимные претензии к кому-либо ради достижения блага. В феодальном прошлом такие статусы определялись иерархически выстроенной организацией людей, каждый из которых обладал своим местом в предопределенном свыше порядке вещей. Поскольку изначальный социальный порядок считался божественно установленным, люди не были ответственны за определение существующих ролей. На вопрос о том, кто какие роли должен играть, также отвечали путем распознавания божественной воли. Иногда группа религиозных пуристов выдвигала требования всеобщей бедности и равного положения в обществе, но необходимость какой-то другой (меняющейся) иерархической структуры в основном считалась в порядке вещей. Имелось пространство для размышления в форме политической теологии, но такая рефлексия была направлена на закрепление неравенства существовавшего иерархического порядка. Обычно вопросы о правах в данных условиях были следующего рода: «Какие претензии вы можете законно предъявить тем, с кем вы связаны узами обязательств, при положении в обществе, данному вам и им Богом?» Вопрос предполагал, что изначальный порядок непреложен: принц, король, отец, мать, первенец, второй сын, дочь, простолюдин, батрак, бродяга, священник, епископ, па281 па и так далее. Уготованные вам роли означали вашу этическую идентичность, ваше призвание. Ваши роли и отношения, которые они подразумевали, определяли ваши обязательства. Отношения ролевого обязательства, в которых вы находились, определяли ваши права. В данном лингвистическом контексте «достоинство» было термином, связанным с поведением, присущим знатному человеку, такому человеку, которому редко приходилось просить или раболепствовать, действуя в рамках иерархически установленных отношений. Вообще в феодальную эпоху было два способа улаживания социального конфликта, который нельзя было разрешить, прибегая к политической теологии. Одним из них было физическое принуждение, при котором одна сторона насильно ставила другую в подчиненное положение в иерархии, другим — была покорность со стороны слабейшего, более мирно восстанавливавшая иерархическое равновесие. Однако со временем церковные советы начали нападать на многих католиков как на модели для более коллегиального, менее иерархичного осуществления властных полномочий в рамках церкви (1). И в некоторых странах, включая Англию, требования равных социальных и политических отношений, выдвигавшиеся протестантскими радикалами, привели к значительному успеху. Люди задавали все больше вопросов о структуре всего общества. Они начинали думать о самой организации как о чем-то, за что ответственна некоторая социальная группа, а не просто божественный источник всех вещей (2). Так, они начали задавать сложные вопросы не просто о том, скажем, может ли какой-то определенный монарх быть низложен, а какой-либо определенный священник расстрижен, либо можно ли почитать ту или иную даму, но о том, должна ли существовать такая роль, как, например, король, или священник, или леди. В «Правах человека» Пейн показывает, что в настоящем короли — лишь потомки «банды грабителей» минувших веков (3). В «Демократических далях» Уитмен замечает, что «вокруг слова леди чувствуется какая-то нездоровая и допотопная атмосфера» (4). Подобные ремарки постепенно сдвинули бремя доказательства, так что в наше время любой подтверждающий или предлагающий иерархически определенную роль должен нести это бремя в спорах, в которых возражения и протесты могут вносить все стороны. В случае спора нужно заявить, что мы собираемся уладить вопрос, если это вообще возможно, в ходе беседы. Мы не сможем просто допустить, что иерархия фиксированных ролей дана нам от природы. 282 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( Конечным результатом такого развития было создание того, что явилось новой основной ролью, — прав подающего претензии и принимающего обязательства арендатора. Эта роль отныне будет открытой для каждого, кто способен к изъяснению и имеет достаточно сил, чтобы слушать, избегать раболепства, действовать по зрелому размышлению, руководствоваться честными и оговоренными правилами и т.д. И еще есть ролевые права. Это значит, что существуют легитимные претензии, которые исполняющий роли может предъявлять для обладания благом, учитывая то, что ему причитается от исполнителей других ролей. Но теперь существуют также широко признаваемые права другого типа. Другими словами, существуют легитимные утверждения, которые можно делать от своего имени или от имени группы в те моменты в ходе дискуссии, когда иерархия существующих ролей и процедура приписывания ролей индивидам открыты любому воздействию. В этом смысле права суть статусы, задействующие легитимные требования социального соглашения определенного рода, устройства, способного гарантировать, «что ничьему обладанию рассматриваемым благом не помешают обычными, серьезными или поправимыми угрозами» (5). Лингвистическим новшеством было использование старого слова «права» для обозначения статусов, подразумевающих эти новые типы легитимных претензий. Параллельной инновацией (было и много других) стало утверждение, что каждый обладающий уровнем лингвистической компетенции и вежливости, необходимых для участия в обсуждении, обладает чем-то, называемым достоинством. В обоих случаях выражение «допотопность и нездоровая атмосфера», может быть, и прилипает к старому слову, но в итоге оказывается изгнано благодаря его новому употреблению. Современному феминистскому автору Аннетт Байер мы обязаны глубоким замечанием о связи современного разговора о правах человека с нежеланием просить. Вот отрывок из ее эссе «Требования, права, обязанности»: «Сам социальный аппарат господства избегает взаимно невыгодного соперничества, но он дорого обходится управляемым. Различные ритуалы почтения, вымаливания и реакции на прошения снижают эту цену. Мы народ, признающий статус (и таким образом избегающий войны всех против всех) и имеющий строго ограниченное желание как просить, так и давать тем, кто просит. Условия формы человеческого правосудия, признающего универсальные права, включают не только умеренную нехватку, чувствительность к возмущению своих собратьев, а также ограниченное 283 великодушие, отмечаемые Юмом, но также и ограниченную готовность умолять, сильное нежелание просить, даже если бы мы действительно просили у властей милостыни, — возможно, нам это и дадут. То, что мы считаем своим по праву, есть то, что мы не желаем просить либо желаем лишь в пределах, когда можем сказать «спасибо». Кажется, мы все меньше хотим и просить, и давать просителям. Усиливающаяся тенденция говорить о всеобщих правах и расширение их содержания соотносятся с падением способности просить» (6). Байер не защищает правовой дискурс в обычном, теоретическом, метафизическом смысле. Она не предъявляет чрезмерных претензий от имени такого дискурса и старается не говорить о том, что права менее важны, даже в рамках нашего современного морального дискурса, чем обязанности. Более того, она открыто анализирует проблемы, которые могут встретиться при разговоре о правах человека, особенно когда его не дополняют другими этическими и политическими понятиями. Но, как мне кажется, у нее есть ясное представление о том, что такой разговор значит для нас. Проблемы возникают, если мы ожидаем от такого разговора слишком многого. Когда приходит время для оценки характера, например, мы должны говорить о добродетелях и пороках, а не о правах. Но есть и другие лингвистические задачи, трудноразрешимые, если разговор о правах не ведется на языке граждан стран современной демократии, а именно, законные требования таких предметов, которые не являются лишь побочным продуктом ролевых обязанностей других людей. Макинтайр предложил отказаться от таких разговоров о правах в пользу более старого нравственного словаря, сфокусированного в основном на добродетелях. В защиту этого предложения он утверждает, что вопросы о правах, по существу, произвольны и нет смысла предполагать, что основные человеческие права существуют (7). Вера в права, как он заключает, одного порядка с верой в единорогов. Практическая озабоченность такими предложениями может быть выражена вопросом: «Когда власть имущие пытаются запугать нас или подавить, что нам тогда делать? Просить?» В демократической культуре просьбы и некоторые другие выражения почтения оказываются реакцией, неподобающей человеку или гражданину. Язык прав возникает в такой культуре как альтернатива выпрашиванию с одной стороны и некоторым видам принуждения, как, например, пытка и религиозно мотивированная борьба с другой. Но он возникает не один. Его сопровождает значительное 284 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( изменение в характерных чертах, открытых для поощрения или порицания. Носители такой культуры не прекращают говорить о добродетелях. Но гораздо более вероятно, что они смотрят благосклоннее, по сравнению со своими предками, на те черты в простом народе, которые позволили бы им выстоять перед властями предержащими и участвовать в практике предъявления требований и их обоснований. Их участие, в свою очередь, требует от них уважения к другим требующим и готовность следовать основаниям, к которым они приходят в процессе дискуссий. Одним из важных основных ограничений в данном контексте является то, что каждый удовлетворяющий минимальным условиям быть способным к речи и оставаться цивилизованным человеком заслуживает быть выслушанным. Если мы можем избежать отношений подчиненности, выводы, к которым мы придем, дадут нам некоторую надежду на то, что к ним отнесутся как к требованиям сограждан (возможно, легитимным), а не прошениям. Добродетели, позиции, настроения и поступки, ставшие привычными в данной культуре, легко распознаваемы при условии, что такой, например, этнограф, как Уитмен, привлечет к ним наше внимание. Говоря о простом народе, Уитмен пишет: «Ярость их пробудившегося возмущения, их любопытство и приятие нового, их самоуважение и удивительная симпатия, их восприимчивость к пренебрежению, их вид людей, никогда не знавших, как себя вести в присутствии вышестоящих, свободная речь… их миролюбие и щедрость». Все это, пишет он, — «нерифмованные стихи» (8). Они открывают этическую жизнь демократии. Конечно, не всегда так легко, даже в почти идеальных обстоятельствах, выявить разницу между легитимными и нелегитимными претензиями на обладание теми или иными благами. Но не всегда просто выявить разницу и между легитимными и нелегитимными утверждениями другого рода. Фактические утверждения, например, суть утверждения о сути того или иного дела. Мы знаем, что собою представляют одни легитимные утверждения, но по поводу других идут споры. Нет оснований считать, что не существует такой вещи, как факт, или что все фактические утверждения произвольны. Если факты являются легитимными утверждениями о сути вопроса, тогда мы знаем, что существуют утверждения о сути вопроса и что некоторые из них легитимны (то есть истинны), мы знаем, что это факты (9). И если мы знаем, что легитимность некоторых сущностных утверждений может находиться вне обоснованного сомнения, выражаемого в обращении к имеющимся свидетельствам, тогда 285 у нас есть основание отрицать, что любое фактическое утверждение произвольно. Права включают легитимные претензии на обладание определенными благами. Люди предъявляют требования постоянно. Если некоторые подобные требования делаются легитимно, от имени каждого, как, например, требование отмены пытки и унижений, тогда они являются правами человека, а права человека по сути не являются произвольными, поскольку права суть лишь статусы, даруемые подобными легитимными требованиями. Однако я допускаю, что легитимность некоторых претензий на обладание благ трудно установима. Причина трудности здесь заключается в том, что существуют конфликтующие соображения, которые надо принимать во внимание при урегулировании того, каким должно быть исходное социальное устройство. (Подобным же образом претензия считается легитимной, только если она следует после наилучшего всеобъемлющего анализа исследованного предмета, но сложно провести наилучший и всеобъемлющий анализ фактов.) Кому знать точно, чем станут некоторые из этих важных соображений, как не тому, от чьего имени предъявляется претензия? Тогда тем больше оснований выделить один класс легитимных требований или прав, те, что непосредственно относятся к тем, кто будет говорить, и к тому, о чем пойдет разговор. Предположим, что беседа, проходящая в определенном сообществе, принципиально будет вестись в ключе простого принуждения, от которого слабые смогут спастись, лишь заняв позицию подчиненных. Предположим, «дискуссия» будет по существу аналогичной принятию решений и разрешению конфликта, происходящего в волчьей стае. Тогда мы бы не были готовы считать это дискурсом. Как демократы мы будем безоговорочно возражать, несмотря на содержание самого решения. Демократическое требование не есть что-то, что высказывает человек, распластавшись перед вышестоящим. Не надо говорить «ну, пожалуйста» или «прошу вас». Требующий не должен считать, что будет безусловно легитимным для того, кто на деле принимает решения, в его вышестоящей позиции решить, что ему угодно, независимо от предоставленных ему оснований. Наше ощущение таково, что должны проводиться дискуссии. Любой, кто добивается исключения или подчинения других, — это тот, кого мы осуждаем. Мы ободряем слабого, самую вероятную жертву исключения или подавления, поощряя его сопротивление и самозащиту, что явно отличается от мольбы или выпрашивания. Сам идеал права равного голоса, имплицитного в данных аспектах демокра286 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( тической культуры, можно защищать, если это необходимо, в ходе дискуссии. Но пока он остается подтвержденным, пока он выдерживает критическое наблюдение в нашей повседневной беседе друг с другом, он налагает безусловные требования — не необусловленные, а именно безусловные. Очевидно, что они сформированы настоящими историческими условиями, в которых люди стали с недоверием относиться к прошениям и принуждению в качестве способов разрешения конфликта. Но они безусловны в том смысле, что они помогают создать в это время и в этом пространстве то, что мы законно привыкли считать демократической дискуссией. Несомненно, вышеприведенное рассуждение излишне упрощает историю появления вопроса прав человека в современный период как чего-то такого, для чего достаточно выделенного выше времени. Но оно позволяет предположить, почему наши предки рассматривали «права человека», и вскоре после этого «права женщины» и «права рабов» как своего рода революцию или переориентацию нравственных представлений. Эдмунд Бёрк назвал это «инновацией». Его демократические оппоненты, как, например, Томас Пейн, были по большей части рады согласиться с этим, трансформируя тем самым уничижительный термин Бёрка в позитивный. Но что мы сможем извлечь из контраста, который и Бёрк, и Пейн усматривали между этическим дискурсом в феодальной и демократической трактовке? Правда ли, что демократический дискурс с его обсуждением прав человека, в сущности, уничтожает почтение к власти? И Бёрк, и Пейн думали об инновациях подобным образом; они расходились во мнениях по вопросу о том, является ли инновация ужасающей или удивительной. Бёрк считал, что общество, в котором нет почтения к подлинной власти, не продержится больше поколения. Пейн воспринимал Бёрка как защитника коррумпированного режима власти и привилегий. Для того чтобы определить, где же лежит правда, нам понадобится сделать небольшое философское отступление. ]¤&­ ¥ ¤: §'&, (A § Доводы, которыми люди обмениваются в этическом дискурсе, относятся к обязательствам, которые индивиды берут на себя и приписывают друг другу. Обязательства относятся к таким предметам, как поведение, характер и сообщество. В основном они используют оценочные понятия. Они отличают добро от зла, справедливость 287 от несправедливости, приличия от непристойностей, добродетель от порока, прекрасное от ужасного, плохое от хорошего, ответственное от безответственного. И они часто применяют понятия более специфичные, чем эти, но, безусловно, принадлежащие той же концептуальной семье, как идея убийства или смелости. Этическое рассуждение, при полном выражении, подразумевает требования, вопросы, аргументы, изложение, примеры и разные другие лингвистические единицы, в рамках которых этические сюжеты могут быть уточнены. Этический дискурс в любой культуре приносит основания для действия. Это дискурсивная практика, так как основания в форме заявлений находятся среди вещей, которыми в ней обмениваются. Это социальная практика, во-первых, потому что основания в процессе обмена переходят от одного к другому и, во-вторых, поскольку каждый участник должен следить за дискурсивным процессом в рамках его или ее обязательств. Обмениваясь друг с другом доводами и обоснованиями доводов, участники практики оказываются ответственными друг перед другом за свои обязательства и поступки. Чтобы уметь обмениваться основаниями, они должны уметь делать и некоторые другие вещи. Они должны быть способны выполнять и когнитивные, и практические обязательства. Они должны уметь выражать подобные обязательства, признавая их и действуя в соответствии с ними. Они должны знать, как приписывать обязательства другим на основе того, что другие говорят и делают. А также они должны представлять себе разницу между обладанием права на обязательства и отсутствием такового (MIE, 157–168). «Взять на себя обязательство, — говорит Брандом, — значит сделать что-то, что позволяет приписать обязательство этому человеку» (MIE, 162; курсив в оригинале). Следовательно, приписать обязательство другим людям — один из способов объяснения их поведения, включая их вербальное поведение. Например, если мой брат яростно укладывает свои вещи, я могу заключить, что он связан когнитивным суждением о том, что поезд вскоре прибудет, и что он также связан стремлением попасть на поезд. Если затем он скажет мне: «Поезд скоро отходит», я буду интерпретировать это как утверждение, выражающее его суждение. Но как утверждение это высказывание имеет другое значение, кроме подтверждения, данного мне касательно его когнитивных обязательств, поскольку оно также дает санкцию мне (и каждому, кому я это повторю) на употребление его как предпосылки рассуждения. Если я перейду к использованию утверждения в фактическом умозаключении, кото288 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( рое заставит меня приступить к упаковке вещей, я буду полагаться на авторитет утверждения моего брата. Я также имею санкцию на возражение его утверждению, либо требуя оснований для его принятия, либо делая мои собственные, несовместимые с ним, утверждения. Тогда настанет черед моего брата интерпретировать то, что я говорю и делаю. Любая подобная интерпретация потребует приписать обязательства мне и оценить данные обязательства в свете данного права. Если мой брат прямо говорит мне: «Тебе пора паковать вещи», это утверждение также выражает принятое им обязательство, позволяет мне приписать это обязательство ему и дает мне санкцию употребить это утверждение как предпосылку моего собственного рассуждения. Но в этом случае вопрос несколько более сложен по причинам, описанным в главе 8. Функция суждения типа «следует сделать» состоит в том, чтобы сделать эксплицитным обязательство материальной прочности практического умозаключения. Какой тип материального умозаключения здесь обсуждается? Возможно, мой брат просто хочет, чтобы я разделил его желание сесть в поезд. В этом случае «следовало бы» означает благоразумие. Но мы легко можем представить и другие сценарии. Если мой брат нанял меня как слугу, он может делать утверждение о моих ролевых обязанностях. Если он член сопротивления, и поезд, на который он собирается сесть, везет лидера-тирана, он может просить моей помощи при упаковке наших вещей со взрывчаткой, которую он планирует использовать при подрыве поезда. В этом случае очень вероятно, что его высказывание «надо» может быть утверждением об исполнении моего безусловного обязательства помогать в борьбе против тирании. Заметьте, что при любой из данных интерпретаций моего брата «надо» влечет за собой дискурсивную ответственность с его стороны, поскольку он имплицитно ручается за утверждение как надежную предпосылку для использования в моем практическом рассуждении. И вновь, если я требую оснований для принятия утверждения или вопроса как встречной претензии, я могу возражать его праву на это. Но для того чтобы знать, какому утверждению я буду затем противостоять, мне понадобится узнать, какое обязательство он выражает в первую очередь. Считать друг друга ответственными за обязательства — значит следить за обязательствами, которые мы приписываем друг другу, и правами, которые мы приписываем или отказываемся приписать обязательствам, приписанным таким образом. Обязательства и права суть социально отслеживаемые нормативные статусы. Уча289 стие в дискурсивной социальной практике отчасти означает отслеживание себя и своих соучастников в свете данных нормативных статусов (MIE, 180–198). Это упражнение, которое Брандом называет нормативным «ведением счета». Все, что мы говорим или делаем, может иметь значение в практике обмена основаниями, в которой мы участвуем постольку, поскольку она воздействует на различные протоколы дискурсивных обязательств и прав, которые каждый участник ведет со своей точки зрения на участников дискурсивной игры. Когнитивные обязательства — это обязательства утверждения или суждение, тогда как практические обязательства являются обязательствами к действию (10). Мы можем относиться к ним как к убеждениям и намерениям соответственно (11). Смысл именования их обязательствами состоит в том, чтобы привлечь внимание к правомерности вопроса, — считать ли кого-либо ответственным за них, а также полагать его имеющим либо не имеющим право на них. Что значит иметь право на убеждение или намерение? Это не то же, что способность оправдать обязательство по отношению к кому-то другому, не говоря уже о том, чтобы быть способным это убедительно доказать всем рациональным субъектам. Иногда обязательство можно иметь заочно, не нуждаясь в представлении аргумента, при условии, что никто имеющий право опровергнуть обязательство им не пользуется (MIE, 176–178). Иногда кто-либо имеет право на обязательство, поскольку кто-то другой (с соответствующим типом полномочий) санкционировал это, выразив это в форме утверждения. Но есть множество обстоятельств, в которых необходимо оправдать обязательство дискурсивно, чтобы добиться или поддержать статус уполномоченного на это. Есть также случаи, в которых необходимо оправдать отношение к другим, представляющим утверждения, как к авторитетам, если нужно стать или остаться уполномоченным на обязательства, ими санкционированные. Изучая этическую жизнь любого сообщества, важно принимать во внимание его (имплицитные или эксплицитные) способы распределения дискурсивной власти и ответственности. В пределах данной дискурсивной социальной практики, при каких условиях можно кого-либо считать наделенным некоторого рода обязательствами заочно? При каких условиях можно полагать, что кто-то должен подтвердить обязательство дискурсивно, чтобы гарантировать свое право на него, даже если никто не возражает против этого? Кто уполномочен давать ход возражениям? И наоборот, кто исключается из ролей заявителя претензии и возражающего противни290 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( ка? При каких условиях можно полагать возражения уместными? И когда возражение оказывается достаточным для того, чтобы лишить кого-либо полномочий на обязательство? Другими словами, что можно считать достаточным, чтобы переложить бремя доказывания? Предположим, моя сестра приезжает в гостиничный номер, в котором мы с братом упаковываем сумки. Она спрашивает меня: «Почему вы так спешите?» «Скоро поезд», — отвечаю я. Она говорит: «Но почему ты так решил?» Я мог бы ответить, сославшись на расписание поездов, лежащее на моей тумбочке, полагаясь на содержащуюся в нем информацию как на основание предположения о скором прибытии поезда. Это имплицитно приписывает авторитет расписанию. Либо я мог бы обратиться напрямую к авторитету моего брата: «Ральф говорит, что скоро поезд». Принимая его утверждение в начале разговора, я ссылаюсь на его авторитет по вопросу времени прибытия поезда. Теперь я взываю к его авторитету, отвечая на возражение сестры. Обратившись к его авторитету, я имплицитно приписываю ему ответственность за утверждение о прибытии поезда. В этот момент сестра может уступить его авторитету в данном вопросе или возразить моему имплицитному приписыванию компетентности ему. Она могла бы сделать последнее, сказав: «Почему ты решил, что он умеет читать расписание поездов?» Если я затем скажу: «Потому что я полагался на него уже много раз, и он ни разу не ошибся», то представлю основание для эксплицитного приписывания авторитета. Моя семья оказывается дискурсивным сообществом, в котором сестра считается обладателем права возражать братьям практически во всем, если у нее есть на то причина. Ей можно спокойно высказываться о том, когда же прибывают поезда, что могут из себя представлять ролевые обязанности или что я обязан сделать в борьбе с несправедливостью просто потому, что она женщина, или потому, что она младшая из нас троих. То, что все трое могут спорить по многим поводам друг с другом, не означает, однако, что уважение полностью отсутствует в нашей дискурсивной практике. Мы регулярно с уважением относимся к авторитету друг друга, когда у нас есть основание полагать, что это позволит нам получить обоснованные утверждения, которые окажутся полезными для наших рассуждений. Каждый из нас рассматривает другого как компетентного читателя расписания поездов и считает знатоком прав и обязанностей, которым мы уделяем самое пристальное внимание. Кто бы из нас ни прочел в последнее время расписание поездов (в здравом рассудке), мы доверимся любому в во291 просе о том, когда, скорее всего, поезд прибудет. И, скорее всего, доверие будет оказано любому, кто вынес наиболее беспристрастное и наблюдательное суждение в отношении определенного нравственного вопроса, и приписано ему право на то, чтобы делать то или иное, касающееся этого высказывания. Мы имеем право выказывать в подобном случае свое уважение, поскольку наши близкие доказали свою надежность в соответствующих областях, и сохраняем свое право возразить друг другу, если обнаружим достаточные основания для сомнений в определенном случае. Все дискурсивные практики до определенной степени касаются власти и уважения к ней. Представление о том, что этический дискурс в демократических обществах является «лишенным почтительности», требует определенного пояснения. Более правильным будет сказать, что такой дискурс относительно «непочтителен». Разница в том, как, когда и почему кто-либо выказывает уважение авторитету, а не в том, делает ли это кто-то в принципе. Первые сторонники современных демократических идеалов незаслуженно стремились изгнать и почтение, и авторитет из этического дискурса. Теоретическое следствие этого известно как фундаментализм — доктрина, неоправданно заочно воспринимающая все заявления с позиции «виновен, пока не доказано обратное». Приписывание такого заочного статуса всем утверждениям приводит к регрессу оснований, который возможно остановить, если это в принципе возможно, лишь в свете несомненности. Лучшим путем избежать этой доктрины и связанных с ней проблем будет присоединение к прагматикам в том, что большинство утверждений «невиновны», пока не доказано обратное, и должны считаться утверждениями до тех пор, пока кто-либо не сможет легитимно поставить вопрос (MIE, 177). Это требует отнестись к некоторым утверждениям как к заочно обладающим авторитетом, что значит быть готовым следовать этим утверждениям при прочих равных условиях. Но данный авторитет согласно прагматикам является отменяемым, поскольку «прочие» условия не всегда равны. В любой момент к некоторым утверждениям следует подходить как к заочному авторитету. Но любое утверждение может быть оспорено, если представлено достаточное основание (для сомнений). Как считает Селлерс, дискурсивная практика «рациональна не потому, что она имеет основание, но потому, что она является самокорректирующимся предприятием, которое может опровергнуть любое утверждение, хотя и не все сразу» (SPR, 170; курсив в оригинале). Этот центральный тезис американского прагматизма иногда представляется как независимая эпистемоло292 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( гическая истина. Но лучше ее рассматривать как современный демократический принцип управления дискурсивной практикой, так как на деле большинство дискурсивных сообществ имплицитно отвергали его. Допуская, что некоторые утверждения должны обладать заочным авторитетом, и одновременно настаивая на отменяемости всех утверждений, прагматики попытались демократически переосмыслить отношение к авторитету в этическом дискурсе. Эта альтернатива фундаментализму — самый важный вклад в демократию прагматизма. Так как другие ведущие альтернативы фундаментализму скорее авторитарны в том смысле, что способствуют некритическому принятию в предположительно авторитарных утверждениях определенной практики, традиции, учреждения, личности, текста или типа опыта. Американский прагматизм отличается от версии прагматизма, принятой М. Хайдеггером, с его принятием нацизма именно в его принципиальном презрении к некритическому восприятию любого авторитета (12). Новый традиционализм, рассматриваемый мной в главах 5–7, сочетает акцент на приоритет социальных практик с определенным типом авторитаризма. Некоторые вариации фидеизма Витгенштейна используют понятие «форм жизни», которые приходят к сходному результату. Как же Бёрк и Пейн попадают в этот набор альтернатив? Традиционализм Бёрка эксплицитно поддерживал тип авторитаризма, тогда как антиавторитаризм Пейна имплицитно связывал его с фундаментализмом. С прагматической точки зрения ни одна из этих позиций не выдержит критики. Бёрк и Пейн поэтому оба были неправы в своих собственных отстаиваемых позициях, и оба правы в установлении недостатков в позициях друг друга. Прагматизм идет на компромисс, переосмысляя авторитет неавторитарно. Таким образом, признается, что все общества требуют уважения к власти, при этом настаивая на том, что уважение и отменяемость могут идти рука об руку. Тем самым прагматики стремятся сделать эксплицитным то, что предполагает демократическая традиция . << ]¸< §)& A¶¶ §A@ Если бы современная демократия развивалась в отрыве от предшествующих ей традиций, тогда Э. Бёрк и Т. Пейн лишь зря тратили бы время, борясь за сторонников друг друга в спорах вокруг правовой терминологии. Но эти философы не теряли времени, так 293 как действительно преуспели в обращении тех, кого можно было считать тесно связанными обязательствами с оппозицией. В конце концов Бёрк практически был доведен до отчаяния, слыша аргументы Пейна и его выводы из уст английских джентльменов, для привилегий которых «вигизм» Бёрка и должен был предоставить идеальное оправдание. Представляется, что предложенный Пейном ход рассуждений сыграл, в исторической перспективе, определенную роль в процессе обращения. Справедливо ли то же в отношении других великих писателей, творивших посреди драматических концептуальных изменений, таких как Платон, Августин, Монтень, Уоллстонкрафт и Уитмен? Если бы они не смогли по меньшей мере убедительно отстоять свою точку зрения, мы бы все еще не читали их. Дискуссия между Бёрком и Пейном по поводу демократических идей была концептуально сугубо личным делом; в идеологическом плане она велась между сторонами, проводившими примерно те же самые идеи, но в разных направлениях. В пылу защитники и критики представительной демократии часто изображают ее как полный разрыв с прошлым. Но в ретроспективе это часто представлялось иначе, по крайней мере, в отношении дискуссии между Бёрком и Пейном. Оба мыслителя видели современную демократию как абсолютно оторванную от всего того, что было раньше. Таким образом, темой прерывистого характера революции мы можем быть обязаны им. Однако в наше время слишком легко помещать их обоих в рамки одной широкой традиции европейской мысли — Бёрка, старавшегося удержать несколько различных обрывков этой традиции, и Пейна, убежденного в том, что та демократическиреспубликанская связь, за которую он выступал, в итоге оказалась несовместимой с другой. Оба разделяли больше схожих предположений и концепций, чем можно перечислить. Вспомним в этой связи удивление и потрясение Пейна, когда Бёрк, написавший «Речь о примирении» с американскими колониями, что послужило его репутации как большого критика имперского правления Британии, опубликовал «Размышления о революции во Франции». Примечательно, что и Бёрк, и Пейн признавали авторитет традиционного критерия справедливой войны, несмотря на другие различия. В «Размышлениях» Бёрк утверждает, что «Революция 1688 года была достигнута в результате справедливой войны». Он цитирует версию Ливи о критерии необходимости или «последнем ресурсе» и применяет этот критерий к французской революции. Он исследует намерения и предполагаемый авторитет якобинцев, 294 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( заявляя, что «наказание настоящих тиранов — благородный и ужасный акт справедливости», и пространно размышляет о диспропорциях французской революции (13). В «Правах человека» Пейн старается опровергнуть Бёрка по множеству пунктов, но утверждает, что критерии справедливой войны верны. Он обращается к ним более эксплицитно в «Здравом смысле». По вопросу последнего прибежища Пейн ссылается на «мирные методы, которые мы неэффективно использовали при установлении гармонии». Он защищает справедливость своих собственных намерений как революционера, утверждая: «Мной не движут мотивы гордости, партийности или сожаления по поводу моей поддержки доктрины независимости». Его обращение к правилу пропорциональности подразумевает, что «объект, за который идет борьба, всегда должен соответствовать затратам». Эта борьба справедлива, утверждает он, поскольку «тысячи людей уже разорены британским варварством». И он соглашается с необходимостью установить справедливую власть, заявив о независимости и приняв определенные планы для справедливого самоуправления. «В то время как мы провозглашаем себя подданными Британии, в глазах других народов мы должны выглядеть повстанцами» (14). Его решение данной проблемы, конечно, объявление независимости. Бесспорно, что-то очень значительное было на кону в споре между Бёрком и Пейном. Предложенное изменение в принятых концепциях прав было достаточно важным, чтобы в определенном смысле считаться концептуальной революцией. Предположим, мы допускаем необходимость быть осторожными с использованием термина таким образом, как это делали Бёрк и Пейн, чтобы не думать, будто обе стороны находились в полном концептуальном разрыве. В чем же тогда заключается «революционное» концептуальное изменение? Где именно нам следует его искать? Очевидно, оба автора расходятся в направлении действия, которое они избирают, а также в том, что касается некоторых из поддерживаемых ими эксплицитных норм. Пейн поддерживает Французскую революцию, в то время как Бёрк выступает против нее. Нормы Пейна ясно приписывают нормативные статусы определенного рода — права — всем людям (15). Наша дискуссия о том, как два автора обращаются к критериям справедливой войны, показывает, что они разделяли и некоторые эксплицитно выражаемые нормы, но применяли они их по-разному. Их соперничающие способы применения критериев справедливой войны отражают различающи295 еся материальные дедуктивные утверждения, касающиеся связей между утверждениями о справедливости и утверждениями некоторых других типов. Что еще, в этическом смысле, здесь выносится на обсуждение? «Вот так история» в первом разделе о правах человека подсказывает, что отчасти ответ следует искать в структурах почтения. Культура, которую защищает Бёрк, — та, в которой пышность и церемониал действуют как знаки авторитета и отличия, как привилегии ранга и символы власти. «Мы боимся Господа, мы смотрим с благоговением на королей, с любовью — на парламент, с повиновением — на магистраты, с почтительностью — на священников и с уважением — на знать. Почему? Потому что с подобными идеями в голове естественно быть таким взволнованным» («Размышления», 76). Он хочет сказать, что интуитивной реакцией, без вмешательства логики, на нахождение в присутствии подобных людей будет их высочайшая оценка и, таким образом, восхищение ими, смешанное с трепетом или почтением. Авторитет, который он приписывает высокопоставленным особам государства и церкви, связывается с готовностью подчиняться таким людям в вопросах, к которым относятся их властные полномочия. Разного рода плохое поведение может лишить таких людей их авторитета и их легитимной претензии на свое место. Но даже свержение настоящего тирана должно проводиться, по Бёрку, с помпой, с определенным церемониалом и прежде всего с должным уважением к самому посту. Кардинально важно, как он считает, поддержание культуры, в которой восхищение господствующими и почтение перед властью являются не только возможными, но и центральными обычаями населения. По его мысли, демократия — противоположность такой культуры да и просто разрушительная сила. Эта тема возникает в «Размышлениях» Бёрка в разделе об исчезновении рыцарства, что для него лично было очень значимым. Пейн, конечно же, занимается развенчиванием культуры рыцарства как набора реквизитов, маскирующих манипуляции тирании. «При извращенном возвеличении одних, — пишет он, — извращенно принижаются другие, пока все не становится неестественным. Широкие массы человечества унижены и отброшены на задворки бытия, чтобы освободить место блестящему кукольному театру государства и аристократии» (59). И там, где Бёрк проповедует почтение, Пейн требует оснований либо выражает протест. С его точки зрения, решающим является рождение граждан, не готовых кланяться и расшаркиваться перед высокопоставленными особами. 296 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( Тысячи простых людей в Англии, научившихся грамоте, только чтобы читать радикальных памфлетистов 1790-х и 1800-х, несомненно, получили образцы непочтительного поведения. То, что они чтили этих писателей за красноречие и смелость и находили их высказывания нравственно вескими, однако показывает, что демократическая культура освободила пространство для восхищения, приписывания превосходства и морального авторитета. Фактическим результатом явилось не освобождение нравственного мира от таких вещей, а их отделение от традиционной преемственности. Как мы видели, Бёрк был противником Революции и подчинялся определенным авторитетным фигурам, в то время как Пейн отличался от него по обоим пунктам. Это различия в действии. Оба также поддерживали достаточно различающиеся нормы, приписывали довольно разные нормативные статусы людям и следовали до некоторой степени разным материальным умозаключениям. Это различия фактического и дедуктивного умозаключений. Но теперь становится ясно, что они были склонны и к разным нелогическим моральным реакциям на события, личности и деяния своего времени. Вкратце, они воспринимали или переживали вещи по-разному. Называя данные реакции нелогическими, я не подразумеваю, что они были неисправляемыми и находились за гранью рационального исследования и проверки. Я просто хочу сказать, что к ним изначально не приходили в результате рассуждений. Самым знаменитым пассажем «Размышлений» является живое описание Бёрком обращения революционеров с королевой Франции, опирающееся на его воспоминания о ней, когда она была «дофинессой в Версале», семнадцатью годами ранее (66). Цель отрывка — изобразить сцену, которую любой морально компетентный наблюдатель сразу назвал бы ужасной. Как он говорит в вышеупомянутом отрывке: «вполне естественно быть столь взволнованным». Неспособность отреагировать не посредством логики в этом случае должна, с точки зрения Бёрка, быть результатом неправильного использования рассуждения, которое фактически лишает нас естественной способности к реакции, необходимой для социального порядка. Пейн делает не менее знаменитые замечания в «Правах человека» о «трагических картинах, которыми г-н Бёрк изводит свое собственное воображение», и жалуется, что Бёрк «сожалеет о плюмаже, но забывает об умирающей птице» (51). Пейн стремится представить свою картину событий октября 1789 года, намереваясь извлечь определенные моральные выводы, отличные от ужаса Бёрка перед жестоким обращением с королевой. В других местах 297 он изображает угнетенных, прежде всего бедных, как подлинных жертв трагедии. Условия их жизни ужасают. Что гарантирует не только жалость по отношению к ним — умирающей птице в данной метафоре, но также и действие с нашей стороны, направленное на изменение их положения. Не меньше Бёрка он занят поисками оснований для недедуктивной, как и дедуктивной реакции со стороны своих читателей. Оба автора укрепляют и даже находят свои аргументы, по сути, говоря: «Взгляните на это! Что вы видите? Не ужасно ли это (или превосходно)?» Реакции, которые они стараются вызвать, — результат не логики, а дедуктивной связи с нравственными страстями, как благоговение и сострадание, и с действиями, которым они служат оправданием. Хотя и Бёрк и Пейн официально готовы подвергнуть свои «нравственные прозрения» или интуитивные ответы критическому исследованию, никто из них не находит достаточно оснований для отказа от них. Эти восприятия могут быть нелогическими, но они, несомненно, оказывают сильное влияние на делаемые этические и политические заключения, а также поддерживаемые и осуществляемые этими людьми действия. Предметом их спора является столько же умозаключение и действие, сколь и перцепция. Именно потому, что их недедуктивные моральные реакции на события до определенной степени находятся вне их контроля и тесно связаны с тем, чем они дорожат, язык конверсии (обращения) обретает здесь точку опоры. Складывается стойкое ощущение, что оба находятся во власти моральных видений. Их произведения отчасти созданы для того, чтобы другие могли понять то, что поняли они сами. Это иллюстрация плохого обращения с королевой или бедняком. Не воспринимаете ли вы его интуитивно как нечто ужасное, как насилие над чем-то ценным? Если нет, на вас нельзя положиться как на эксперта в области морали. Вы либо понимаете, либо нет. Понимание этого есть процесс обращения, который каждая из сторон пытается инициировать в своих противниках. Что входит в подобное обращение? Представляется, что партии Бёрка и Пейна главным образом различаются по примерам превосходного и ужасного. £' < §­ В то время как логические шаги совершенно явно неотъемлемы от практик, сконцентрированных на предоставлении и требовании этических оснований, эти шаги — не единственный тип шагов, совершаемых в подобных практиках. Существуют также недедуктив298 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( ные шаги, при которых участник практики реагирует на что-то, что он наблюдает, связав себя перцепционным суждением или утверждением. То, что суждение пришло недедуктивным логичным путем, не гарантирует его истинность. Множество подобных суждений оказываются ошибочными. Наблюдение — незаменимый, но ненадежный источник знания. Поскольку вещи не всегда оказываются тем, чем кажутся, наблюдатели иногда переходят от своих описаний того, что они видели, к описанию того, какими казались им вещи в то время. Отчеты о наблюдении отныне не более защищены от опровержений, чем утверждения другого рода. Их можно оспаривать, поскольку они вступают в конфликт с описаниями наблюдений других свидетелей. И их можно оспорить на теоретических основаниях, если кто-то имеет основание подозревать, что предполагаемое событие, вероятно, не имело места при наличии в нашем распоряжении других данных. Наблюдения вступают в игру в этическом рассуждении двумя различными способами. Первый, который в своих работах выделяют Селлерс и Брандом, состоит в непосредственном предоставлении фактической информации, воздействующей на этические вопросы при сочетании с соображениями других типов. Представим, что два свидетеля — один симпатизирующий Розе Паркс, другой — ее враг — наблюдают за ее арестом полицией Монтгомери. Мы можем вообразить, что они используют это наблюдение теоретически, выстраивая конкурирующие объяснения конфликта, произошедшего между черными и белыми в Монтгомери. Мы также можем представить, что они используют то же наблюдение практически, решая, стоит ли поддержать или выступить против бойкота, к которому привел поступок миссис Паркс. Любой удачно расположенный в данный момент друг или враг был способен наблюдать за ее арестом. Сообщить о том, что случилось с ней, само по себе не означало принять какую-либо сторону в этическом вопросе. Однако наблюденческая предпосылка влияет на этический аспект в обоих упомянутых контекстах, теоретическом и практическом: вопрос о том, что явилось причиной расового конфликта, в первом, вопрос о том, следует ли поддерживать бойкот, в последнем понимании. Отчет о наблюдении имеет отношение к этическим вопросам без эксплицитной ценностной нагрузки. Паркс, Роза Ли (1913–2005) — американский борец против расовой сегрегации. Ее отказ уступить место в автобусе белому пассажиру в 1955 г. привел к массовым волнениям в штате Алабама. 299 При этом кажется ясным, что некоторые замечания сразу (т.е. нелогическим путем) ставят наблюдателя в ценностно или этически окрашенную позицию. Представьте, что в данный момент вы являетесь свидетелем ареста Розы Паркс. В качестве одной из ваших дорефлексивных, подсознательных реакций на такое зрелище очень могло бы быть восклицание: «Это несправедливо!» Другая реакция могла бы быть выражена шепотом: «Какая же она смелая!» Если бы вы сказали подобное при соответствующих обстоятельствах, вы бы делали наблюдения, в которых в основном употреблялись бы оценочные термины. Это показывает, что наблюдения не обязательно имеют отношение к этическим вопросам лишь в силу роли, которую они могут играть как предпосылки в рассуждениях, ведущих к этическим выводам, поскольку они также могут непосредственно связывать наблюдателя с этической позицией. Это второй способ, которым наблюдения могут включаться в этическое рассуждение (16). Одним из решающих факторов завоевания общественной поддержки движения за гражданские права во времена его расцвета была телевизионная трансляция кадров атаки на демонстрантов, при которой применялись брандспойты и полицейские псы. То, что видели зрители, было актом насилия, которое люди выдерживали с нравственной стойкостью. Нам не надо утверждать здесь, что они видели лишь потоки воды, ударявшие по телам, и собак, рвущих поводки, а затем использовать критерии жестокости и смелости, чтобы построить заключения на основе всего увиденного, достичь эксплицитных этических выводов. Нет оснований полагать, что моральные отклики на подобные события обычно такие сложные. Некоторые этические термины попадают в словарь, в котором мы наблюдаем события, происходящие вокруг нас. Иногда наши наблюдения имеют этическую составляющую. Наблюдательный социальный критицизм — важнейший жанр демократической научной литературы, сильно повлиявший на современную демократическую восприимчивость. Такие авторы, как Уильям Коббетт, Хэритт Мартино, Джордж Оруэлл, Джеймс Эйджи и Меридель Ле Сюёр писали о том, что они воспринимали сами. От них их читатели узнавали, какова жизнь у городских и сельских бедняков, поселенцев американского Запада, шахтеров Англии. Как однажды заметил Ирвин Хоу, в случае Оруэлла нос столь же важен, сколько и глаза и уши. Мартино, бывшая глуховатой, была вынуждена больше полагаться на свои глаза. Временами эти авторы снабжают нас голыми фактами, оставляя нас самих прихо300 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( дить к этическим заключениям, к которым они надеялись привести. Однако иногда этические выражения их наблюдений делают явным их отвращение к условиям, о которых они сообщают, и их стремление к улучшению этих условий. Их стилистические различия отражают полный спектр манер наблюдения в этике — от самой строгой до самой морализаторской. Было бы глупо считать, что такие искусные писатели передают нам первые пришедшие им в голову мысли (не в результате размышлений), когда свидетельствуют об описываемых ими событиях и людях. Но авторитетность их сообщений зависит от нашей веры в их надежность как свидетелей. Надежный свидетель готов реагировать на наблюдаемые условия соответствующими недедуктивными суждениями, выражая их соответствующим образом. Мы не будем обвинять свидетелей за выражение суждений в живых высказываниях, не возникающих немедленно, но мы ждем, что они останутся верны тому, что они наблюдали изначально (если, конечно, они не найдут достаточного основания полагать, что обманывались). Познавательная ценность сообщения о наблюдении как свидетельства в конечном итоге заключается в надежности первоначального недедуктивного суждения наблюдателя. Описательная проза Эйджи в «Восславим знаменитых» с библейскими и литургическими коннотациями в основном входит в морализаторскую часть спектра. Эйджи тем не менее всегда подчеркивал, что фотографии Уокера Эванса были столь же важными для авторитетности книги в области репортажа, сколь и его собственные слова. Читатели должны были увидеть сквозь объектив камеры Эванса те же условия и тех же людей, что Эйджи описывал в прозе. У нас есть и другой пример того, как фотографии проникают в этический дискурс. На одном уровне они, как и большинство свидетельств, действуют в качестве сообщения о том, что кто-либо видел. Обычно они утверждают, что события происходили так, как изображают фотографии. Но они также заставляют читателей копировать нравственные переживания очевидца. Если мы начинаем фокусироваться на роли наблюдения и описании наблюдения в этике, становится ясно, что изучение этического дискурса должно касаться всего спектра рассматриваемых средств, а не просто вербальных. Ясно, что печатный станок, газеты, памфлеты, книги, теперь и Интернет сыграли значительную роль в жизни современной демократии в качестве средств обмена аргументами. Но история этического дискурса в современной демократии также связана с историей фотографии, кино, радио и те301 левидения — со всеми способами, которыми мы стали записывать и распространять наши наблюдения окружающего мира. Наблюдение подразумевает познавательные способности, приобретаемые лишь с участием в дискурсивной практике. Некоторые из этих способностей дедуктивны, другие — нет. Нелогические способности являются результатом тренировки не в меньшей степени, чем логические. Мы научились реагировать нелогически на кошек словом «кошка» и на собак словом «собака». Подобным образом мы приучены реагировать нелогически на проявления жестокости, используя термин «жестокость», и на проявления смелости — термином «смелость». На этом социальная обусловленность наблюдения не заканчивается. Наши социальные практики предписывают не только, какого рода лингвистические реакции уместны в ответ на определенные типы обстоятельств, они также часто предписывают нам действия, если мы хотим, чтобы наши наблюдения рассматривались как достоверные. Спасателей тренируют следить за купальщиками, находящимися под их надзором. Их учат тому, когда смотреть в бинокль, как не отвлекаться на несущественное, и какие позы повышают их шансы увидеть то, что им необходимо. Сегодня родители должны научиться различать угрожающие и безобидные звуки, доносящиеся из кроватки новорожденного, жар, требующий либо не требующий медицинского вмешательства, слишком горячую ванну и ту, которая нужна. Спортсмены, судьи, повара, поэты, художники, музыканты, биологи, следователи, медсестры и журналисты обучаются своему собственному, утонченному режиму восприятия. В каждой из этих областей люди прикладывают значительные усилия, чтобы приобрести навыки наблюдения, отсутствующие у многих других. Они учатся делать специфические виды достоверных недедуктивных суждений. Некоторые из этих недедуктивных суждений явно нормативны. В футболе судья может видеть, является ли подкат грязным или чистым. Повар чувствует, хорошо ли приправлено блюдо. Музыкант слышит, чисто ли взята нота. Все подобные суждения предполагают определенный набор правил, что не означает, что выносящий суждение человек должен вначале понять что-либо ненормативным образом, а затем применить нормы логическим путем, устанавливая в серии шагов, выдержаны ли определенные критерии. Так, если кто-то должен предпринять серию логических шагов при вынесении суждения, это означает, что этот человек еще не овладел необходимыми для определенной роли навыками. 302 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( Однажды я прошел трехдневный курс для футбольных судей, получив высшие отметки в классе на итоговом экзамене, хотя судейской практики у меня почти не было. Я могу грамотно применить правила футбола в любом конкретном случае, если у меня есть немного времени, чтобы рассмотреть ситуацию. В результате я являюсь заслуживающим доверия ретроспективным критиком судей. Судья же я слабый, так как мои суждения слишком запаздывают по сравнению с быстро разворачивающимися в игре событиями. Причина, по которой мои суждения столь запоздалы, состоит в том, что я прихожу к ним в большинстве случаев логическим путем. Хорошие судьи способны представить практически любые, необходимые им в футбольном матче нормативные суждения без выведения суждений из предпосылок. При возражениях, конечно, они также могут защищать свои решения логическим путем. Однако будет ошибкой полагать, что их ретроспективные аргументы отражают процесс восприятия, который и привел их к их суждениям. Таким образом, этическая теория фактически не уделяла внимания способам, при помощи которых сообщества прививают нам привычку морального наблюдения. Некоторые религиозные и философские традиции изобрели истории, трактаты, ритуалы и духовные упражнения, описывающие то, как их члены понимают людей, поступки и события. В некоторых сообществах особые формы восприятия приписываются тем, кто выполняет специализированные роли морального авторитета. Мудрецы, имамы, духовные наставники, раввины, духовники проходят особые формы обучения. Если оно эффективно, они приобретают структуру определенных эмоций, набор принятых привычек в умозаключениях и наблюдениях для выдвижения моральных суждений. Носители морального авторитета, в свою очередь, учат других членов своего сообщества не только размышлять определенным образом, но и видеть других людей в определенном (моральном) свете. Периодический пересказ жизни святых в рамках определенного сообщества может, например, создавать широко распространенную тенденцию реагировать недедуктивно на определенных людей и события, говоря, что они являют собой пример мужества перед лицом преследований. Повторяемость в приведении слушателям примеров мужества подготавливает людей к узнаванию (недедуктивному) бесстрашия в реальной жизни, по крайней мере, на какое-то время. Возможно, процесс нравственного развития включает промежуточный этап, аналогичный моему примеру с футболом, в котором посвящаемый может овладеть достоверными моральными суждениями путем ло303 гики, но еще не способностью эксперта для нелогической, интуитивной реакции на относительно ясные и наблюдаемые им самим случаи. В современных демократиях осуществление морального, наблюдающего авторитета не ограничивается отдельными людьми, прошедшими высокоспециализированный курс морального тренинга. Моральный авторитет принадлежит не классу посвященных экспертов, а скорее любому, кто доказал свою компетентность как наблюдатель и участник споров в глазах всего сообщества. Религиозные и академические субкультуры могут приписывать особый авторитет духовенству либо моралистам, и такой авторитет будет признаваться в особых учреждениях (как, например, этический комитет местной больницы), в сообществе же как таковом политика компромисса официально открыта любому. Авторитет морального наблюдения широко распространим. Любой, кто в течение некоторого времени демонстрирует способность к осуществлению надежных моральных наблюдений, легко может добиться признания как специалист-обозреватель дел в области морали. Квалификация надежного наблюдателя в области морали не приобретается только благодаря высокоспециализированным, профессиональным формам обучения. Она принадлежит сфере этической жизни людей как таковой и приобретается в ходе того же процесса моральной аккультурации, затрагивающего в сообществе практически каждого — в детской, в гостиной, в классе, на игровой площадке и так далее. Процесс формален и содержателен только до определенной степени, поскольку мы учимся навыкам морального наблюдения в основном путем вынесения моральных суждений в присутствии сверстников, которые хотя и не являются нашими родителями и учителями, отвечающими за наше развитие, не менее их жаждут нас исправить. Задача сделать наблюдение, способное выдержать критику обычных собеседников, сама по себе является суровым инструктором и подходит для формирования демократического гражданина. Эксплицитно моральные наблюдения включают принятие или признание презумпции нормативного обязательства определенной реакции на наблюдаемое действие или событие — например, помощь жертве насилия или прославление образца мужественного поведения. Как и все наблюдения, они не являются логическими, но потенциально отменяемыми. А также зависимыми от разного рода дискурсивных навыков. Полное овладение этическими понятиями подразумевает приобретение навыков наблюдения и логи304 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( ческого мышления, то есть приобретение способности реагировать дифференциально и недедуктивно на воспринимаемых людей, действия и ситуации и делать так в согласии с нормами соответствующей социальной практики, в рамках которой наблюдаемые этические понятия приобретают свою логическую значимость. Как тогда может быть решено противостояние Бёрка и Пейна в ходе рассуждений, если конфликтующие нелогические реакции на примеры играют такую важную роль? Мне представляется, что одна из многообещающих возможностей указывается в отрывке из «Размышлений», в котором Бёрк защищает роль монахов в самом широком смысле. Внезапно, он прерывает свои рассуждения, выражая искреннее сострадание доле обычных людей, проводящих время «…от рассвета да темноты в бесчисленных жалких, презренных, унизительных, недостойных, позорных и часто самых вредных и пагубных занятиях, на которые общественным устройством обречены столь многие несчастные. Если бы не было разрушительным мешать естественному ходу вещей и тревожить в какой бы то ни было степени великий круговорот, вращаемый странно направленной работой этих несчастливых людей… я бы решительно стремился спасти их от их жалких усилий» (141). Здесь хорошо видно, что Бёрк выражает недедуктивную моральную реакцию, что позволило Пейну прийти к практическим демократическим умозаключениям. Он видел таких людей. Его интуитивной реакций является стремление прийти им на помощь. Несомненно, они напоминают ему о других угнетенных — американских колонистах, ирландских католиках, индийских жертвах Уоррена Гастингса, на защиту которых он потратил многие годы своей жизни. Что же его сдерживает? Его предположение о пагубности и непрактичности попыток «помешать в малейшей степени великому круговороту». Он не может представить изменение рабочих условий несчастных без угрозы «круговороту вещей», от которого зависит счастье остальных. Пытаться спасти этих людей от их страданий означало бы «нарушать естественный ход событий». Это не входит в сферу воображения. Все, чем мы дорожим, было бы разрушено. Это предположение идет вместе с его концепцией демократии как, по существу, разрушительной, уничтожающей силы — противоположности культуре. Бёрк не может представить отлаженной демократической культуры среди рабочих, вскоре вместе читающих Пейна, не считая несчастных, которых в каком-то невообрази305 мом мире он бы стремился спасти от их бед. Для него демократия — просто лживый лозунг, который несет толпа, а не цивилизованная практика превращения людей в сознательных, рассудительных, пекущихся о достойных вещах и ненавидящих нравственные ужасы личностей. Он подозревает, что это всего лишь предлог, при помощи которого талантливая городская элита захватывает власть для себя во имя и за счет народа. В таком подозрении есть истина, правда, убедительно сформулированная в наши дни Мишелем Фуко. Но концепция демократии у Бёрка также представляет и неудачу воображения. Он и Пейн не только имеют разное моральное восприятие полученного ими (не логическим путем) опыта, они также различаются в том, как они представляют то, чего еще нет в их опыте, — возможное будущее, находящееся в процессе материализации. Если моральное восприятие есть способность реагировать на отсутствие опыта, на то, чего еще не (недедуктивно) существует для сознания. Обе способности, конечно, неразрывно связаны с эмоциями — в данном случае со страхом и состраданием — и с такими добродетелями, как проницательность и надежда (17). Если я прав относительно соображений, удерживающих Бёрка от поддержки демократических взглядов, ясно, какой была бы самая многообещающая стратегия дискуссии для его оппонентов. Им потребовалась бы атака на изображение Бёрком естественного порядка вещей, идущее дальше разоблачительного стиля Пейна. Как ни парадоксально, Бёрк лишь обеспечил возможность подобной атаки, когда описал, пользуясь словами Юма, символические и ритуальные аспекты этого заслуживающего почтения порядка как искусственные. Он отнесся к этим аспектам как к «изящной вуали», драпировке, «предоставленной гардеробом нравственного воображения», и как к «фантазии благочестивого воображения» (18). Такие самые его проницательные и радикальные читатели, как Уоллстонкрафт и Хэзлитт, пришли к выводу, что любая подобная вуаль или драпировка, будучи в первую очередь искусственной, может быть переосмыслена демократически, если гардероб морального воображения народа окажется достаточно богат. Почему бы и нет, после «Листьев травы» и «Уолдена»? Потребность в определенном культурном прикрытии может относиться к человеческой природе, но если мы думаем об этом прикрытии как о продукте нашей изобретательности, то оказываемся ответственными за это. Когда мы несем ответственность, мы можем приступать к созданию демократической культуры. И если общественное разделение труда на рабочих местах и в семье — то, во что вовлече306 ^ 9. §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( ны все мы и за что таким образом ответственны, тогда нам следовало бы проверить предположения Бёрка о неизбежности жалких условий жизни наименее обеспеченных. Единственный путь сделать это, не задаваясь вопросами, — эмпирический. Это упражнение в социальном экспериментировании, которое включает выработку новых договоренностей на ограниченном базисе их проверки. Это может получиться, однако, только если люди требуют ответственности за условия организации общества и предпринимают действия от имени нуждающихся. Двумя столетиями после Бёрка и Пейна демократический дискурс на Западе уже не представляется революционной инновацией. У его защитников есть давно установленная, пусть и с множеством недостатков, традиция, на которую можно ссылаться, и скромный послужной список социального экспериментирования для дискуссий. У них есть собственные обычаи почтения, протеста, этического восприятия, материального умозаключения и морального воображения, обычаи, которые удавалось с некоторым успехом передавать от поколения к поколению. Но как мы можем гордиться нашими достижениями, если несчастные все еще среди нас? По отношению к ним демократия остается пустым идеалом. Наше бездействие приводит к тому, что они высмеивают ее и объединяются с антидемократическими общественными силами, включая реакционные теократические движения, сегодня столь активно рекрутирующие их в террористические организации. И если нам недостает оправданий для Бёрка, ответственность за спасение лежит на нас. Правда также в том, что нам не хватает и воли Пейна. Мы сознаем ответственность за утверждаемые нами принципы, но очень редко — за предпринимаемые нами действия. 307 Глава 10. Идеал общей морали ^ 10 ИДЕАЛ ОБЩЕЙ МОРАЛИ Демократия пришла в современный мир, выступая против представителей феодального и теократического прошлого. Сегодня среди ее оппонентов на мировой арене — террористы, диктаторы и преступные боссы, применяющие насилие, устрашение и использующие крайнюю бедность чтобы вселять в людей страх и безысходность. Тем временем, некоторые многонациональные корпорации заключают сделки с убийцами, лишь бы это было в их экономических интересах. Взамен они получают покорных работников, в большинстве своем женщин, желающих работать и при крайне низкой заработной плате, а также свободу для ведения полулегального бизнеса и злоупотреблений в отношении окружающей среды. В номинально демократических государствах они покупают выборы, разрушают профсоюзы и пытаются контролировать информационные потоки. Они стремятся создать рабочую силу, так и ждущую подлизаться к боссу и готовую работать при несправедливом вознаграждении. В области маркетинга они — специалисты, апеллирующие к алчности и зависти. Им нужны наши наличные и наша терпимость по отношению к тому, что они сделали со страной, озоновым слоем, своими служащими и их клиентами. Их план для последних, включая наших детей, состоит в превращении их в потребителей, идентифицирующих себя в основном с дорогостоящими эмблемами стиля жизни, которые рекламируются для специфических анклавов: костюмы от Армани и кофеварки эспрессо — для одного круга, рэп и баскетбольная обувь — для другого. Этническая и религиозная борьба процветает, расовое разделение углубляется, разрыв между богатыми и бедными расширяется, и миллионы сегодня находятся в рабстве у преступников, торгующих людьми. Когда пал международный коммунизм, ученые мужи самодовольно заявили о всемирной победе демократии. На деле же, однако, демократия теряет больше, чем приобретает. В эпоху глобальной экономики и всеми разделяемых забот о международном терроризме демократам никогда еще не было так важно заявить о своих 308 ^ 10. ]¶) ¤ притязаниях и повсеместно обмениваться соображениями с людьми, не выказывающих приверженности демократии. И все же кажется неприятно очевидным, что есть одна вещь, которую мы не можем принять на веру в этих усилиях, а именно: существование общественной морали, единственного пути говорить и думать об этических вопросах, уже являющихся всеобщим достоянием человечества. Неудача демократических движений и учреждений в странах, где страх, ненависть, алчность и покорность являются правилом, это доказывает. Угнетенные люди часто обнаруживают привлекательность демократических идеалов на расстоянии, но эти идеалы прежде всего суть выражения демократической культуры. Они бессмысленны, когда находятся в отрыве от логических практик и тенденций в поведении людей, которые привыкли доверять друг другу и определенным образом советоваться. Прописывание демократических идеалов в конституции или трактате без первоначального посвящения людей в соответствующие социальные практики ко многому не приведет. В первой части этой главы защищается поэтапный, прагматичный подход как единственно реалистичное средство построения общей демократической морали. Дело демократического проекта — привести как можно больше групп в дискурсивную практику ответственности друг перед другом за обязательства, поступки и институциональные урегулирования безотносительно к социальному статусу, богатству или власти. Поскольку задействуется вся практика, а не просто удаленные от нее идеалы, общая мораль может быть достигнута лишь постепенным построением дискурсивных мостов и сетей доверия в конкретных структурах. Некоторые философы, симпатизирующие демократическим принципам, думают, что в рамках данного подхода недооцениваются нравственные ресурсы, которыми обладают все люди. Они также беспокоятся о том, что мой подход, несмотря на утверждение безусловных обязательств и прав человека, вынуждает выглядеть приверженность демократии слишком случайной и зависящей от обстоятельств, слишком условной и зависимой от перспектив определенной культуры. Они призывают непосредственно к морали, которая, на их взгляд, уже является всеобщей собственностью человечества. И эта мораль, как они считают, не просто общий образ мысли и свод разговоров о вопросах морали (то есть дискурсивная практика), но и кодекс нравственных истин, который следует применять только для осуществления конкретного морального руководства в спорных вопросах. Это закон, превосходящий обычаи 309 любого народа. Традиционные теоретики естественного права считают, что всем нам открыт когнитивный доступ к этому праву, по крайней мере, в значительной степени. Если они правы, демократическая программа должна быть более простой, чем кажется в настоящем. Позже в этой главе я буду доказывать, что они неправы. Споры быстро выходят на глубокие философские воды, где возникают вопросы о природе оправдания и истины в этике. Это обескураживающие вопросы, которые также будут занимать нас в следующей главе, но с ними придется столкнуться, если спор заходит слишком далеко. Его смысл, как я понимаю, состоит в том, чтобы помочь нам вернуться в конце к практическим задачам построения сообщества так, чтобы наша моральная уверенность осталась неприкосновенной. Как говорит герой «Истории из зоопарка» Эдварда Элби: «Иногда стоит пойти долгой и неверной дорогой, чтобы пройти правильно короткую». <<( § §<( ]¶) ¤? (Заголовок?) Место действия — Босния, Иерусалим, Зимбабве или Чикаго. Две группы конфликтуют по поводу какого-то вопроса, и мы хотели бы разрешить конфликт разумно и мирно, прибегнув, если это возможно, к демократическим принципам. Нам понадобится знать, до какой степени моральный словарь и образцы рассуждений, употребляемые двумя группами, походят друг на друга или могут быть сближены. Если степень схожести велика, мы говорим о том, что данные группы обладают общей моралью. Если большое сходство может быть достигнуто приемлемыми средствами и члены групп желают употребить подобные средства, мы считаем, что перспективы для такой общей морали существуют. В данном контексте вопрос о перспективах общей морали выражает практический интерес — для действующих демократов он может, и даже очень, быть животрепещущим. Тот же вопрос может выражать и другой интерес. Мы замечаем, что не все думают и говорят о моральных темах одинаково, так что хотелось бы объяснить различия философски. Ни у кого нет сомнений, что различия существуют. Но если различия слишком велики, мы можем чувствовать себя вынужденными нигилистами, скептиками или радикальными релятивистами. Нигилист оставляет идею о том, что нравственная истина существует. Скептик отбрасывает идею о том, что мы оправдываемся верой в какие бы то ни было нравственные истины. Радикальный релятивист отбрасывает идею 310 ^ 10. ]¶) ¤ о том, что мы можем оправданно применять моральные суждения к людям, поступкам и практикам за пределами нашей собственной культуры. Если учесть такие альтернативы, хорошие перспективы всеобщей морали принесут утешение. Если моральное многообразие обнаруживается в одних установленных для всего мира рамках, и различия в том, как люди думают и говорят о делах нравственности, могут быть объяснены с точки зрения более глубокого сходства, тогда уверенность в нравственной истине может быть восстановлена в оправданной моральной вере и в возможности межкультурного морального суждения. Практические и философские интересы возникают независимо друг от друга, но они часто становятся взаимосвязанными. Сомнения в том, как реагировать на специфические случаи нравственного конфликта, могут привести к философской рефлексии о природе нравственности, и философская рефлексия может повлиять на практический подход к конфликтам, с которыми кто-либо сталкивается в жизни. Однако по возможности стоит различать два типа вопросов. Иначе мы рискуем создать путаницу в том, что следует считать в данном контексте всеобщей моралью. Когда мы хотим разрешить конфликт между двумя группами, то подразумеваем какую-то одну вещь под перспективой общей морали. Когда мы хотим оценить нигилизм или скептицизм, то обычно имеем в виду что-то другое. Наш вопрос о перспективах всеобщей морали затруднителен и слишком громоздок для хорошего ответа. Его надо упростить. Что делает его таким трудноразрешимым? Это в действительности нагромождение вопросов, каждый из которых может быть задан теми же словами. Они нуждаются в разделении. Как приступить? Разделяя разные вопросы, отслеживая каждый до его сути и затем наблюдая, приходят ли вопросы легче — путем анализа, но с прагматическим намерением. Разумеется, две группы будут разделять представления о морали, если их образ мысли и речи о делах морали будут одинаковы во всех отношениях. Но, конечно, очевидно, что такой пары групп не существует. В обычном смысле мораль каждой группы уникальна, отличаясь в определенном отношении от любой другой. Ни один исследователь этики не сможет это отрицать. Когда мы проводим сравнения среди типов морали, мы считаем определенные аспекты сходства и различия как существенные, а другие — нет. Что считать существенным в данном контексте зависит о того, какие интересы являются мотивацией сравнения. По тому же показателю мы счита311 ем разнообразные степени сходства в интересующих нас аспектах сравнения достаточными для установления того, что две или более групп имеют общую мораль. И релевантная степень сходства зависит опять-таки от непосредственного интереса. Не все говорят и думают о вопросах морали. Например, ими не задаются новорожденные, душевнобольные или находящиеся в коме. Возможно, и некоторые общества. Но для двух людей, думающих и говорящих о вопросах морали, само собой разумеется, что их поведение (короче говоря, их моральные принципы) в некоторых отношениях будет схожим. Мораль любого человека в чем-то похожа на мораль всех остальных. То, что все моральные правила представляют собой способы мышления и речевого выражения, само по себе является тем, что их объединяет, что гарантирует самые различные формальные и функциональные сходства. Тот факт, что вся мораль состоит приблизительно из одних и тех же тем, также нечто объединяющее. Так, можно ожидать, что субстантивные моральные обязательства любых двух групп в некоторой степени будут походить друг на друга. Допустим, что единообразие есть такое соотношение, в котором все моральные принципы очень похожи друг на друга. Мнения теоретиков расходятся по вопросу о том, что из себя представляет подлинное единообразие, степень сходства, в котором оно заключается, и их релевантность по отношению к различным практическим и пояснительным вопросам. Но они едины во мнении, что такое единообразие существует. «Моральность», как я ее понимаю, есть способ мыслить и говорить об особом типе вопросов. Если бы даже мне надо было точно определить, что это за способ мышления и речи, термин «моральные принципы» все еще был бы неясным ввиду размытости границ тем, называемых нами моральными. По большей части с такой неопределенностью можно мириться по двум причинам: во-первых, поскольку она редко проявляется, так как большинство случаев, обсуждаемых нами, находятся на определенном расстоянии от нечетких границ; во-вторых, потому что когда она действительно проявляется, это обычно разрешается контекстуально. Когда мы сталкиваемся с инородной группой и чуждыми нам речью и мышлением, мы берем первичные знаки из привычного использования термина «мораль», воплощенные на тот момент в нашем повседневном дискурсе. Если некоторые из вопросов, о которых иностранцы думают и говорят, выражают полное сходство с вопросами, которые мы привычно для себя именуем моральными, мы можем в большинстве случаев безошибочно описать их способ мышления и речи о дан312 ^ 10. ]¶) ¤ ных вопросах как мораль. Полное сходство само по себе — нечеткое понятие, состоящее из «бесчисленных сходных элементов и различий в бесчисленных сравнительных связях, уравновешенных по отношению друг к другу в соответствии с относительной важностью, которую мы придаем этим сравнительным связям» (1). Смутность проистекает из неустойчивости относительной важности в различных контекстах. Мы можем решить проблему неопределенности, если понадобится, уточняя, какие отношения и сравнительные связи являются важными при наших текущих отношениях. Предположим, наш интерес практический и весьма ограниченный. Мы спрашиваем, каковы перспективы для обычной морали в Белфасте. Нас интересует в конечном итоге, может ли конфликт между живущими там католиками и протестантами быть разрешен в ходе демократической дискуссии и что может быть для этого сделано. Рамки интересующего нас классового сравнения относительно узки. В данном контексте нам не надо волноваться о затерянных племенах, древних египтянах или человечестве в целом. Какие же аспекты сравнения нам важны? В основном это различия, которые отвечают за создание и поддержание конфликта, а также сходства, которые наиболее вероятно помогут его уладить. Большинство из нас интересует множество различных моральных конфликтов. Было бы прекрасно, если бы теоретики смогли показать, что все подобные конфликты могут быть разрешены в рамках одного набора моральных принципов. (По-видимому, это потребует либо очень большого набора истин об определенных частностях вместе со средствами их узнавания, либо небольшого набора принципов с определенными средствами для соотнесения с ними конкретных случаев.) Затем следовало бы сказать, что существует очень устойчивая общая мораль, которая относится одновременно к целому ряду практических и философских интересов. Многие теоретики пытаются доказать существование морали, обладающей способности выносить решения. Но даже если, как я подозреваю, все они и потерпели неудачу, и даже если эти неудачи, как я считаю, будут продолжаться, возможность постепенного прогресса остается. Что может означать разбирать каждый конфликта в отдельности и стараться изо всех сил найти средства к решению в чем угодно, что делает рассматриваемые моральные принципы сходными. (Если это не получается, всегда можно опробовать более тщательный подход, обозначенный термином «обсуждение» в главе 3.) Возможность вынесения решения в данном случае не зависит от гарантии решения во всех случаях. Вероятней всего, ре313 шение будет удачней в большем количестве случаев, если оно позволит опираться на местные сходства, а не только на те, что являются глобальными. Конечно, не все типы сходности помогут, некоторые будут мешать. Бывает, что моральные принципы сродни друг другу. Родство — это особый тип сходства, получаемый в результате общей, до определенного момента, истории развития, затем расходящейся. Протестантизм и католицизм — члены одной и той же этической семьи. Их моральные принципы являются ответвлениями от одного и того же ствола. Их родство помогает установить характер конфликта в Белфасте, как плохие, так и хорошие стороны. Это вводит близкое сходство в словарь, отношения и логические умозаключения, которые могут оказаться полезными при вынесении решений. Однако это также означает, что каждая группа определяет себя, отталкиваясь от другой, таким образом закрепляя всевозможные различия. В сравнительной этике, как и в народной генеалогии, семейное древо особенно жестко там, где ветви отходят от ствола. Конфликтующие моральные принципы двух групп параллельны друг другу лишь в случае, когда они развивались вдоль крайне схожих линий, не ответвляясь от одного ствола. Множество сельских сообществ имеют параллельные моральные правила, структурированные вокруг иерархической системой ролей. Мир морали состоит из отцов, матерей, старших сыновей, младших сыновей, дочерей, друзей, соседей, чужаков, врагов и так далее. Чтобы знать, как реагировать на других в подобном мире, нужно знать, какие роли вы выполняете, какие роли выполняют они и какие отношения складываются между вашими и их ролями. Все обязанности и права конкретизируются ролями и относятся в основном к распределению почтения, признаваемого доминирующим благом. Конфликты между подобными группами часто начинаются с оскорбления, проходят цикл жестокой мести и порой оканчиваются переговорами, призванными ограничить кровопролитие. Различия между чужаками и врагами, сопровождаемые параллельными правилами, требующими гостеприимства для первых, могут сдерживать такие группы от конфликта продолжительные периоды. Но параллельные обязательства почитания как доминирующего блага и мести, как средства охранения почтения могут поддерживать конфликт. Две группы с независимой историей и относительно несхожими моральными принципами могут вступать в конфликт, когда одна побеждает или подчиняет себе другую. Если Антонио Грамши и Ми314 ^ 10. ]¶) ¤ хаэль Вальцер правы в отношении подобных случаев, доминантная группа практически всегда старается оправдать свое господство над угнетенными (2). Во время представления своих оправдательных аргументов доминантная группа знакомит свои жертвы с прежде неизвестными моральными принципами, понятиями и идеалами, которые при новом применении могут быть использованы самими угнетенными для оправдания восстания. И когда, например, это происходит, то одни моральные принципы приобретают грамшианские сходства с другими. Антиколониальную и революционную борьбу сегодня защищают в основном в свете заимствованных идей, оторванных от одной морали и привитых к другой. Грамшианские сходства могут скорее повысить, чем понизить вероятность конфликта между двумя группами. Однако они также значительно повышают степень совпадения среди существующих типов морали, что оказывается благотворным для развития демократии. Одним из непреднамеренных плодов империализма и всемирного капитализма является то, что множество групп, появившихся на периферии мировой системы, оправдывают себя на языке прав, свободы и самоопределения — современный европейский побег, привитый множеству туземных стволов. Морали этих групп до определенной степени параллельны друг другу, в то время как каждая из них обладает грамшианскими сходствами с моральными принципами колониальных держав. Далее случаи морального конфликта происходят подобным же образом. Я упомянул лишь несколько, но даже этот ограниченный образец достаточен, чтобы показать, что задача вынесения решения принимает самые различные формы от одного типа случаев к другому. Любому, кого действительно волнует разрешение моральных конфликтов, следует перейти к рассмотрению специальных случаев с как можно более узкими рамками проведения сравнения. Такая политика максимизирует сходства, имеющиеся в наличии для вынесения решений по каждому случаю, путем минимизации числа сравниваемых групп. Если бы мы заранее знали, каково моральное сходство, то всегда могли бы к нему, в случае если они необходимы, обращаться вне зависимости от обстановки. Это бы только приветствовалось. Но мы можем обойтись без такого знания, по практическим соображениям веря в то, что, каково бы ни было единообразие, оно обязательно окажется локальным среди сходств, полученных в конкретном случае. Если же мы не можем определить его характер, то что из того? При вынесении решения в реальной жизни это не важно. Чем больше сходств, тем лучше. 315 §& У философов есть свои причины отличать одно от другого. Одна из них заключается в том, что они хотели бы знать, какие существуют ресурсы для реагирования на моральный скептицизм. Эти ресурсы были бы очень мощными, если бы существовала общая мораль с чем-то вроде «сильного чувства ответственности», упомянутого в предшествующей дискуссии. Любой набор сходств среди моральных правил, способный разрешить все моральные конфликты, должен также быть способен опровергнуть всех скептиков. Это должно получиться, если показать скептикам не только то, что они оправданы в их моральных убеждениях, но что оправданы некоторые или все убеждения. Я отвергаю моральный скептицизм. Я утверждаю, что многие из нас оправданы нашими некоторыми моральными убеждениями. Какие бы доводы ни давали скептику уверенность в их отрицании, я остаюсь непреклонен. Однако утверждать, что многие из нас оправданы, имея некоторые (нетривиальные) моральные убеждения, не то же, что утверждать, что кто-то установил ряд (нетривиальных) моральные убеждений, приняв которые, каждый человек или мыслитель, независимо от контекста, будет оправдан. Поэтому сомнение в последнем утверждении не делает из меня, как указано выше, морального скептика. Я скептичен только в отношении одной претенциозной попытки опровергнуть моральных скептиков. За моими сомнениями стоит идея, что оправдание верой во чтолибо при наличии возможности верить в это, есть статус, способный изменяться от контекста к контексту. Поскольку один контекст отличается от другого, не каждый оправдывается, веря в одни утверждения. Это верно в отношении как неморальных, так и моральных утверждений. Куайн был оправдан, веря в теорему Гёделя о том, что завершенная дедуктивная система невозможна для любого фрагмента математики, включающего элементарную теорию чисел. Евклид не верил ни во что подобное, хотя и не по своей вине. Куайн, в отличие от Евклида, был обучен думать и говорить на языке логики двадцатого века, так что у Евклида просто не было необходимых концептуальных средств, чтобы учесть те утверждения, что был способен учитывать Куайн, включая те, что фигурируют в рассуждениях Гёделя в его теореме. Куайн также имел преимущество доступа к самому доказательству Гёделя, осуществленному к 1931 году. Доказательство служило Куайну свидетельством, оправдывая его умозаключение. Изучив и поняв доказательство, Куайн 316 ^ 10. ]¶) ¤ уже не мог не верить его результатам. Если бы вы могли совершить путешествие в прошлое, посетить Евклида, и побудить его принять во внимание вывод доказательства Гёделя, не изменяя его эпистемического контекста, он бы не мог оправданно верить в него. Если бы он не верил в это, вы бы не могли обвинить его в бездоказательности, так как вы понимаете, что два человека могут быть правы, имея разные убеждения, учитывая различные словари, стили рассуждения и имеющиеся в их распоряжении и в соответствующих контекстах доказательства. Теперь рассмотрим роман Иньяцио Силоне «Хлеб и вино», действие которого происходит в Италии 1930-х (3). Главный герой романа Пьетро Спина, социалист, вернувшийся из ссылки, переодетый священником, живет среди крестьян своего родного Абруцци, в котором он надеется организовать революционное движение. Крестьяне Абруцци придерживаются морали такого типа, кратко описанного в моих рассуждениях о параллельных моралях среди сельских групп. Несмотря на принятие ими некоторых христианских взглядов на безусловные обязательства, по большей части их мораль — мораль ролевых обязанностей, мораль, в которой почет доминирует над остальными благами. Спина побывал в кругах, в которых не бывали крестьяне. Его эпистемический контекст отличается от их контекста. Он учитывает утверждения, выраженные моральным словарем, которого у них нет, его рассуждение следует различным образцам и поэтому он не верит в большинство из того, во что верят они. Время, проведенное среди крестьян, меняет его. Это также влияет на контекст его этических рассуждений. Потому он оставляет некоторые свои моральные убеждения, которые были у него во время ссылки, приобретя взамен них новые. Но он не просто обращен в крестьянскую мораль. Силоне не романтик. Он старательно показывает, что кто-то, чья жизненная история подобна жизни Спины, не сможет принять некоторые крестьянские верования, например, в эффективность использования воловьих рогов для отвращения зла, в моральные последствия покорности перед судьбой или просто в справедливое обращение с неженатой беременной женщиной. Спина отвергает подобные верования, и такое отвержение оправданно. Однако он не осуждает крестьян за их верования. Их вера, даже в вымыслы, также оправданна, принимая во внимание ограничения их контекста. Конечно, быть может, Силоне представил ложную картину того, кто и во что оправданно верил в Италии около 1935 года. Для моих интересов важно лишь то, что среди типов морали существуют раз317 личия, как те, что описаны в романе Силоне, и что они привносят что-то отличное в наши суждения о праве на этические обязательства, о которых я упоминал. Роман Силоне иллюстрирует тот факт, что есть важные различия в том, какие моральные убеждения люди в различных контекстах могут оправданно принимать. Не может ли все-таки быть, что существуют некоторые (нетривиальные) моральные утверждения, в которые каждый может оправданно верить, общая мораль для философов? Несмотря на все то, что я уже сказал, остается возможность, что они действительно есть, хотя я считаю перспективу их обнаружения маловероятной. Я говорю о «каждом». Может показаться, что масштабы сравнения уже не могут быть больше. Однако не надо учитывать каждого человека. В данном контексте мы можем не считать новорожденных, душевнобольных и находящихся в коме. Для их исключения, допустим, мы сосредоточиваем наше внимание на рациональных пользователях норм. Можем ли мы тогда четко определить рациональность, так чтобы любой, кто не может принять определенные моральные утверждения, выпадает из класса сравнения? В самом деле, можем. Мы можем достичь сходного результата, определив термин «моральный» узко, так что права человека или уважение к людям как сами по себе цели суть единственные моральные вопросы. Ничто не мешает нам определить такие термины так, как нам нравится. Но если определения будут произвольными, предназначенными лишь для исключения потенциально релевантных контрпримеров этим тезисам, мы ничего не достигнем. Единственным релевантным понятием рациональности было бы то, которое мы могли бы использовать, делая защищенными нормативные суждения о самых разных людях, в настоящем занявшихся моральными рассуждениями, включая и нас. Прекрасно видно, что однажды мы будем оправданы за наше значительное отклонение от убеждений, в которые в настоящий момент мы оправданно верим. Поэтому было бы глупо определять рациональность так, что наши будущие личности, со всеми их возможно серьезными причинами для отклонения от нашего пути, были бы тем не менее по определению исключены из класса рациональных субъектов. Наши будущие личности заслуживают от нас лучшего обращения. А также крестьяне Абруцци, отдаленные аборигены и древние египтяне. Любой — в прошлом, настоящем, будущем — может вовсе и не оказаться рациональным, — люди есть люди. Но наш нормативный вердикт о рациональности кого-либо не может быть установлен по априорному определению, и в любом случае необходимо действовать, обраща318 ^ 10. ]¶) ¤ ясь к деталям контекста, с передачей бремени доказывания стороне обвинения. Не вижу возможности сказать, какой новый словарь морали, стиль рассуждения или форма доказательства может появиться в скором будущем, в находках антропологов и историков или в рукописях гениев-творцов и реформаторов морали. Не вижу я и способа сказать заранее, как подобные новшества будут воздействовать на список обязательств, на которые люди будут иметь права. Евклид был бы очень удивлен, услышав о теореме Гёделя. Кант был бы очень удивлен, увидев влияние теории относительности Эйнштейна на статус некоторых утверждений, бывших для него абсолютно доказанными. Ни Евклид, ни Кант не могли знать, как более поздние достижения изменят положение релевантных обязательств. Мы не в лучшем положении в этике. Возможно, наши отдаленные предки и не могли предвидеть те соображения, которые заставили нас отойти от их моральных умозаключений. Вполне вероятно, наши отдаленные потомки откажутся от некоторых наших утверждений в области морали, которые мы считаем удивительно глубокими или которые талантливый философ «доказал» к удовлетворению своих последователей; какие утверждения, мы сказать не можем. Смирение — лучшая политика. Смирение, полагаю, но не скептицизм. Так как я не отрицаю то, что мы оправданно имеем различные моральные убеждения, равно как и моральный скептицизм по принятому здесь определению. Как мы можем утверждать, что оправданно верим во что-либо и также соответственно скромно в то, что, как мы считаем, мы знаем? Говоря, что иметь оправдание должно соотноситься с контекстом и что релевантные особенности контекста могут изменяться неожиданным образом. До того как они действительно изменятся, мы можем оправданно верить в определенные вещи. Возможность изменения еще не причина оставлять то или иное убеждение. Но это причина рассматривать наше моральное знание как несовершенное. Если оправданность веры во что-либо зависит от контекста, и контекст может изменяться, возможно, к лучшему, тогда нам следует стараться оставаться открытыми для данной возможности. Демократические дискурсивные практики предназначены именно для подобной открытости. Линия рассуждений, отвергающая смирение относительно наших собственных убеждений, также отвергает милосердие по отношению к чужакам. Люди из другого времени или места способны верить в некоторые вещи, которые мы полагаем ложными, даже если они и мы одинаково оправданно придерживаемся наших 319 соответствующих верований. Вот чего нам следует ожидать, если оправданная вера во что-то — дело контекста. И пока мы неготовы пересмотреть наши собственные убеждения в конфликтные моменты, мы должны будем говорить под страхом внутреннего противоречия, что некоторые из их убеждений неверны. Но если мы не можем показать, что они приобрели свои убеждения неверным путем или вследствие невнимательности, нам лучше считать, что их верования оправданны. Пока мы находимся в таком положении, нам следует рассматривать возможность того, что их контекст дает им лучшие средства достижения истины, чем наши. Ранее я заметил, что быть оправданным за веру в определенное утверждение не то же, что быть способным оправдать это или оправдать свою веру (4). Идея требует здесь более развернутого пояснения. Существует множество легитимных путей приобретения убеждений. Принятие выводов убедительного оправдательного аргумента лишь одно из них. Многие убеждения приобретаются путем аккультурации. Вместе с Уоллстонкрафт и другими, я думаю, мы оправданно придерживаемся таких убеждений, исключая случаи, в которых у нас есть адекватное основание сомневаться или отвергнуть их, или когда по какой-либо другой причине (как преступная халатность по отношению к данным) мы небрежно выполняем свою исследовательскую работу (5). Как Витгенштейн и другие, я считаю, что многие из этих убеждений таковы, что мы бы не знали, как их оправдать незамыкающимся и информативным способом, даже если бы и пытались, и что жизнь слишком коротка, чтобы предоставить нам аргументы в поддержку многих из этих убеждений. Как Ч. С. Пирс и другие, я считаю, что если бы мы прекратили принимать подавляющее большинство из них на веру, вовсе не укрепляя способность скрупулезного мышления, мы бы потеряли способность мышления как таковую. Имеет смысл сказать, что мы можем оправданно принять убеждение, приобретаемое путем аккультурации, даже в отсутствие оправдывающего аргумента. Неразумно требовать оправдательных аргументов на все случаи. Скептики неправы, выдвигая это требование, их оппоненты — неправы, когда пытаются на него ответить. Доказательство утверждения, в отличие от оправдания за свою веру в определенное утверждение, есть деятельность. Результатом такой активности является оправдание. Допустим, что оправдание утверждения, что P есть ответ на вопрос «Зачем верить этому P?» (6). Если ответ удачен, мы скажем, что рассматриваемое утверждение доказано. Тогда в чем же заключается успех доказательства? 320 ^ 10. ]¶) ¤ В снятии релевантных оснований для сомнений в этом P. Какие основания для сомнения в P релевантны и что является достаточным для их снятия? Это зависит от контекста, и в особенности от людей, которым адресовано оправдание. Назовем класс подобных людей аудиторией оправдания. Основания для сомнений в P релевантны, если они препятствуют или могут препятствовать оправданию веры в P эпистемически компетентного и ответственного члена аудитории. Релевантные основания для сомнений в P устранены, когда вера каждого члена аудитории в P оправдана. Иногда мы говорим об оправдании претензии к кому-то, к себе или кому-то другому. В подобных случаях аудитория оправдания точно определена. Я оправдываю требование к себе, когда конструирую или отрабатываю аргумент, оправдывающий меня за мое убеждение, мою веру. Я оправдываю требование к кому-то другому, S, когда я конструирую или излагаю аргумент, который оправдывает S за его веру. Чаще всего мы говорим просто об оправдании утверждения, оставляя контексту определение аудитории. Философы долгое время пытались обнаружить, в особенности абстрагируясь от любого контекста, каким условиям должно отвечать успешное оправдание морального требования. При этом они обычно обращали внимание исключительно на особенности этического оправдания в качестве аргумента и часто терялись в догадках по поводу статуса первых принципов или логического перехода от неморальных предпосылок к моральным выводам. Теперь мы можем видеть, почему они не добились большого успеха. Если мой анализ верен, абстрагирование от контекста в теории оправдания не может не закончиться неудачей. Оправдания суть ответы на вопросы типа «почему». Как таковые они зависимы от контекста: во-первых, потому что контекст беседы определяет вопрос, ответом на который, а также и типом требуемой информации считается оправдание; во-вторых, потому что разговорный контекст определяет аудиторию оправдания; в-третьих, поскольку успешность оправдания может быть установлена лишь относительно его аудитории, включая ее релевантные основания для сомнений и обязательства, которые она может принять (7). Теперь следует затронуть литературу по этике. Например, ктото предлагает некий верховный моральный принцип. Он только выдуман, еще не вошел в оборот, и у нас есть свои сомнения. Откуда вопрос: «Почему этому верить?» Блестящий философ выстроит доказательство. Оно состоит из аргумента, относительно сложного, но не настолько, чтобы философски проницательный человек 321 не смог за ним уследить. Предположим, что после прилежного изучения мы принимаем его предпосылки за истинные. Мы не находим ошибок в доказательстве и причин сомневаться в его обоснованности. Мы можем сказать, как коллеги Гёделя, в случае с его теоремой, что оправдание успешно. Поэтому мы принимаем новое предложение как верховный моральный принцип и оправданно верим в его истинность. Я совсем не отрицаю, что это может произойти. И я хочу настоять на важности рассмотрения ограничений того, кого, вероятнее всего, могло бы коснуться подобное оправдание как основание принятия этого заключения. Иначе мы будем стремиться преувеличить то, что было бы показано оправдательным аргументом. Следует отличать целевую аудиторию оправдания от наличной. Чем бы ни была целевая аудитория оправдания, его наличная аудитория не может превосходить класс людей, понимающих словарь, на котором оно проходит, и освоить необходимые для его понимания образцы рассуждения. Рамки реальной аудитории не установлены; они могут быть расширены педагогическими средствами или миссиями к язычникам. Но стоит напомнить себе, что реальные аудитории всех оправданий, произошедших в человеческой истории на данный момент, были ограничены, в особенности аудитории философских доказательств. Пусть мы говорим себе, что обращаем наши оправдания всем рациональным субъектам; наши утверждения не влияют на то, во что другие люди оправданно верят. Мы можем расширить членство реальной аудитории оправдания лишь за счет одного. Демократический этический аналог теоремы Гёделя, даже если бы он был оправдан к удовольствию всех живущих философов, не стал бы тем самым общей моральной собственностью человечества. Множество людей, включая крестьян Абруцци и (по всей вероятности) членов собственных семей великих философов, все еще не видело бы реальной причины его принять. Основания для его принятия были бы основаниями других людей, не их самих. С нашей стороны было бы жестоко осуждать их за такое неприятие, так же как было бы жестоко со стороны Куайна обвинять Евклида за неудачу в предвидении Гёделя или обвинять Канта за неспособность предвосхитить Эйнштейна. Если любимый крестьянин Пьетро Спины или мой нефилософствующий родственник примут верование, идущее вразрез с нашим новым верховным моральным принципом, их верование все еще может быть оправдано. Наше доказательство не имеет места в их эпистемическом контексте. 322 ^ 10. ]¶) ¤ Есть и другое направление, в котором наши оправдания должны быть адресованы ограниченной аудитории. Оно связано с политикой смирения. Будущие поколения окажутся в чуждых нам эпистемических контекстах. Мы не знаем, в отношении чего будут определяться несходства, так что мы не можем знать, каковы будут их основания для сомнений или во что они смогут оправданно верить. Следовательно, мы не можем знать, насколько успешными наши оправдания будут для них. Так что будет глупо обращать наши оправдания к аудитории, состоящей из всех участников логического рассуждения, независимо от времени и места (8). Мы могли бы добиться всего лишь невозможности установить успех наших оправданий, и потому вопрос успешности будет бессмысленным. Мы знаем по опыту, что оправдания могут быть ошибочными. Требовать, чтобы они были непогрешимыми, значит не понимать важнейшую роль, которую они играют в нашей жизни. Оправдания успешны, если они устраняют основания для сомнений. Возможные основания для сомнений у будущих поколений, конечно же, нам недоступные, едва ли считаются релевантными в нашем контексте. Ни один логик не станет отвергать теорему Гёделя просто потому, что есть некоторые люди, которые отбросили бы рассуждения Гёделя как белиберду. Однако многие философы уделят самое пристальное внимание вопросу о том, что бы можно было сказать философски настроенному нацисту. Их беспокойство кроется в том, что если кто-либо не может обосновать свои моральные убеждения перед воображаемым нацистом, то он неоправданно имеет подобные убеждения. Такое беспокойство может проистекать из бесчисленного количества источников. Одним из них может быть тенденция смешивать оправданную веру во что-либо со способностью оправдать это; другим может быть ошибочная идея, что успешные оправдания должны быть адресованы универсальной аудитории. Мы сосредоточимся на последнем, так что, возможно, нам следует спросить, серьезно ли философ намеревается сказать, что нацисты морально компетентны. Если нет, почему их основания для сомнения должны восприниматься как релевантные для оценки наших моральных убеждений? Люди, чья жизнь демонстрирует их неразумность, и в особенности чрезвычайно порочные, очевидно, не являются знатоками моральной истины. Нацисты настолько порочны, что легко ожидать деградации их способности реагировать на наши рассуждения. Если они сомневаются в наших моральных заключениях, мы должны ожидать затруднений при убеждении их рациональными аргументами. Их основания для сомнений не должны устраняться до того, как мы будем считать 323 себя вправе отвергнуть их убеждения как ложные. Конечно, если мы прельстимся рассуждениями нацистов, то будем чувствовать, что нам нужно опровергнуть их заключения, чтобы оправдать наши. Речь не о том, чтобы обязательно убедить реальных нацистов, которые могут просто повертеть каблуком и плюнуть на наше великолепно обоснованное опровержение. Моя мать — не философ и не нацист. Может быть, она не компетентный знаток утонченных философских доказательств, но она мудрая женщина, компетентно судящая о самых разных моральных истинах. Так что если она сомневается в истине предположительно верховного морального принципа, поскольку очевидно, что он противоречит ее устойчивым убеждениям в отношении определенных ситуаций, ее основания для сомнений могут быть релевантными по отношению к эпистемическому статусу принципа. Если принцип противоречит ее взглядам на преступность убийства, например, философ должен будет принять это в расчет. Задача будет заключаться в том, чтобы объяснить, как она могла прийти к вере в утверждение, несовместимое с истиной предложенного принципа. Ее компетентность как судьи делает ее основания для сомнений релевантными. Когда другие расходятся во мнениях с нами по поводу истинности вещей, в которых они компетентны, нам зачастую приходится оправдывать наши собственные взгляды, объясняя, как они поверили в ложные утверждения. В результате неудачи при подборе объяснения их явной ошибки часто оказывается, что мы неоправданно верим в утверждение, принять которое в другом случае мы имели бы полное основание. Для нас может быть более разумным изменить решение по спорному предмету, чем утверждать, что участники нашего спора имеют необоснованное убеждение, и оставить это без объяснения. & Эпистемологическая заинтересованность в опровержении или оценке скептицизма — это лишь один из предметов, заставляющих философов спорить о перспективах общей морали. Одно дело спрашивать, есть ли моральные утверждения, в которые каждый может оправданно верить, или нужно ли нам искать универсальную аудиторию для оправдательных аргументов. И совсем другое дело — спрашивать, существуют ли моральные истины, можем ли мы, называя их истинами, подразумевать гораздо большее, чем если бы они были просто истинами для нас, или применимы ли мо324 ^ 10. ]¶) ¤ ральные утверждения к каждому. Требует ли от меня контекстуальный взгляд на оправдание, защищаемый в предыдущей дискуссии, ответить на эти вопросы отрицательно, связывая меня с релятивистской концепцией истины? Во-первых, следует сказать, что на протяжении всей главы я использовал понятие моральной истины либерально. И я делал это намеренно. Например, в тот момент, когда я сказал, что Пьетро Спина не соглашался с крестьянами Абруцци в отношении того, что значит справедливое обращение с незамужними беременными женщинами. Говоря это, я подразумевал, что Спина и крестьяне поддерживают одно и то же утверждение, истинное либо ложное, и что при несогласии по поводу данного вопроса либо он верит в ложное утверждение, либо они. Нигилисты, отвергающие саму идею моральных истин, не могли бы описать случай произошедшего здесь морального конфликта. Им надо было бы описать его заново, не опираясь на представление о моральной правде и, скорее всего, приходя к выводу о том, что Спина и крестьяне ошибаются в отношении природы их конфликта. Но я не вижу адекватной причины для переосмысления этого случая таким образом, не говоря уже о том, что вытекает из моего контекстуального анализа оправдания. Кому-то захочется утверждать, что взгляд крестьян истинен для них, так же как взгляд Спины истинен для космополитических итальянских социалистов. Если это лишь означает, что крестьяне принимают за истину свои взгляды, а Спина — свои, нет смысла обсуждать утверждение, так как это просто будет пересказом того, что я уже предположил. Иногда мы действительно используем выражение «P истинно для S» как синоним для выражения «S верит в P» или «S принимает P как истинное». Что если целью утверждения было бы предположение, что мы должны воспринимать «P как истинное», подразумевая, что «P истинно по отношению к М», где М обозначает мораль говорящего? Это сделало бы утверждение более интересным, но также столкнулось с моим анализом морального разнообразия. Пожалуй, я ввел релятивистскую концепцию об истине, описывая моральный конфликт, совсем некстати. Не хотелось бы этого (9). Релятивистская концепция истины скорее стирает несогласие между группами, чем делает его понятным. Сказать, что взгляды Спины по отношению к морали его группы истинны и что взгляды крестьян истинны по отношению к их морали, будет означать, что оба взгляда могут быть справедливыми одновременно и что 325 взгляды ни одной из сторон не влекут отвержение взглядов другой. Но Силоне не описывает отношения между моральными убеждениями крестьян и Спины таким образом. В противном случае его роману не доставало бы моральной напряженности: Спина бы понастоящему не спорил с крестьянами по вопросам, в которых он проявляет твердость, и не был бы способен научиться у них тем вещам, мнение о которых он в конце концов изменит. Я, как и Силоне, считаю, что подобные моменты подлинного морального конфликта в жизни существуют. Я отличаюсь от нацистов во многих отношениях. Мы принадлежим к разным группам, каждая из которых обладает своим собственным способом мышления и речевого выражения по поводу моральных тем. Я также отличаюсь от нацистов и в другом отношении, так как я отвергаю различные принимаемые ими моральные обязательства, включая их взгляд на то, в чем состоит справедливое обращение с евреями. Факт несходства нашей морали не должен затемнять столь же важный факт нашего несогласия по поводу моральной истины. Если я прав в отношении справедливости, тогда нацисты неправы. Использование релятивистской концепции истины для переоценки наших различий должно разрушить конфликт, в котором, как мы считаем, мы находимся. Однако не защищал ли я версию релятивизма на протяжении первых двух подразделов данной главы? Ведь если так, не слишком ли поздно для меня дистанцироваться от релятивистской концепции моральной истины? Первая часть не подразумевает, что перспективы разрешения морального конфликта между двумя группами зависят от того, что представляют собой их соответствующие дискурсивные практики. Если угодно, допустим, что это релятивизирует разрешение. Во второй части действительно доказывается, что оправданно верить в моральное утверждение значит связывать себя с относительным статусом, и что успех оправдательного аргумента — это вопрос контекста. Допустим также, что это делает относительными и право, и само оправдание. Но не думайте, что эти доктрины связывают меня с релятивистской концепцией моральной истины, это не так. Решение, оправдание и истина — различные понятия, требующие отдельных объяснений. Первые два взаимосвязаны очень тесно, по той очевидной причине, что рациональное вынесение решения о моральном конфликте обычно включает представление доказательств людям, в надежде изменить то, во что они оправданно верят. Если оправдание (в обоих смыслах) относительно, то бу326 ^ 10. ]¶) ¤ дет неудивительно, если и вынесение решения будет таковым. Все это не подразумевает, однако, что каждое понятие, с которым мы сталкиваемся в этике (и других когнитивных усилиях), будет демонстрировать сходную относительность. Мое утверждение заключается в том, что понятие истины ее не демонстрирует. Поэтому будет непродуктивно суммировать мою позицию как утверждение, что мораль относительна. «Тезис морального релятивизма», как «тезис общей морали», по сути, вовсе и не тезис, а пересечение в концептуальном пространстве, в котором различные идеи имеют тенденцию сходиться и нуждаются в распутывании перед тем, как мысль сможет развиваться ответственно. Когда Спина полагает, что определенная данная практика несправедлива, а крестьяне в это не верят, либо он, либо они принимают ложь. Невозможно для утверждения и его отрицания быть истинным одновременно, в этике или где-либо еще. Но когда Спина верит утверждению, а крестьяне верят в его отрицание, и тот, и другие могут быть оправданы. Подобным же образом Спина может быть оправдан в его вере в моральное утверждение в один момент жизни и оправдан в отвержении точно того же утверждения в более поздний момент, тогда как истинность утверждения все время оставалась той же. Рассматривая данные возможности, мы видим, насколько по-разному работают понятия истины и оправдания. Именно потому, что они ведут себя так по-разному, имеет смысл сочетать контекстуальный анализ оправдания с нерелятивистским анализом моральной истины. Вот что, собственно, делает моя версия прагматизма. В следующей главе я продолжу отвечать на недовольство тем, что существует нечто парадоксальное в отношении этой комбинации тезисов. Контекстуальная эпистемология совместима с идеей, что существует моральный закон в следующем смысле: бесконечно большой ряд, состоящий из всех истинных моральных утверждений, без единого ложного или противоречия. Мы никогда не сможем усвоить бесконечное, включая истины на бессчетном количестве словарей; это поражает ум. Мы никогда не поверим, хотя можем оправданно верить, в более чем крошечный кусок истин. Большинство из них недоступно для нас — и потому разумно будет преследовать не истины. Если Бог философов существует, он верит им всем, и верит оправданно (10). Заметим, что закон морали в этом смысле не то же, что мораль, обсуждаемая ранее в этой главе. Это просто набор истин, а не способ мышления и речи (то есть дискурсивная социальная практика). 327 Не будет никакого вреда, если мы допустим, что есть набор таких истин, при условии, что мы строго избегаем отношения к этому как к чему-то, что мы сможем предположительно знать и применять. Это заключение тесно связано с тем, что Марк Джонстон назвал «практическим элементом» в прагматизме. Это, говорит он, лучше всего представлять как нормативное утверждение, посылку, что наш интерес к истине должен всегда быть практически ограниченным интересом, в принципе находящимся в пределах доступной истины (по крайней мере, ограничен этим и, вероятно, чемто более практически доступным) (11). Заметим, что это нормативное утверждение, как четко формулирует его Джонстон, не есть определение истины. Оно не определяет истину как доступную по своей сути, так что это не ведет к проблемам, связанным, например, с определением истины как гарантируемой утвердительности у Дьюи. Я счастлив допустить, что существуют не только доступные истины. Но формулировка Джонстона действительно имеет сильные последствия для управления нашими когнитивными и оправдательными практиками. Основная причина уделения внимания доступным истинам состоит просто для того, чтобы интересоваться истинами, которые недоступны — это в лучшем случае трата времени и в худшем — источник серьезно запутавшихся когнитивных стратегий. Нам не надо определять истину как Дьюи, чтобы поддержать это заключение. O&() A<& << ]¤­ §<@­ Люди далеки от совершенства в знании и добродетели. Нас не должно удивлять, что они выстраивают несовершенный моральный кодекс. Убеждения, воплощенные в их кодексах, слишком часто ложны. Поэтому мы уважаем тех, кто во имя моральной истины рискует своей жизнью вопреки несовершенным кодексам и намерению сильных людей принудить их к подчинению. Но в большую часть из того, что говорят эти герои в свою защиту, трудно поверить. Антигона в одноименной трагедии Софокла, защищалась от безжалостного Креонта, взвывая к «неписаным и надежным законам» богов. Говоря об указе оставить тело ее брата не погребенным, она сказала: «…не Зевс его издал, и не святая Правда, подземных сопрестольница богов» (12). Томас Джефферсон, объявляя о независимости от британской тирании, обращался к «законам природы Софокл. Драмы. — М.: Наука, 1990. — С. 138. — Пер. Ф. Ф. Зелинского. 328 ^ 10. ]¶) ¤ и Богу природы». Данный Бог был Богом деизма. Законы, которые он считал самоочевидными, были по большому счету законами Локка. Мартин Лютер Кинг, будучи баптистским священником в бирмингемской тюрьме, утверждал, что «несправедливый закон вовсе не закон» и определял несправедливый закон как «человеческий закон, не укорененный в вечном и естественном законе». Его авторитетами в рамках данной доктрины были Августин и Аквинат, но содержание морального права, с его точки зрения, проистекало из персонализма, которому он научился, получая докторскую степень в теологической школе Бостонского университета: «Любой закон, возвышающий человеческую личность, справедлив. Любой закон, унижающий человеческую личность, несправедлив» (13). Теологии Антигоны, Джефферсона и Кинга едва ли могли быть еще более различными: языческий политеизм, деизм Просвещения и тринитарное христианство. Когда они утверждают, что существует закон лучший и стоящий выше, чем искусственные построения человеческого общества, они разительно отличаются, когда речь заходит об источнике и субстанции этого закона. Останется ли что-нибудь от идеи, объединявшей их, если убрать все высокомерие и сомнительные метафизические одеяния? Посмотрим. Ф.П. Рэмси однажды выдвинул гипотезу, что законы суть «последствия тех предложений, которые нам следует воспринимать как аксиомы, если бы мы знали все и организовали бы все как можно проще в дедуктивную систему» (14). Гипотеза Рэмси принадлежит философии науки. Законы, которые он имел в виду, были законами природы в смысле ученого-естественника. Он лишь кратко упомянул об этой концепции законности в марте 1928 года, но в 1973 году Дэвид Льюис оживил и пересмотрел ее. Модифицированная версия Льюиса не опирается на представление о том, что бы мы знали, если бы мы знали все: «Вне зависимости от нашего знания или незнания существуют (как абстрактные объекты) бесчисленные истинные дедуктивные системы: дедуктивно закрытые, аксиоматизируемые ряды истинных высказываний. Некоторые из этих истинных дедуктивных систем могут быть аксиоматизированы проще, чем остальные. Кроме того, некоторые из них обладают большей силой, или содержанием информации, чем другие. Достоинства простоты и силы обычно конфликтуют. Простоту без силы можно получить от простой логики, силу без простоты — от (дедуктивного заключения) альманаха. Некоторые дедуктивные системы, конечно, ни просты, ни сильны. Мы ценим в дедуктивной системе правильно сбалансированную комбинацию 329 простоты и силы — насколько позволят истина и наш способ уравновешивания» (Counterfactuals, 73; курсив в оригинале). Идеальная дедуктивная система добивается наилучшей возможной комбинации простоты и силы — если и не одной-единственной наилучшей комбинации, то одной из комбинаций, стоящих на первом месте в рейтинге всех подобных систем. Понятие идеальной дедуктивной системы позволяет Льюису переформулировать объяснение законности Рамзея: «условное обобщение есть закон природы, если и только если оно появляется в виде теоремы (или аксиомы) в каждой из истинных дедуктивных систем, которая достигает наилучшей комбинации простоты и силы» (Counterfactuals, 73). Должно быть возможным развивать сходные концепции того, что закон привносит в этику. Представим бесконечно длинный список, включающий все истинные моральные суждения, которые люди могли бы выработать (15). Допустим, что эти суждения могут быть организованы в бесчисленные дедуктивные системы моральных истин. Допустим также, что, как и системы эмпирических истин Льюиса, они достигают различных степеней простоты и силы. Один или более из них добивается лучшей комбинации простоты и силы. Теперь мы можем дать определение моральному закону. Это именно те обобщения, появляющиеся как теоремы или аксиомы в каждой из лучших моральных систем. Чтобы употребить только что определенное понятие, вы не обязаны быть теистом. Но вам необходимо действительно богатое воображение. Во-первых, вы должны представить возможность всех различных концептуальных улучшений, которых можно добиться тем, как мы говорим и думаем о вопросах морали. Во-вторых, вам следует предоставить возможность различных суждений, которые могут появляться в производных языковых играх. Я не имею в виду, что вы должны быть способны узнать, из чего состоят все эти возможности. Их для этого слишком много — бесконечно много в случае суждений. И нет никакой возможности узнать, какие концептуальные улучшения мы можем принять, пока кто-то не откроет или выдумает их. Если бы мы знали, в чем любое возможное улучшение заключалось, мы могли бы мгновенно сделать его актуальным, внеся нужные изменения. Смысл настоящего упражнения в том, чтобы узнать весь набор возможных улучшений, еще не актуализированных, оставаясь при этом агностиком в отношении некоторых деталей. В дополнение к осуществлению этих актов воображения вы должны принять стандартный аппарат дедуктивной логики и допу330 ^ 10. ]¶) ¤ стить, что системы моральных суждений могут быть более или менее простыми и обладать различными степенями силы. Последнее и самое важное: вы должны быть готовы, как и я, применить понятие истины к моральным суждениям. Назовем понятие только что определенного морального закона минимальной версией. Минимальная версия метафизически строга. Ее определение эксплицитно обращается к моральному закону как к воображаемой проекции. Улучшения, проецируемые вовне уже существующих моральных кодексов, неопределенны. Говорить о моральном законе в этом смысле не означает хранить приверженность возможному образу того, как эти улучшения выглядели бы. Это просто стремление показать, что улучшения возможны. Конечно, многие философы менее расчетливы. Добавляя обязательства, не предполагавшиеся минимальной версией, вы можете получить все более противоречивые версии понятий. Если вы теист, например, то могли бы пожелать добавить, что Бог — автор морального закона. Вы могли бы продолжать описывать моральный закон как распространенный провиденциально, как волю божественного разума для общего блага. Делая подобные добавления, вы сблизили бы моральный закон с тем, что Фома Аквинский называет «вечным законом». Даже если так, два понятия не будут идентичны. Чтобы понять почему, рассмотрим замечание, сделанное Льюисом при разъяснении его понятия научного закона: «Вообразим, что Бог решил дать человечеству «Краткую энциклопедию единой науки», выбранную согласно Его стандартам истинности и нашим стандартам простоты и силы» (Counterfactuals, 74). Изданная версия морального закона была бы как раз как воображаемой Льюисом «Энциклопедией». Стандарты истинности Бога будут доминировать в том, что Он, будучи вездесущим, способен вымарывать все наши следы лжи. Но наши стандарты простоты и силы, какими бы смутными они ни были, также будут ограничивать окончательную систему. Поскольку эти стандарты склонны конфликтовать, вероятно, что наша потребность снижения сложности до управляемых уровней приведет к значительным жертвам в отношении силы. Напротив, никакой подобной уступки не видится в отношении стандартов людей в понятии вечного закона у Фомы Аквинского. Томистический вечный закон удовлетворяет божественным стандартам правдивости, но каким стандартам простоты и силы он удовлетворяет? Одним словом, Богу. Аквинат не считал, что знает, каковы подобные стандарты, но он в различные моменты утверждает, 331 что вечный закон максимально силен. Ни одна моральная истина не выпадает из него. Он запрещает все возможные грехи, включая те, что скрыты в человеческом сердце. Он заключает все моральные истины и отвергает всю моральную ложь. Является ли вечный закон также максимально простым? Если мы допускаем, что Бог вездесущ, нам нет нужды в упрощении данной системы. Вездесущее бытие знало бы каждую деталь бесконечно длинного альманаха моральной истины. Если вечный закон легче этого, простота должна приходить без потери силы. Если Бог ценит простоту саму по себе, то вечный закон может предположительно определен в рамках обобщений, появляющихся как аксиомы либо теоремы в каждой из самых простых из максимально сильных дедуктивных систем моральной истины. Насколько простой она может быть, у нас нет возможности узнать. Если кто и знает, то лишь Бог. Мы увидели, что минималистское определение морального закона не предполагает приверженности теизму. Подобным же образом мы можем лишить теологию томистического понятия вечного закона при помощи предварительного, только что данного определения, отбрасывая потребность в том, чтобы стандарты, которые должны быть удовлетворены, были божественными. Даже если мы примем эту формулировку как наше определение вечного закона, она останется отличной от морального закона в моем нетеологическом сознании. Основание таково. Если система простейшая из сильнейших систем того же рода, необязательно именно она достигает наилучшей комбинации простоты и силы для систем такого рода. Предположим, профессор логики дал вам несколько дедуктивных систем моральных истин и задание выявить из них идеальные в только что указанном смысле. Метод нахождения простейшей из сильнейших систем состоит в том, чтобы сначала изолировать сильнейшую и затем выбрать простейшую систему. Метод нахождения наилучшей комбинации простоты и силы в том, чтобы начать с отделения систем, являющихся в значительной степени и простыми и сильными, а затем отобрать те, что демонстрируют идеальный общий баланс. Возможно, но не обязательно, что оба метода принесут одинаковый результат. Располагая достаточно различными системами для выбора, второй метод скорее, чем первый, выделит систему, которая была бы проще и слабее. Какая мне польза от минималистских определений этих понятий? Они позволят мне использовать такие фразы, как «моральный закон» и «вечный закон» с чистой совестью, если я когда-либо захочу. В дальнейшем я буду знать, что говорю, когда вторю Софо332 ^ 10. ]¶) ¤ клу, Джефферсону или Кингу, и ссылаюсь на закон, повыше и получше, чем кодекс мне подобных. Я буду знать, как говорить о законе всерьез, не имея в виду слишком много. Зачем вообще сохранять эти идиомы? Долгое время они были риторически эффективными средствами, подчеркивающими, что в общечеловеческие кодексы, с которыми мы сталкиваемся в обществе, почти всегда входят моральный обман и концептуальные дефекты. Этот факт оставляет место для добросовестных протестов против подобных кодексов. Он акцентирует потребность в социальном критицизме. Он уверяет, что одинокий диссидент либо критик, противостоящий толпе или властям, может быть прав. Конечно, на эту позицию можно встать и без понятия верховного закона. В данном контексте действительно важно лежащее в его основе понятие правды и сопротивление любому ее упрощающему определению. Если бы правда была результатом того, что диктует власть, или того, что принимает чье-либо окружение, или даже того, во что мы в наших скромных эпистемических условиях оправданно верим, тогда у нас было бы меньше причин выслушивать диссидента или пользоваться возможностью самим стать критиками. Но правда, как я утверждаю, не может быть сведена к любой из этих вещей. При минималистском понимании риторика верховного закона есть не более чем воображаемое приукрашивание пустоты между понятиями истины и оправдания, между содержанием идеальной этики и тем, во что мы в данный момент стараемся обоснованно верить. Это вызывает образ некоторых из наших кодексов, если бы они были совершенными. Тем самым план открытия определенных несовершенств получает воображаемый идеал, к которому надо стремиться. Эта картина менее распространена, чем образ бесконечно длинного списка истинных моральных суждений, и вдохновляет больше, чем образ идеального морального альманаха. Поскольку наши кодексы иногда выражаются систематически в законообразной форме, верховный закон поощряет стремления к чему-то подобному, но только еще лучшему. Теории естественного права и божественных заповедей становятся мистификациями, когда утверждают, что идеальная система или ее аксиомы могут действовать — или уже действуют — как наш критерий при решении, какие моральные утверждения истинны (16). Как мы, в принципе, можем узнать, что стандарт, который мы в настоящем применяем, принадлежит идеальной системе? Знать это означало бы знать, что нет возможности улучшения наших когнитивных способностей и умозаключений. Будучи смертными, 333 а также осведомленными о длинной истории, в которой ясно проявилась наша ущербность, мы вправе полагать, что даже если бы мы достигли идеальной системы, то все равно никогда бы не смогли оправданно в это верить. Поверив в это, мы заслоним возможность, которую более поздний рациональный пересмотр нашего морального облика может сделать необходимой. Нам не узнать, что будет в конце этического исследования (17). В любой момент идеальная система (если таковая существует) может отличаться в каком-то отношении от того, во что мы оправданно верим. Это не много добавит к моей предшествующей ремарке о том, что правда и оправдание различаются, что эти понятия функционируют по-разному в этике, как и в любой другой области. Сказать, что некоторые из моральных предложений, в которые мы оправданно верим, могут оказаться ложными, значит напомнить себе, что независимо от того, насколько хорошо мы думаем и говорим о вопросах морали, остается, по-видимому, возможность делать это лучше. Стремиться к моральной истине для смертного существа, осознающего свою смертность, значит не упускать из виду этой возможности, поддерживать борьбу за мирскую коррекцию наших взглядов, не говоря уже о последнем моменте откровения, эсхатоне морального философа. «Краткая энциклопедия этической истины» — это просто вариации философского воображения на три темы: представление о том, что тотальность моральных истин не воспринимает противоречий, надежда на то, что та частица, которой мы дорожим, не бесконечно сложна, и осознание того, что она не может быть сведена к тому, что мы уже знаем. Это не справочник всеобщего пользования, даже в конце изучения. Поэтому мы не осуществляем оправдательную работу, когда пытаемся разрешить споры. Наша мыслительная и речевая практика в вопросах морали будет продолжаться, пока мы существуем. И она не завершится с открытием идеальной моральной системы. 334 ^ 11. £< ]A ¤A< Глава 11. Этика без метафизики ^ 11 ЭТИКА БЕЗ МЕТАФИЗИКИ Ничто в предыдущей главе не ведет к изъятию выражений Софокла и Кинга из лексикона прагматических демократов. Когда великий поэт или общественный критик высвечивает различие между оправданием и правдой в памятных образах и, говоря о верховном законе, поддерживает поиски путей к улучшению наших нынешних кодексов, философ-прагматик благоразумно удаляется. Но некоторых читателей может покоробить, что мой прагматический подход к перспективам общей демократической морали и мое метафизически суровое отношение к моральному закону окажут, если их поймут и примут, сильный деморализующий эффект на культуру демократии. Они могли бы утверждать, что демократическая культура нуждается в чем-то более серьезном для оправдания своих взглядов, чем то, что я могу предоставить, когда обращаюсь к этической жизни народа. Возможно, они заподозрят, что мои рассуждения о моральной правде и моральном законе оставляют этический дискурс без чего-то определенного или независимого от нас, без чего он по существу уже ничего не значит, так как я избрал нормы в качестве создания дискурсивной социальной практики. Моральные принципы, согласно главе 8, делают эксплицитные материальные умозаключения имплицитными в практических рассуждениях, что становится очевидным, когда люди отвечают друг перед другом за свои поступки. Притом что единственное основание морального закона, которое я оказался способен взять на борт, — идеализированная воображаемая проекция, — это едва ли тот тип предметов, к которым можно обращаться напрямую при оправдании ответа на вопрос из области морали. В качестве регулирующего идеала он именует нечто, что всегда выходит за пределы нашего понимания. Но не допустил ли я имплицитно, что наше обоснование не может преуспеть немедленно в ответственности нашего отношения за что-то, кроме наших собственных субъективных вымыслов? В предыдущей главе подобные вопросы предвосхищались при помощи противодействия всем попыткам свести моральную исти335 ну к результатам распоряжений власть имущих, восприятию окружения, того, во что человек оправданно верит, либо того, что он обоснованно утверждает. Но возможно, что мои попытки дистанцироваться от Дьюи скорее озадачивают, чем утешают, учитывая наши точки соприкосновения. В предыдущих работах я подтверждал мнение Дьюи о том, что не существует объяснительной ценности в понятии правды как «соответствия» с «реальным». Я не изменил своего мнения по данному вопросу. Я придерживаюсь критицизма Дьюи в отношении такого «реализма» как метафизического в уничижительном смысле и как плохого реквизита для наших практик (1). Я на протяжении всей книги постоянно отзывался о его прагматической настойчивости в отношении того, что концептуальное содержание и оправдание демократических идеалов и принципов зависит от возможных социальных практик. Может показаться поэтому, что моя позиция парадоксально колеблется между реализмом и прагматизмом — двумя позициями, долгое время находящимися в конфликте. Предварительное возражение этому может быть представлено в виде отличительных особенностей, которые я описал в первых трех главах части третьей. В этом возражении будет утверждаться, что стандартное меню альтернатив в моральной философии складывается в результате объединения серии отличий, которые следует аккуратно рассмотреть: – между обязательствами либо правами, которые мы приписываем каждому независимо от роли, и обязательствами либо правами, на признание которых у каждого уже есть основания; – между оправданием в вере во что-либо (в смысле обладания права верить) и способностью доказать утверждение комуто другому (в смысле предоставления аргумента, который успешно подрывает релевантные основания оппонента для сомнений); – между способностью доказать утверждение наличной аудитории и способностью доказать это всем разумным людям; – между утверждением доказанным (в том смысле, что не остается никаких существенных оснований для сомнений в нем в пределах данного дискурсивного контекста) и утверждением истинным; – между утверждением, согласиться с которым кто-либо имеет право, и истинным утверждением; – между моральным законом, понимаемым как регулирующий идеал, разработанный философским воображением, и мо336 ^ 11. £< ]A ¤A< ралью, понятой как способ речи и мышления в области морали (дискурсивная практика); – наконец между идеей о том, что термины «истинное» и «ложное» уместно употреблять в отношении моральных утверждений, и идеей, что такая теория истины, как реализм естественного права, предлагает информативное объяснение их значения в языке морали. Если данные различия проведены четко и обладают значением, которое я им приписал, стандартный набор альтернатив в моральной философии должен быть переосмыслен. Мы не стоим перед выбором между двумя комплексными сделками, одна из которых метафизически реалистична по отношению к истине, антиконтекстуальна по отношению к оправданию и космополитична к правам и обязанностям, другая же — метафизически антиреалистична по отношению к истине, контекстуальна по отношению к оправданию и ограничена по отношению к правам и обязанностям. Принципиальная цель глав 8–10 состояла в критике данных пакетов альтернатив, оставляя нам на выбор возможность принять или оставить их различное содержание. Конечно, данная аналитическая работа не объясняет сама по себе, каким образом обязательства, права, добродетели и другие нормативные статусы, приписываемые людям членами демократических сообществ, могут быть оценены объективно. И статусы, и нормы, направляющие такое приписывание, как я утверждаю, являются созданием социальной практики. Как тогда могут наши попытки применить и усовершенствовать нормы также быть объективны? Если нормы создаются в ходе нашего общественным взаимодействием, есть ли смысл говорить, что каждый в нашем обществе может быть неправ в отношении того, что из себя представляют эти нормы и что они предполагают? ­­ ­ A^ ] & ¤A' <¤? (заголовок?) Вернемся к моменту различения правды и оправдания. Когда мы приписываем кому-либо знание, мы считаем, что этот человек верит в истинное, и считаем, что он оправданно имеет такое убеждение. Но кто-то, кто верит в истину, может и не быть в этом оправдан. А тот, чье убеждение оправдано, может статься, убежден во лжи. Несмотря на объединение в нашем представлении о знании, понятия правды и оправдания легко могут действовать друг без дру337 га. Этого нам следует ожидать. Если бы два понятия имели одинаковые последствия в любом контексте, было бы лишним сочетать их, говоря, что знание требует веры и оправданной, и истинной. Дьюи считал, что правда, как и оправдание, является относительным понятием. Он идентифицировал ее с гарантируемой утвердительностью. Другие прагматики идентифицировали его с полезностью — с тем, во что полезно верить, что также является относительным понятием. Но если правда — не относительное понятие, не должна ли она быть абсолютным понятием? И если это абсолютное понятие, не нужно ли мне давать разъяснения о его абсолютности, определяя правду как соответствие реальности, то есть как в теории, за критику которой я так хвалил Дьюи? (2) Счастлив сообщить, что правда абсолютна, если ее понимать в точности как замечание о том, как термин «истинное» функционирует в нашем языке. Но я все еще считаю, что определение правды как соответствия не имеет объяснительной ценности. Более того, у меня просто нет другого определения правды (3). Я предлагаю не анализировать данное понятие на примере более простых идей и не уточнять содержание приписываний понятию правды в том, что философы называют имплицитное, или контекстуальное, определение (4). Мне могут возразить, что отказ дать определение правды делает меня неспособным выяснить в совершенно позитивном ключе, что же такое правда (5). Если я не принимаю ни метафизический реализм теории соответствия, ни релятивистское понимание правды известных прагматических теорий, кажется, что я все-таки должен высказаться позитивно в отношении того, что я считаю правдой. Недостаточно просто сказать, что правда не идентична оправданию. Я должен показать по меньшей мере, что мое отрицание оставляет открытой возможность существования приемлемой философской альтернативы. Вполне логично. Но какой тип философствования мне понадобится? Для начала обратим внимание на некоторые примеры стандартного использования термина «истинно», и спросим, оценка какого типа сообщает нам то, что мы хотим знать о значении термина в данных контекстах. Одно из известных употреблений термина «истинное» может быть названо логичным, когда, например, мы заявляем, что заключение о правильном выводе истинно, поскольку верны его предпосылки. Второе я бы назвал принятием «истинного», как в предложении: «Утверждение о том, что расовая сегрегация несправедлива, истинно». Оратор, доказывавший этот тезис, выразил бы принятие утверждения, названного придаточным предложением. 338 ^ 11. £< ]A ¤A< Третьим употреблением может быть названа эквивалентность, как в примере: «”Смелые поступки заслуживают похвалы“ верно тогда и только тогда, когда смелые поступки заслуживают похвалы». Четвертым возможным употреблением является то, что Рорти назвал предупреждающим, как во фразе: «Сегодня мы можем оправданно верить в P, но P может не быть верным» (6). Реалисты обычно сосредоточиваются главным образом на эквивалентности, объясняя ее как выражение реального, нетривиального отношения соответствия, и затем пытаются раскрыть другие типы использования «истинное» в данных рамках. Я не отвергаю использование эквивалентности. В действительности я думаю, что это использование обладает большой практической и теоретической ценностью. Моя жалоба на реализм состоит в том, что я не вижу какойлибо объяснительной ценности в понятии соответствия, которую реалисты вкладывают в него. Если объяснение действительно необходимо, оно должно было быть более четким, чем сама объясняемая вещь; однако я нахожу субстантивные понятия соответствия гораздо менее ясными, чем понятие истины, которое они должны объяснить. Так что я не могу доверять им в качестве объяснений, в качестве информативных ответов на вопрос о понятии истины. Чем больше реалисты трудятся над выяснением того, что значит соответствие предложения реальности, тем туманнее оно становится. Чтобы играть должную роль в искомом объяснении, реальность должна восприниматься в единицах, являющихся подходящими аналогами предложений, которые должны им соответствовать. Но что это могут быть за единицы? И как мы можем их определить без использования фатального обмана в понятии реальности? Если понятие соответствия сможет охватить всю абсолютность правды, «реальность», очевидно, будет восприниматься как мир в себе — метафизическая концепция, если таковая вообще когда-либо была. Но эта концепция представляется плохо экипированной для того, чтобы включиться в отношение соответствия, которое бы по существу объяснило, какое свойство приписывается предложению при именовании его истинным. Чтобы предложение могло соответствовать реальности, последняя должна быть разделена на единицы, обладающие некоторым сходством с предложениями. Установление того, что это за единицы, кажется, будет означать опись реальности. Но как можно ее осуществить, не потеряв теоретической фокусировки на независимости мира? Метафизика реализма колеблется между двумя концепциями реальности, одна из которых предназначена для отражения абсо339 лютности правды в теории независимости мира, другая — для нахождения единиц такого рода, которым могли бы соответствовать предложения. В представлении реалистов, отказаться от последней — значит отказаться от проекта объяснения (материального) свойства истины. Оказаться от первой — значит начать процесс, в котором реализм видоизменяется в антиреализм таких идеалистов, как Беркли, и таких прагматиков, как Дьюи, для которых соответствие реальности становится связностью идей, убеждений либо принимаемых нами утверждений. Надеясь избежать обоих результатов, реалист обычно пытается воспользоваться «реальностью» обеих концепций, справляясь при этом с побочными обвинениями в двусмысленности. Тем временем антиреалист решительно овладевает логическим и допускающим использованием «истинного» и пытается обойтись без независимости реальности, столь ценимой реализмом. Но представляется, что этот шаг подрывает предупреждающее использование «истинного» и низводит правду до оправдания. В более агрессивных постмодернистских версиях антиреализма оправдание затем низводится до власти, таким образом мирясь со сведением правды к власти. Хилари Патнем в свое время отвечала на эти проблемы, сосредоточиваясь на использовании допускающего типа, затем обогащая само понятие допущения так, чтобы оно могло объяснять также и другие способы использования термина. Вдохновленная опытом другого классика прагматиков Ч. С. Пирса, Патнем утверждала, что истина не заключается в обычном или недавно доказанном, а в идеализированном рациональном значении допущения (7). Этот шаг позволил связать правду и оправдание в том, что рациональное принятие фактически синонимично оправданному убеждению, при том, что два понятия не идентичны. Анализ Патнем превзошел большинство ориентированных на допущение объяснений правды, так как ввел понятие справедливости в предупреждающее использование термина. Поэтому оно было менее редуцирующим, чем понятие правды Дьюи как гарантируемой утвердительности. Если бы я был вынужден выбирать между определением Патнем в духе Пирса и определением Дьюи, конечно, я бы выбрал определение Патнем. Но Хорвич, Майкл Уильямс и другие выдвинули веские аргументы против рассуждений Патнем, так что я не могу принять и их (8). Понятие идеализированного рационального допущения оказывается слишком близко к понятию оправданного убеждения. Если мы уподобим правду идеализированному рациональному допущению, то не сможем адекватно объяснить, каковы различия между 340 ^ 11. £< ]A ¤A< правдой и оправданием. В частности, мы утратим представление о возможности того, что могут существовать такие истины, которые мы никогда, даже при доступе к любому возможному свидетельству, не сможем поймать в сеть оправданных убеждений. Как полагает Марк Джонстон, в итоговой концепции правды есть что-то от нарциссизма. Правда о каком-либо субъективном предмете имеет к нему отношение, однако в представлении Патнем даже истины, которым нас учат естественные науки, например, о свойствах атома, в сущности состоят в том, во что мы могли бы оправданно верить при идеальных условиях. Джонстон справедливо спрашивает: «Как мы встроимся в эти представления?» (9). Вывод Артура Файна выводит из указанных трудностей: попытки определить правду как «нечто реальное» оказались бесплодным предприятием (10). Он не утверждает, что отверг множество ныне существующих определений, но не нашел он и достаточно хороших оснований для того, чтобы связать себя с одним из них обязательством. Потому-то он и подозревает, что в попытке выразить наше теоретизирование в данной форме присутствует некое ложное упорство. Остается неясным, думает он, почему правда или то, что теоретики считают таковой, нуждается в объяснении того рода, что они ищут. Если вы представили, как термин «истинное» функционирует во всех релевантных контекстах, что тогда останется объяснять? Мы должны довольствоваться разъяснением его характерных нефилософских использований, тех, что не предполагают метафизического описания. Файн не отрицает познаваемость, ценность или легитимность понятия правды. Его отношение к правде (он называет его «естественной онтологической позицией») разрешительное в отношении к обычному употреблению и не дающее никаких философских оснований для колебаний при разговоре об истинах в любой области, в которой рядовые авторы применяют термин «истинное» к утверждениям и убеждениям. Притом что такие ораторы по традиции обращаются к моральным утверждениям как «истинным» либо «ложным», естественное онтологическое отношение не вызовет никакого раздражающего различения между этикой и другими областями, напрямую связанными с обнаружением истин. Рассуждения об истине в этике, как и в науке, понятны без помощи метафизических теорий, претендующих на их объяснение. Сам Файн не строит теории о понятии истины. Но множество теорий совместимы с тем, что он называет естественной онтологической позицией. Эти теории различаются в вопросах о том, яв341 ляется ли правда свойством, являются ли предложения первичных носителей правды, и по поводу многого другого, но они все могут быть охарактеризованы как формы минимализма. Джонстон определяет минимализм в целом как воззрение, которое, несмотря на то что «обычные практики могут быть склонны к принятию метафизических представлений в результате их практик, и, возможно, некоторых философских побуждений, эти практики обычно не зависят от правды представлений. Устойчивые и развивающиеся практики обычно оправдываемы не в рамках метафизики». В то время как метафизики нередко представляют свое видение в качестве основной опоры наших практик, «мы добьемся большего, выступая против различных видов скептицизма и необоснованной ревизии», согласно минималистам, «когда мы корректно представим обычную практику как не обладающую ключевыми заложниками метафизической фортуны» (11). У минимализма может найтись и прагматический оттенок, если добавить, что желаемое оправдание наших практик можно найти, если это вообще возможно, «продемонстрировав, что они заслуживают существования на полигоне повседневной жизни» (12). Мой собственный подход к понятию правды и минималистичен, и, в только что указанном смысле, прагматичен. Я предпочитаю назвать его умеренным прагматизмом. Так я отбрасываю любую форму прагматизма, самонадеянно и неразумно предлагающего свести истину к определенной форме последовательности, допустимости или полезности. В «Понимании истины» при анализе истины Скотт Сомс избирает минималистский подход (в духе Джонстона). Он следует за Альфредом Тарски и Солом Крипке, утверждая, что «правда не есть дискуссионное метафизическое понятие» и что «ее удачный анализ не должен быть перегружен противоречивыми философскими умозаключениями» (13). Он принимает использование типа эквивалентности как ключевого для значения и ценности понятия. Полезность понятия правды, согласно Сомсу, в основном происходит от того факта, что «содержание утверждения, что предполагаемый носитель правды истинен, эквивалентно содержимому носителя правды». Но это уже очевидно каждому, кто размышляет о непарадоксальных примерах эквивалентного использования «истинного». Здесь не потребуется никакого метафизического глоссария. Итак, философски спорные доктрины о реальности и нашей способности ее познания не могут быть установлены путем анализа понятия истины. Примеры подобных доктрин являются тезисом о том, что утверждение является истинным тогда и только тогда, 342 ^ 11. £< ]A ¤A< когда оно соответствует независимому (mind-independent) факту, что делает его верным и тезис противника о том, что утверждение верно тогда и только тогда, когда для подобных нам людей было бы разумно в него верить при идеальных условиях исследования. Данные независимые философские доктрины не могут выводиться из адекватного анализа правды (231). Сомс переходит к обзору и критикует несколько вариаций минимализма (232–251). Он отвергает так называемые теории «избыточности», противостоящие идее, что правда есть неопределимое свойство чего угодно. Его собственная версия минимализма стремится превзойти детальный семантический анализ Тарски и Крипке. В итоге он приходит к взглядам, схожим с минимализмом Хорвича (14). Было бы скучно вдаваться в детали данных теорий. Если исходить из наших целей, нет необходимости объявлять одну теорию правильной. Важно лишь то, что они представляют правдоподобную и многообещающую теоретическую альтернативу метафизическим подходам, от которых Сомс их отделяет. Если одна из версий минимализма верна, тогда нам не нужно выбирать между реализмом, антиреализмом и отсутствием теорий вообще. В отношении вопроса о том, какая из разновидностей окажется сильнейшей, я остаюсь агностиком. Мое утверждение заключается в том, что недавние успехи в философии языка оправдали достоверность следования неметафизическому подходу к истине, подходу, благодаря которому понятие правды кажется неподходящей фокусной точкой для широко распространенной культурной тревоги. Как отмечает Сомс, минималистские позиции, которые он и Хорвич защищают, сами по себе не приведут к ответу на вопрос о том, могут ли «обычные указательные предложения, содержащие оценочные термины», быть истинными или ложными (250). Но они не дают оснований для подозрений, что таким предложениям недостает истинности. Так что сам по себе минимализм не подрывает «объективность» этического дискурса. Однако он перекладывает ответственность на тех, кто надеется доказать, что этический дискурс не включает в себя настоящие истинностные утверждения. Он также поощряет каждого, кто следует духу (но не букве) прагматизма Дьюи и надеется свести свои метафизические взгляды к минимуму. Вероятно, что метафизика реализма скорее сделает понятие моральной истины сомнительным, чем спасет его от очернителей культуры. Минимализм не представляет собой попытку дискредитировать или реформировать обычное словоупотребление. Я — за сохране343 ние всех четырех выделенных мной видов употребления «истинного»; в этических контекстах они не менее рациональны, чем в научных. В особенности я бы хотел бы выступить в защиту предупреждающего использования. Поскольку я не уверен, что некоторые из наших нынешних оправданных убеждений должны быть ложными, но не знаю, какие именно, я хочу сохранить дух самокритичного неокончательного исследования. Привлечение внимания к разрыву между правдой и оправданием помогает мне в этом усилии, так как предупреждает против познавательного самодовольства. Не меньше, чем реалисты, я надеюсь, что когда-нибудь смогу иметь больше истинных и меньше ложных убеждений, чем сейчас. В свете эквивалентного употребления «истинного» я должен прийти к надежде на то (в отношении важных тем), что я буду верить в P, тогда и только тогда, когда P (15). Добавляет ли это что-то к тому, что мы должны стремиться привести наши убеждения в соответствие с фактами (включая моральные факты)? С неметафизической точки зрения, кажется, нет. Если цель реализма состоит лишь в том, чтобы подчеркнуть, что истинность или ложность определенного предложения зависит не только от его концептуального содержания, но также от объектов, событий, свойств, отношений, ценностей и т.д., тогда опять-таки я без проблем соглашусь с данной целью (16). Я просто не вижу, чтобы это уводило нас за пределы основных результатов эквивалентного употребления. Эквивалентность, заключенная в утверждении «P истинно тогда и только тогда, когда P», может быть тривиальной с точки зрения логики. Но это уже служит достаточным напоминанием о том, что исследование истинности либо ложности P требует обратить внимание на то, к чему P относится, а также иметь свои убеждения и позиции в соответствии с этим (17). Метафизика соответствия едва ли сделает более впечатляющее напоминание. Я использовал термин «реализм» строго в качестве имени для метафизической теории, которая определяет истину как соответствие реальности. Но вот что говорит Хорвич: «Термином “реализм” неограниченно злоупотребляют как частью философского жаргона, и можно не сомневаться, находится столько его смыслов, что минималистский подход классифицирует как “реалистичный” или “антиреалистичный”» (Истина, 56). Несложно понять, почему Дэвид Фергюссон называет меня реалистом (18). Во-первых, я действительно употребляю термин «истинное» так, как реалист, в обычном моральном дискурсе — предупреждающее употребление и так далее. Во-вторых, я разделяю подозрение реалистов в отношении того, что Джонстон называет философским нарциссизмом. 344 ^ 11. £< ]A ¤A< В-третьих, я полагаю, что правда может выходить за пределы нашей способности ее познания даже при идеальных условиях исследования. И четвертое, соглашусь с тем, что истинность или ложность определенного убеждения частично зависит от объектов, событий, свойств, отношений, ценностей и характерных черт, на которые делается та или иная ссылка. Если этого достаточно, чтобы быть реалистом, тогда и я реалист. Кажется, как раз все это и подразумевает Скотт Дэвис под «минимальным реализмом», который он приписывает Дэвидсону, а Сабина Ловибонд — под «реализмом», который она приписывает Витгенштейну в «Реализме и воображении в этике» (19). Многие понимают под термином «реализм» нечто большее, так что я с неохотой принял этот ярлык. Но в любом случае ошибочно цепляться за ярлыки. Как мне представляется, можно иметь представление о моральной истине и этосе ошибочности и самокритики без принятия теории, делающей моральные факты или «моральный закон» способными объяснить, что же делает истинные моральные предложения истинными. Некоторые реалисты думают, что определение правды необходимо, чтобы поддерживать демократическую культуру моральной серьезности и духа самокритики в неприкосновенности. Не вижу для этого никаких оснований. Боюсь, что убеждать людей считать метафизическую теорию важнейшей для демократической культуры — значит способствовать их отказу от этой культуры, когда теория окажется неубедительной. Гражданам лучше посоветовать хранить их приверженность демократии вне зависимости от нерешенных споров метафизиков. Частью моей мотивировки поддержки минималистской (в противоположность антиреалистической) версии прагматизма является надежда реабилитировать продолжительное использование «истинного» в моральных контекстах путем его освобождения от метафизических интерпретаций этого значения, что оказалось чрезвычайно трудной задачей. Понятие моральной правды вошло в современную философию подобно рыцарям, неуклюже пробряцавшим в «Ланселоте Озерном» Робера Брессона, имея достаточно доспехов, чтобы быть неповоротливым и уязвимым. И нет смысла менять доспехи, если их слишком тяжело носить. Решение заключается в том, чтобы сохранить понятие правды, при этом избавляясь от доспехов, предназначенных именно для этого метафизиками. Прагматизм предпочитает путешествовать налегке. Брессон, Робер (1907–1999) — выдающийся французский кинорежиссер. 345 До сих пор я обсуждал значение «истинного» и давал разъяснения строго в рамках употребления термина, не чувствуя необходимости сводить это значение к определению. В начале я следовал за Сомсом и Хорвичем в эквивалентном употреблении, признавая при этом, что другие версии минимализма начаты другими. Полное исследование осветило бы все виды парадигматического употребления (20). Приемлемая форма минимализма не просто беспорядочно каталогизировала бы типы употребления, но скорее дала бы своего рода объяснительный порядок употреблений, делая таким образом их более понятными. Минимализм, как подход к понятию правды, предлагает подобную понятность без сведения к определению. Он также обещает пролить свет на то, что делает понятие полезным, — а это камень преткновения для теории избыточности (21). Дает ли ответ умеренный минимализм на вопрос о том, что есть правда? Я склонен допускать, что правда является чем-то вроде свойства, но свойства не в натуралистическом понимании. Правда не принадлежит, на мой взгляд, к природному миру (как это представляется естественным наукам). Так что мы не можем дать объяснение этого, обратившись к определенной особенности природного мира и эмпирически описав то, в чем эта особенность заключается (22). Понятие правды нормативно. Оно принадлежит практике, в которой мы оцениваем утверждения и убеждения как имеющие либо неспособные обрести статус определенного типа (23). Какой статус мы приписываем утверждению, когда заявляем, что оно истинное? Статус, защищенный в обоснованном умозаключении, как указывает нам логическое употребление «истинного». Это тот же статус, который имплицитно приписывается, когда мы поддерживаем утверждение, как показывает допускающее употребление «истинного». Этот статус не включает отношение к доказательству, так что оно не относится к эпистемическому контексту. Правда имеет отношение к концептуальному содержанию утверждения, а не к эпистемической ответственности личности, которая его принимает либо утверждает. Правда, или правильность, является объективным статусом, так же как и нормативным. Мы волей-неволей приписываем этот статус убеждениям, которые в настоящем принимаем в соответствии с согласительным употреблением «истинного». Но действительно ли наши убеждения и утверждения обладают статусом истинных, решать не нам (24). Вера в то, что кто-то имеет особое обязательство, право или обладает добродетелью еще не создает сам этот факт. 346 ^ 11. £< ]A ¤A< Разговор об истинности имеет место всегда, когда мы выносим на обсуждение субъективный материал, а не просто имеющие к нему отношение данные, в качестве объекта нашего исследования. Вступая в этот разговор, мы имплицитно рассматриваем наш субъективный предмет, то, что мы можем воспринять неверно, несмотря на самые серьезные когнитивные усилия, на которые мы способны. Принятие этой установки по отношению к нашему субъективному предмету — антинарциссическое ядро «естественной онтологической позиции» и «минимального реализма» — «реализма» в неметафизическом смысле. «Реализм» в метафизическом смысле сочетает эту похвальную позицию с сомнительной доктриной, которая должна легитимировать его. К счастью, данная позиция не нуждается в подобной легитимации. «Точность по отношению к субъективному предмету» сама по себе не объясняет, в чем состоит свойство правды. Во множестве контекстов это допустимый пересказ «правды». Но правда — более фундаментальное понятие. Мы знаем, что такое правильное предложение, поскольку знаем, как использовать термин «истинное». Никакой приблизительно-синонимичный термин правды не даст информативного ответа на вопрос о том, какой статус приписывается убеждениям и утверждениям в разговоре об истинности. «Соответствие реальности» не лучше. Есть ли приблизительный синоним для истины? Есть. Проясняет ли он свойство, которое мы пытаемся понять? Нет. Чаще всего люди, в том числе многие дети, демонстрируют практическое понимание того, что собой представляет правда в их обыденной речи. Кажется, приобретение этого умения не представляет трудности. Как они приобретают его? Овладевая парадигматическим употреблением термина «истинное», а не выслушивая метафизические объяснения о его свойствах. Учителя и родители не знакомят их с термином «истинное», определяя его как правильность или соответствие. Эти близкие синонимы появятся позже, во время учебного процесса, а появившись, мало что объясняют. Выстраивать метафизическую теорию вокруг этих слов, надеясь, что они решат объяснительные задачи, которые невозможно решить самостоятельно, значит искать ясности в области философии, печально знаменитой отсутствием ясности. Порядок объяснения должен двигаться в противоположном направлении — из трясины, в которую канули целые философии, на твердую почву современного языкового употребления. Разговор об истинности — не имплицитно метафизическое дело, простаивающее в ожидании метафи347 зической формулировки и защиты. Это аспект обычного языкового употребления, которое следует осознать в рамках эмпирически ориентированной лингвистической теории. Основными целями умеренного прагматизма являются неоднозначный реалистический проект легитимации, стремящийся установить и укрепить метафизическое основание разговора об истинности, и также сомнительный проект делегитимации, неадекватно отвергающий реализм. Последний проект включает «постмодернистские» попытки разоблачить разговор об истинности как имплицитно связанный с реалистически метафизическими идеями, которые представляются явно непоследовательными. Постмодернизм подобного рода часто начинает с высокого показателя моральной серьезности. Его политический инстинкт состоит в равнении на обычных людей против системы властных отношений, их окружающей. Но нарциссические и самоопровергающие положения антиреалистической метафизики, которую он принимает, в конце концов сводят критическую инициативу к какой-то курьезной академической мелодраме. Главные герои здесь — ироничные денди и их естественные враги, самодовольные педанты-правдолюбцы. Но что если бы обычный разговор об истинности всегда был лишен метафизики? Тогда разоблачение непоследовательности метафизики могло бы уменьшить претензии немногих метафизически одержимых профессоров, однако это вряд ли поможет раскрыть неприглядную тайну цивилизации в целом. Прагматическое средство — отбросить идентификацию правды с властью, ее неизбежный нарциссизм, и вернуть демократический инстинкт, в первую очередь питавший критическую программу. ^­ ¤A<: §, ]­A¥ § O Можно возразить, что прагматизм, рассматриваемый как общая антиметафизическая стратегия в рамках философии, по существу, антитеологичен. Но это замечание упускает из виду факт, что есть множество теологов и приверженцев теологии среди философов, которые надеются освободить себя и культуру в целом от принуждения рассматривать метафизику в уничижительном смысле (25). Их работа не только интеллектуально рискованна и полезна, она также является удачным напоминанием, что теологические обязательства не должны рассматриваться как компоненты метафизических обязательств. 348 ^ 11. £< ]A ¤A< Этимология метафизики может легко сбить с толку в данном контексте. Целью моей оппозиции метафизики не является исключение целого класса утверждений просто потому, что они относятся к чему-то, находящемуся за или над онтологическими пределами, принятыми в естественных науках (26). Чтобы понять, что я здесь имею в виду, обратимся к Тимоти Джексону. Как христианский мыслитель, он подтверждает: (а) что Бог-Отец Всемогущий сотворил рай и землю; (b) что Иисус Христос есть Его Сын, совершенное воплощение божественной любви и (c) что любовь Христа к другим по существу является добротой, а ведь это наиважнейшее здесь сущностное превосходство. Таковы теологические утверждения. Размышления Джексона о (b) и в особенности (c) укрепляют свою этическую значимость благодаря большой доли красноречия и проницательности, несвойственной современным христианским этическим произведениям. Я бы не мог представить, что эти утверждения пришли к Джексону как заключения метафизической аргументации о том, как истолковать объективность дискурсивных практик. Но Джексон может представить подобную аргументацию. Он предлагает «истинностную теорию соответствия» и «объективистскую теорию ценности» (27). Эти доктрины предполагают (d), что реальная метафизика соответствия свойственна и христианской, и светской практикам истинностных утверждений в этике. Поэтому он заключает (e), что первичный принцип этики, предписывающий любовь к ближнему, в отрыве от контекста реалистической метафизики трансформируется в простой нарциссизм. Солидарность, согласно Джексону, невозможна вне пределов «сообщества, обучающего объективному самонаблюдению и вниманию по отношению к другим, каковы они от природы». По этой причине он опасается, что отказ от реализма опустошил бы саму цивилизацию, делая вероятным «скатывание в… войну всех против всех» (28). Прибегая к более тонким разъяснениям, он привлекает внимание к «опасности того, что либеральные добродетели не смогут устоять под небесами ирониста». Мы «прежде всего не умеем культивировать доброжелательность, мы полностью не узнаем, что значит быть добрым, не уделяя внимание достоинствам (и ранимости), присущим другим» (29). Уделение внимания достоинству других не должно сводиться к процессу, в котором мы на них проецируем ценность. Как видно из ссылок на солидарность и иронию, в этих отрывках Джексон критикует Рорти. Он предлагает реализм как противоядие от нарциссизма Рорти. Что же именно в предложенной Джексоном критике Рорти будет отрицать умеренный прагматик? Только такие утверждения, как (d) 349 и (e) и связанную с ними боязнь краха цивилизации. Спор не имеет ничего общего с утверждениями от (а) до (c), пока кто-либо не допускает истинность (d), чего не сделает минималист. Защищая (d), Джексон предполагает, что все мы вынуждены принять нечто вроде его метафизических заключений из страха непоследовательности — просто потому, что мы используем термин «истинный» так, как сейчас. Но никто, включая Джексона, еще не показал, что метафизическая теория присуща и обычному разговору об истинности. Что касается (e), аргументы Джексона суть лишь вариации на те же темы. Его аргументы для (d) и (e) противоречивы. В них утверждается (f), что метафизический реализм и антиреализм — единственные достойные рассмотрения альтернативы (30). Поскольку последняя альтернатива явно нарциссична, он заключает, что каждый, кто желает избежать нарциссизма, должен предпочесть первую. Но если верен минимализм, тогда (f) ложно, и аргументы для (d) и (e) отпадают. Я пытаюсь показать, что минимализм прекрасно совместим с искренним отвержением нарциссического отношения к правде. И Джексон, и я поддерживаем предупреждающее употребление «истинного». Это экспрессивно усиливает акцент, который мы оба придаем эпистемической сдержанности и погрешности. Можно предположить, что реализм Джексона уделяет большее внимание погрешности, чем я, поскольку это оставляет пространство для надежды на полноценное соответствие (31). Моя проблема состоит в том, что я все еще не понимаю, на что мы должны надеяться за пределами веры в P тогда и только тогда, когда P. Джексон рассматривает неэгоистичную, жертвенную любовь как единственную наиважнейшую этическую ценность. Я не вижу необходимости отдавать первенство одной форме превосходства, но без труда признаю ценность и важность такой любви. В области этики уважение к правде и любовь к людям обычно требуют от нас очистить наши умы от иллюзий, порожденных предубеждениями и себялюбием; понимать нужды, боль и заботы других людей каковы они есть; и, соответственно, приспосабливать наши оценочные убеждения и утверждения (32). Джексон стоит на этом, я — также. Обратимся теперь к другому примеру теологической метафизики, а именно к книге Роберта Меррихью Адамса, «Конечные и бесконечные блага» (33). Как и Джексона, Адамса интересует анализ объективности этического дискурса в рамках христианства, но он выражает свой интерес в основном в связи с исследованиями превосходства и обязательства. В то время как понятие любви играет первостепенную роль в первом, Адамса больше интересует любовь 350 ^ 11. £< ]A ¤A< к добру (эротическая любовь в широком смысле), чем жертвенная любовь. Его теория превосходства идентифицирует это с подобием трансцендентному Благу, которое он истолковывает теологически. Он предлагает социальную теорию обязательства, но такую, которая включает существенное внимание к божественным заповедям. Основным преимуществом таких теорий считается удивительная активность, с которой они поддерживают объективность этики. Если обязательство касается божественных заповедей, оно становится «гораздо более объективным, чем человеческие общественные требования» (256). Если превосходство — сходство с Богом, тогда это свойство, которым «обладают или которого вещи лишены объективно, независимо от того, считаем ли мы так и хотим ли мы этого» (18). Рассмотрим вначале различение, проводимое Адамсом (15–18) между вопросом о том, что означают термины «обязательство» и «превосходство», и вопросом о том, чем обязательство и превосходство являются. Первый вопрос о том, какую концептуальную роль играют термины. Но в его представлении то, чем обязательство и превосходство являются, должно формулироваться метафизически. У Адамса и прагматика нет разногласий по концептуальному вопросу. Что означают термины в определенном языке, зависит то того, как они в нем используются. Это не дело метафизики. Люди, по-разному оценивающие то, что мы в действительности, с точки зрения морали, обязаны делать, и какие люди, поступки и вещи выражают моральное превосходство, способны успешно общаться друг с другом, так как они используют верные термины практически тем же образом. То же касается людей, чье мнение расходится в вопросах о том, какова природа обязательства и превосходства. Разногласие по такому метафизическому вопросу не должно мешать нашему пониманию того, что происходит, когда оратор приписывает обязательство или моральное превосходство кому-либо. Можно знать, что означают подобные высказывания, и даже каким образом их расценивать как истинные либо ложные, не представляя, чем собственно являются обязательство и превосходство. Чтобы прояснить контраст между семантикой и метафизикой, Адамс использует пример воды, обсуждавшийся такими философами, как Патнем и Крипке. Люди, несведущие в химии, также не знают о природе воды, о ее сущности, но многие из них вполне овладели термином «вода», возникшим за пределами лаборатории. Они, конечно, в курсе, о чем идет речь, когда вы просите стакан воды или когда говорите, что вода, в которой вы купаетесь, теплая. 351 «Но, — говорит Адамс, — природу воды следует искать в воде, а не в наших представлениях» (15). Подобным образом, даже если бы мы не были способны сказать, в чем состоит природа обязательства, то все же могли бы сказать, что означает термин «обязательство» (семантический вопрос). Мы даже могли бы прийти к соглашению по поводу того, в чем заключаются обязательства определенного человека (вопрос морали). Где тогда следует искать природу обязательства, если не в употреблении термина «обязательство»? Явно не в химии, физике или в какой-то другой естественной науке. «Метафизика» — это термин Адамса, обозначающий систематическое изучение «природ», выходящих за пределы наук. Этический метафизик подходит к таким темам, как обязательство, как физик к воде. Является ли эта деятельность плодотворной или метафизичной в уничижительном смысле? Ясно, что вопрос химика о природе воды относится к тому, из чего состоит вода. Из чего создана вода — хороший вопрос (34). На протяжении тысячелетий мы знаем, что искать ответа надо в воде. Где же еще искать ее составляющие? И за прошедшие века мы сильно продвинулись в улучшении методов, которые мы используем при проведении подобных исследований. Теперь мы уверены, что вода состоит из водорода и кислорода, в отношении два к одному. Но вопрос метафизика о природе обязательства не о том, из чего оно состоит, поскольку обязательство не вещество. Тогда в чем вопрос? Где и при помощи чего мы должны искать ответ? Теория обязательства, представленная Адамсом в главе 10, предполагает, что мы должны искать ответ, обратившись к определенным аспектам социальной жизни и нашего опыта такой жизни как людей, включенных в социальные отношения. Именно здесь прагматик рассчитывает найти разъяснение. Социальные взаимоотношения обычно предъявляют требования к тем, кто в них участвует. Оценивание такого отношения «может, при определенных условиях, дать основание осуществить требуемое от кого-либо его коллегами либо сообществом» (242). Обязательство, говорит Адамс, есть основание такого рода. Таким образом, обязательства создаются социальными взаимосвязями, хотя и не в том же смысле, что правильная смесь водорода и кислорода дает воду. Это лишь означает, что социальные взаимосвязи и деятельность, которую они подразумевают, приводят к обязательствам. Вот что значит, что обязательства — создания социальной практики. Они заключаются в определенном основании, порождаемом ценными социальными взаимоотношениями, в которых выдвигаются требования к их членам. 352 ^ 11. £< ]A ¤A< Однако некоторые взаимоотношения ценятся незаслуженно; некоторые — «явное зло». Так что мы делаем различия между обязательствами, которые, как основания, подорваны дефектами в предполагаемых ими взаимоотношениях, и обязательствами, способными выдержать рациональную критику, полностью компетентную во взаимоотношениях, которые они предполагают. Последние являются морально обоснованными обязательствами. Это поражает меня как очень многообещающая теория. До сих пор я не видел ничего особенного в том, что прагматик должен находить то, что вызывает возражения. Если это метафизическая теория, она должна быть в некотором смысле безобидной. Я бы предпочел назвать ее просто философским предметом. Если личный Бог действительно существует и избирает взаимодействие с нами, тогда наши взаимоотношения с Богом, согласно только что приведенной теории, должны быть способны порождать обязательства. Если Бог отдает нам приказы, значит он предъявляет к нам своего рода социальные требования. Теория полагает, что ценность социальных уз необходима для придания силы их обязательствам. Центральное утверждение теизма состоит в том, что божественные заповеди возникают в контексте продолжительных взаимоотношений, которые признают хорошими — даже превосходными — вовлеченные в них люди. Если Бог проявляет интерес к целой гамме человеческих взаимоотношений, то он волен требовать, чтобы люди исполнили все обязательства, вытекающие из правильно оцененных взаимоотношений. Это трансформирует все морально обоснованные обязательства в религиозные обязательства. Все это так, если мы начнем с социально-прагматической теории обязательства и затем фактора в теистическом воззрении на то, что собой представляют релевантные взаимоотношения и кто в них участвует. Неприверженные теизму прагматики не примут дополнений, но это и понятно. Тем не менее противоречивые дополнения не должны обращаться к метафизике уничижительно, но затрагивать лишь некоторые сомнительные онтологические утверждения. Адамс внимательно следит за тем, чтобы его исследование божественных заповедей не оказывало чрезмерного влияния на эпистемологию предлагаемого им морального суждения. Определяя, что именно рассматривать как моральное обязательство, согласно Адамсу, мы должны рассмотреть не только то, что, как мы думаем, Бог приказал нам делать, но также то, выдерживает ли рациональную критику содержимое предполагаемой заповеди. Такая 353 критика должна принять во внимание наше лучшее понимание божественной доброты. Команду, исходящую, как мы изначально воспринимаем, из божественного источника, но который нельзя разумно рассматривать как вид указа, который любящий и мудрый Бог мог издать, не следует воспринимать как божественную заповедь. Этот аспект теории Адамса ставит ее намного выше большинства теорий божественных заповедей на теоретическом и практическом уровнях. Теоретически это позволяет ему обходить возражения Сократа в адрес того типа теологической этики, который отстаивал Евтрифрон в одноименном диалоге Платона. В дальнейшем это делает теорию гораздо менее предрасположенной, чем это могло быть в другом случае, к идеологическим злоупотреблениям, фанатизму и жестокости со стороны тех, кто пытается в соответствии с ней жить. Например, Адамс прямо отрицает в главе 12, что любящий Бог мог вообще приказать Аврааму убить Исаака (Быт. 22: 1–19). Так что любой, кто верит, что получил подобный приказ от Бога, не уполномочен тем самым на его осуществление, но скорее обязан изменить свое мнение о том, что именно истинный Господь приказывает. Хорошо бы все верующие подвергали свои гипотезы о божественных заповедях подобному тесту (35)! Теологическая концепция морального обязательства Адамса — видение человека, оставляющее большое пространство для самокритики. В главе 11 Адамс недооценивает теоретическую важность включения Бога в анализ морального обязательства. Объяснительное преимущество этого, утверждает он, укрепляет восприятие обязательств как объективных сущностей. Если мы считаем, что указания Бога покрывают все, что требуется в любом отношении в подлинно полноценных взаимоотношениях, то все обязательства оказываются самыми что ни на есть объективными. Поскольку божественные заповеди не являются, по определению, человеческими артефактами, они обеспечивают точку опоры для подлинно обязательного за пределами сферы чисто человеческих социальных практик, хотя и не вне всех социальных практик. Это тот самый пункт в размышлениях Адамса об обязательстве, где можно подозревать, что автор относится со снисхождением к метафизике в уничижительном смысле, так как Бог призывается здесь именно для поддержки нашего ощущения объективности наших оценочных практик. Адамс не отрицает, что обязательства суть продукты социальных взаимоотношений и практик подразумеваемой ими подотчетности. 354 ^ 11. £< ]A ¤A< Не отрицает он и то, что рациональная критика этих отношений часто может вскрыть разницу между дефектными и хорошими взаимоотношениями, таким образом устанавливая различие между дефектными и обоснованными обязательствами. Но он предпочитает не полагаться лишь на обращение к человеческой практике рациональной критики в определении этого различия. Поскольку морально обоснованные обязательства определяются как обязательства, возникающие из хороших взаимоотношений, объективность морального обязательства зависит от объективности добродетели. Именно это подразумевает Адамс, когда говорит, что добро первичнее правильности в его представлениях об этике. Тип добродетели, обсуждаемый здесь, — превосходство. И с точки зрения Адамса необычайно важно, чтобы превосходство было объективным со всей очевидностью. Что же такое тогда превосходство? Какой тип добродетели? Отличающийся от полезности, похожий на благополучие; люди ценят его сам по себе. Адамс отличает его от благополучия, описывая как «добродетель, достойную любви и восхищения, почета и поклонения» (83). Различие проведено точно, и Адамс эффективно использует его в споре, имеющем цель показать, что наш интерес о собственном благополучии должен привести нас к заинтересованности в обладании превосходством. Определив свойство превосходства таким образом, аккуратно разместив его среди типов добродетели, не постигаем ли мы природу превосходства уже в нашем понимании? Термины «превосходное» и «истинное» имеют параллельные употребления. Оценка чего-то как превосходного обычно выражает одобрение. Это является параллельным одобрительным употреблением «истинного». Термин «превосходное» также имеет аналогичное употребление предупреждающему употреблению «истинного», как в примере: «Х соответствует нашим высочайшим идеалам в их настоящем состоянии, но Х может и не быть превосходным» (36). Учитывая эти употребления, мы можем заключить, что руководящие и объективные измерения разговора о превосходстве соответственно встроены в концептуальную роль термина. Нам не нужна помощь метафизического теоретизирования, чтобы сделать то, что предупреждающее употребление «превосходного» уже делает. Превосходство, грубо говоря, есть качество того, что достойно любви и восхищения; и в условиях предупреждающего употребления «превосходного» это качество следует понимать как нормативный статус, насчет которого мы можем ошибаться. Гораздо больше 355 можно сказать о том, что стоит уровнем ниже, давая разъяснения о таких типах превосходства, как красота и добродетель, и типах обстоятельств, их иллюстрирующих. Такие детали обогащают наше восприятие того, что есть превосходство. Оно заключается в разнообразных типах, каждый из которых должен быть понят в контексте практик, в которых мы приобретаем и выражаем наш интерес и заботу о нем, — искусство, уход за ребенком и так далее. Но что еще теоретически следует сказать о превосходстве как таковом? Адамс жаждет большего, и его основание снова относится к объективности. Он считает, что природа превосходства должна быть описана таким образом, чтобы его независимость от человеческой оценки была гарантирована метафизически. Необходимо сделать что-то, полагает Адамс, чтобы оградить превосходство от превращения в то, что люди любят и чем восхищаются. Превосходство, правильно понятое, должно оказаться таким же независимым от наших реакций, как и истина. Осознать параллель между предупреждающими употреблениями «превосходного» и «истинного» означает оказать доверие идее о том, что рассуждение о превосходстве объективно в определенном и довольно сильном смысле. Но это, с точки зрения Адамса, всего лишь семантика. Нам же нужен анализ природы превосходства. Если оно состоит просто из того, что люди любят и чем они восхищаются, ему будет недоставать определенной независимости, которая бы позволила нам говорить осмысленно о том, что неправильно в наших суждениях о превосходстве. Иногда мы любим и восхищаемся людьми, которые этим злоупотребляют. Мы патологически дорожим взаимоотношениями, которые нас к ним привязывают, и принимаем требования, предъявляемые ими к нам, как подлинные обязательства. Такие люди не заслуживают нашей любви и восхищения; такими взаимоотношениями дорожить нельзя. Чтобы это осознать, нам нужен анализ превосходства как объективного свойства, независимого от того, что мы любим и чем восхищаемся. Та же задача возникает и для Джексона, и для Адамса в связи с достоинством, присущим людям (37). Превосходство данного рода обычно являет себя компетентным судьям. То, что такие судьи любят и чем неизменно восхищаются, получив полную информацию и широкие возможности для критической рефлексии, и есть наше лучшее руководство в поисках превосходства (38). Компетентный судья — это знаток образцов одобрения и неодобрения, присущих определенной социальной практике, включающей типы вещей, которые он считает достойными любви и восхищения. Человека, глубоко сведущего в джазе, непо356 ^ 11. £< ]A ¤A< средственно интересующегося им как любитель и способного критически оценить джазовые выступления, можно охарактеризовать как компетентного судью. Этот человек умеет отличить саксофонное соло, сыгранное начинающим, от соло, сыгранного зрелым Лестером Янгом. Слушатели, которые не могут их отличить в условиях, когда у них есть возможность без помех прослушать оба выступления и сколь угодно рассуждать о них критически, немедленно будут признаны среди любителей джаза некомпетентными практиками. К моральному превосходству можно подойти сходными путями. И здесь компетентный судья есть тот, кто овладел репертуаром соответствующих нелогических реакций (от отвращения до восхищения) и логических обычаев, задействуемых при критическом осмыслении таких реакций. Возьмем практику ухода за ребенком, где разговор о моральном превосходстве имеет надежнейшую опору и очевиднейшую функцию. Приступая к данной практике, мы можем, например, воспитывать задиристых детей. Предположим, что воспитание в данном случае проходит успешно. Кажется, что маленький мальчик преодолел свою привычку дразнить сестричку. Он больше не вопит и не бьет ее, когда она трогает его игрушки. Его родители выражают одобрение, хваля его: «Какой славный мальчик!» Такие разговоры приписывают ему элементарную форму добродетели сдержанности, значительное моральное превосходство. Это тип положительного качества является статусом в процессе морального развития, с которым мы все знакомы. Мальчик либо обладает таким статусом, либо нет. Его родители могут ошибаться, приписывая его сыну. Возможно, они чрезвычайно горды и готовы одобрять все, что он делает. Конечно, мальчик обладает рассматриваемым качеством, только если их одобрение как участников практики воспитания ребенка может выдержать критическую проверку в свете еще более полной информации о поведении мальчика, в частности и его развитии в целом. Я почти подошел к тому, чтобы отождествить превосходство мальчика с его новоприобретенным умением добиваться одобрения от компетентных практиков «в условиях роста объема неоценочной информации и критической рефлексии» (39). Пойти на такой добавочный редукционный шаг в основном ради превосходства — противоречивый поступок, против которого Адамс возражает. И у меня есть свои собственные причины для возражений этому. Предположим, в далекой галактике существует высокоразвитая цивилизация, чье превосходство даже нельзя зарегистрировать в системе исчисления, принятой в любой оценочной человеческой практике. 357 Либо, если брать более близкий Адамсу пример, предположим, что Бог существует и что его величие превосходит понимание, которое может приобрести смертный. Отсюда следует, что есть такие формы превосходства, которые нельзя свести к стремлению добиться одобрения от людей, даже тех, кто действует в условиях, которые, с точки зрения человека, считались бы излишне идеализированными. Термин «превосходство» в таких мысленных экспериментах имеет рационалистическое употребление. Мне кажется, что могла бы найтись форма превосходства, которая выходит за пределы даже идеализированной человеческой способности ее распознавания. Это было бы что-то достаточно аналогичное нашим, более земным формам превосходства, чтобы вызвать ассоциации с ними (в целях мысленного эксперимента), но притом настолько превосходящим их, чтобы превышать человеческое понимание. Тем не менее причина того, что мысленные эксперименты с отдаленными галактиками перегружают используемое в них понятие превосходства, поскольку оно уже имеет свои непосредственные истоки в повседневных практиках, в которых оценка людей, черт характера и так далее самоочевидны в отношении к нашим земным интересам. Когда теисты приступают к практике восхваления и славословят Бога как сущность, чье величие превосходит человеческое понимание, они знают, что речь идет о превосходстве, но допускают, что не могут придать идее сильное положительное содержание. Мы бы не смогли получить представление о том, что такое превосходство, если бы это был единственный контекст, в котором мы используем термин «превосходство». Говоря практически, мы понимаем, что такое превосходство, поскольку постоянно взаимодействуем с конечными вещами, удовлетворяющими интересы в превосходстве, которые появляются в контексте таких практик, как воспитание детей, духовное наставничество, философия, наука, искусство, спорт и политика. Во всех этих практиках мы пытаемся что-то улучшить: поведение ребенка, наше понимание идеи, ряд институциональных мер и т.д. Мы улавливаем разницу между вещами, изменить которые у нас есть основание, и вещами, которые мы оправданно можем считать удовлетворительными и похвальными, учитывая общий смысл практики, выборочно приписывая им особые формы превосходства. Наше понимание того, чем превосходство является, влияет на нашу способность осмысленно отражать наш опыт нормативного продвижения среди множества различных практик. Таким образом, понять превосходство — значит овладеть своего рода мудростью, которую трудно или невозможно формули358 ^ 11. £< ]A ¤A< ровать утвердительно. Метафизическое искушение в данной области философии — это предположение, что эксплицитная, крайне обобщающая утвердительная формулировка сможет представлять собой достижение в практическом понимании, приобретенном посредством некоего исключительного опыта. Однако мы должны как-то разрешить более глубокую заботу Адамса — существование конфликтующих сообществ компетентных экспертов. Большинство из нас сумело бы отличить выступление Лестера Янга от выступления новичка. Мы бы одобрительно реагировали на образец музыкальной импровизации первого, но не последнего. Мы также солидарны со всеми родителями, одобряя ребенка, преодолевшего свою привычку дразнить сестру. Однако, к несчастью, существует множество конфликтующих сообществ компетентных экспертов, претендующих на полномочия в отправлении правосудия по вопросам о превосходстве. Предположим на мгновение, что любители джаза находят диско отвратительным. Они могли бы и предоставить фанатам диско право суждения по вопросам об относительном достоинстве диско (как танцевальной музыки), но не в вопросах о том, превосходны ли лучшие исполнители музыки диско. Фанаты диско могут быть готовы признать превосходство Лестера Янга над новичком, но не великолепие «Love Supreme» Джона Колтрейна как образчика исполнительского мастерства. Подобным же образом демократы-эмерсонианцы и нацистские офицеры вряд ли оценили бы одинаково такие черты, как сострадание к врагу и покорность своему военному начальству. Кому решать, кто является компетентным судьей в таких вопросах? Прагматик скорее рассматривает этот вопрос в практическом свете, чем представляет его философской загадкой на тему объективности. Относительные достоинства джаза и диско стали предметом объективного исследования в результате создания такой социальной практики, как музыкальная критика. В этой практике глубоко исследуются различные формы музыкального выражения, в отношении и их социальных функций, и пробуждаемых ими высоких эстетических устремлений. Со временем класс компетентных судей обретает определенный авторитет, позволяющий выносить взвешенные суждения об относительной художественной ценности, при этом оценивая джаз выше, чем диско. Таким же образом способ трансформации относительных заслуг нацистских и эмерсонианских определений ценности в предмет для объективного исследования должен создать практику критики, в которой могут сравниваться различные человеческие этические практики. И снова надежда 359 на то, что в какой-то момент претензию на компетентность суждений по поводу таких предметов можно будет представить как заслуженное право. Без построения и развития такой практики мы имеем лишь различные сообщества, выносящие предвзятые и необоснованные суждения о мнениях друг друга. Пока для оценки таких суждений не будут разработаны стандарты, сами суждения скорее всего будут необъективными и ненадежными. Это не означает, что им недостает истинности, так как некоторые из них явно ошибочны. Но называть некоторые из них «ошибочными» будет заслуженным по праву, согласно прагматикам, только в отношении начальной метапрактики. Делать подобное утверждение можно честно или нечестно, но оно не принадлежит объективному когнитивному устремлению, если только оно не представлено как утверждение, для которого могут быть востребованы основания. Когда кто-либо говорит, что композиция «Love Supreme» превосходна по сравнению с любым выступлением Bee Gees, он либо выражает культурный снобизм в недисциплинированной форме, либо имплицитно указывает в сторону критической практики, в которой это суждение может быть оправданно. Поскольку такая практика существует, у меня есть основания доверять, что выступление Колтрейна будет вызывать неизменное восхищение хорошо осведомленных, критически настроенных судей. Даже если эта черта не исчерпывающе характеризует исследуемое превосходство, она все же объясняет мне, где его следует искать. Если я хочу его испытать, мне понадобятся находящиеся, по крайней мере до какойто степени, в идеальных обстоятельствах и условиях компетентные и отвечающие требованиям практики. Сходным образом полученная метапрактика в области этического критицизма решительно исключила утверждения нацистов о достоинствах из сферы серьезного рассмотрения. Но как в музыкальной критике, так и в межкультурном этическом исследовании существует множество предполагаемых примеров этического превосходства и неадекватности, еще нуждающихся в стабильной реакции самых знающих и проницательных судей. И их все больше с каждым днем. Однако можно получить довольно ясное представление о том, что идеально компетентные судьи должны будут узнать и какого рода критическую рефлексию они скорее всего будут применять. Так что нет причин предполагать, что здесь мы имеем дело лишь с субъективным материалом. Однако Адамс добивается пропозиционального утверждения, в котором определяется суть превосходства любой превосходной 360 ^ 11. £< ]A ¤A< конечной вещи. Всякий, кто заранее не убежден, что это усилие необходимо, будет склонен подозревать, что когда Адамс переходит от обычного употребления «хорошего» и «превосходного» к разговору о Боге как о трансцендентном Благе, происходит недозволенная материализация. Бог, согласно Адамсу, есть неизменно действующая парадигма превосходства. Превосходство конечной вещи, заключает он, в ее сходстве с этой парадигмой. Неясно, эффективно ли данное объяснение, даже если мы примем теологические предпосылки Адамса. В первую очередь, ценность многих типов превосходства происходит из их роли в жизни конечных, несовершенных физических существ, находящихся в природном мире. Неясно, какую параллель некоторые из этих типов превосходства могли бы иметь в жизни Бога (40). Во-вторых, как признает Адамс, с античных времен философы сомневались, что разнообразие превосходства можно отнести на счет модели, столь же унитарной, как и поддерживаемая им платоническая (38–41). Существуют, однако, и другие проблемы. Когда мы оцениваем превосходство конечных вещей, мы (имплицитно или эксплицитно) применяем к этим вещам наши нормы. Иногда норма принимает форму образца, с которым мы сравниваем другие примеры того же рода. Но когда мы оцениваем их превосходство, то оцениваем не обязательно их сходство с чем-то другим. Обычно то, что мы оцениваем в них, является просто их превосходством, или некоторым особым аспектом их превосходства, как, например, изобретательная экспрессивность музыкальных рифов гитариста или стойкость протестующего. Это не их сходство с высоким, парадигматическим образцом, не говоря уже о существе (реальном или воображаемом), выше которого уже нельзя и помыслить. Предположим, атеист совершает один и тот же героический поступок в двух возможных мирах и что эти миры очень похожи, за исключением того, что в одном из них Бог существует (41). Предположим далее, что в обоих мирах вы становитесь свидетелем героического поступка и оцениваете его моральное превосходство. В мире, в котором существует Бог, поступок оказывается в чем-то похожим на Бога. Его практическая мудрость изображает собственную мудрость Бога, его сострадание к людям иллюстрирует любовь Бога и так далее. Даже при этих условиях сходство поступка с Богом не обязательно будет тем, чем вы, полагая его превосходным, его считаете. Является ли тогда сходство с Богом идентичным превосходству? То, что вы предположительно оцениваете как превосход361 ство поступка, по общему мнению является свойством, разделяемым поступком и Богом, тем самым свойством, разделение которого и составляет сходство. Это вполне может оказаться свойством, которым бы обладал поступок и в предполагаемом безбожном мире. В этом мире поступок также обладал бы свойством, но ему бы недоставало отношения сходства с божественностью. Зачем утверждать, что превосходство было бы иным свойством в этом мире? В любом случае неясно, как сходство с божественным может объяснить, что является свойством, что мы оцениваем при оценке превосходства в любом из этих миров. В каком бы из наших возможных миров мы ни находились, наше практическое понимание превосходства будет зависеть от испытываемых нами различных форм превосходства. Это одна из причин, чтобы пытаться воспринимать высокое искусство или философию; это углубляет наше понимание превосходства, тем самым направляя нас к обладанию превосходства в нашей жизни в целом. Точно так же взаимодействие с в высшей степени добрым существом имело бы огромное значение для нашего понимания превосходства, даже если мы все еще могли бы посчитать невозможным выразить это понимание в виде информативного, реального объяснения. Если такое существо есть, мы должны будем превозносить его превосходство и надеяться углубить наше понимание превосходства, взаимодействуя с ним (или участвуя в нем). Далее мы могли бы следовать за Бартом, описавшим все конечные формы превосходства как бледные отражения превосходства Бога. В этом случае мы также могли бы твердить, как символ веры, что божественное превосходство есть аналог и что любой конечный пример превосходства является аналогичным. Вне контекста это могло бы показаться именно тем, что утверждает Адамс. Но Барт стал бы отчаянно отрицать, что наша светская концепция превосходства, построенная на опыте превосходных конечных вещей, сама по себе без божественного милосердного вмешательства способна нести адекватное свидетельство Бога. Бартианское подтверждение Бога как архетипа превосходства принадлежит теологической инициативе, в которой вера стремится к пониманию. Вера воспринимается как ее абсолютная исходная посылка. Правильно воспринятая теология развивает все попытки спорить лишь на философских основаниях от опыта конечных вещей к Богу, находящемуся в положении метафизического explanans. Контраст Explanans — объясняемое (лат.). 362 ^ 11. £< ]A ¤A< между бартианской концепцией аналогии и концепцией сходства Адамса делает метафизическое происхождение последней весьма рельефной (42). Как же нам овладеть понятием превосходства? Путем участия в оценочных практиках. В этих практиках мы имеем дело с примерами превосходства и учимся применять такие выражения, как «хорошее», «лучшее чем», «красноречивое», «красивое» и «добродетельное» в согласии с нормами нашего сообщества. Есть также важная роль воображения, поскольку мы учимся проецировать идеалы превосходства на базе опыта конкретных конечных вещей, хороших в одних отношениях, но не в других. Монотеистические традиции объединяют эти идеалы в одну концепцию божественности — индивидуальное существо, не только являющееся образцом превосходства, но также каузально ответственного за создание и судьбу мира. Тогда выходит, что предположительная реальность божественности объясняет множество вещей, включая превосходство конечных вещей, похожих на нее. Предшествующее объединение идеального и реального, однако, очевидно, противоречиво. Фейербах, Фрейд, Сантаяна и Дьюи осуждали его как подмену действительного желаемым. Не отрицая элемент желаемости, Паскаль и Уильям Джеймс считали такое объединение доводом сердца. Особенно для тех, кто находится на краю отчаяния, спасительным утешением может оказаться вера в то, что наши самые возвышенные идеалы имеют место в реально действующем бытии, не только в совершенной парадигме добра, но и в силе, способной заботиться о том, чтобы все в конечном итоге было хорошо (43). Я не возражаю против людей доброй воли и общепринятых правил приличия, подразумевающим веру в такого Бога. Кто я, чтобы осуждать их? Но я сильно сомневаюсь в мудрости отношения к объективности этики, якобы зависящей от веры, разделяемой лишь некоторыми. Было бы глупо делать вид, что религиозные обязательства не играют крупнейшей роли в формировании интуитивных представлений о том, к чему философ должен стремиться в данной области. Если Бог создал землю и сразу объявил ее превосходной, и только затем перешел к созданию человека, какой смысл настаивать на том, что превосходство как нормативный статус представляет собой создание человеческих практик (44). Но это лишь означает, что смысл практики божественного творчества состоит в улучшении чего-либо, в данном случае — бесформенной пустоты. Практика, нацеленная на улучшение, наделяет содержанием и смыслом различия между вещами, которые характеризуются как превосхо363 дные, и вещами, которые относительно неадекватны. Если божественность и множественна, как, например, в форме множественного числа, употребленная в древнееврейском тексте Книги Бытия (1:26), или в христианском догмате Троицы, либо имеет аудиторию ангельских существ, практика творения даже могла бы иметь социальное измерение, с ортодоксальной точки зрения. Прагматизм, понимаемый строго как критика метафизики, в уничижительным смысле, не должна волновать просто история, в которую честно верят. Его спор — не с Богом Амоса и Дороти Дэй, или даже с Богом бартианской теологии, но с Богом Декарта и Богом аналитической метафизики. Его анализ превосходства, как и обязательства, может примирить всех людей, все социальные взаимоотношения и практики. Его цель не в том, чтобы заставить защищаться граждан, мыслящих теологически. Цель его анализа не в том, чтобы поставить не склонных к теологии граждан в положение обороняющихся. Цель, которую преследует прагматическая этическая теория, состоит скорее в том, чтобы выяснить, что общество, мнения в котором разделились по вопросу о природе и существовании Бога, тем самым не обречено оценивать свой этический дискурс как необузданное стремление. Если Бог философов умер, еще не все позволено. Еще могут существовать морально обоснованные обязательства, связывающие нас, как и многие формы превосходства, которыми нужно овладеть. Прагматизм вступает в конфликт с теологией в этической теории в основном тогда, когда ктолибо утверждает, что этическая функция провозглашения истины зависит, ввиду ее объективности, от постулирования трансцендентного и совершенного существа (45). Метафизика утверждает необходимость и затем заставляет толкователя божественного удовлетворить ее. Прагматизм исследует необходимость и затем ставит под сомнение последовательность объяснения. Наше понимание объективности обязательства лучше всего в тех обычных контекстах, в которых мы полностью осознаем смысл требований друг к другу жить в соответствии с потребностями приличных взаимоотношений, когда мы принимаем в них участие. За пределами контекста веры наше понимание объективности превосходства надежнее в практичных, но все же устремленных ввысь моментах, когда мы переживаем определенную конечную ситуацию, значительно лучше других подобного рода, и наше сердце спонтанно наполняется восхищением. Думая иначе, мы рискуем оторваться от самой деятельности, в которой оценочные свойства и характерные для нас черты обычно открываются. Природа обязательства 364 ^ 11. £< ]A ¤A< и превосходства есть нечто, чем мы овладеваем в наших практиках. Их способность выходить за рамки информированности компетентных судей раскрывается для нас, когда мы испытываем социальные и духовные кризисы и вынуждены бросить столь долго пестуемые правила и образцы как иллюзии. Такие повороты учат людей чему-то важному о наших аллюзиях на морально обоснованные обязательства и подлинное превосходство: несмотря на метафизическое утешение, у нас есть сокровище в глиняном сосуде, и мы должны им максимально воспользоваться (46). «Кто мы такие? Часть цепи, начала и конца которой мы не знаем, уверовав, что их и не существует. На миг пробудившись, мы ощутили себя стоящими на лестнице: под нами пролеты, которые мы, кажется, осилили, над нами множество других пролетов, которые уводят все вверх и вверх, пока не теряются там, куда не достигает взгляд» (47). На лестнице, на которой нахожусь я, пройдено меньше, чем остается. Так лучше видно. Эта перспектива превосходит другую. Я объявляю ее превосходной, но не совершенной, поскольку могу представить еще лучшую. Зависит ли это суждение в своей объективности от того, дает ли самая верхняя ступень совершенную перспективу? Если я еще не вижу самого верха, все так же ли я еще не знаю, о чем говорю, когда утверждаю превосходство своей настоящей перспективы?» (48) 365 Глава 12. Этика как социальная практика ^ 12 ЭТИКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В предыдущей главе доказывалось, что даже если человек не приемлет метафизического объяснения того, что собой представляют нравственное обязательство и превосходство, разумным остается взгляд на этический дискурс как на объективный предмет. Теперь я приведу дополнительный аргумент в поддержку этого вывода и обращусь к предлагаемому Брандомом описанию способов, применяемых нами при отслеживании наших убеждений и намерений, к которым мы прибегаем и которые приписываем другим людям при общении с ними. Игра, как сознавал Витгенштейн, являет собой относительно красноречивый пример социальной практики, относительно простой ее вид, принадлежащий к тому же роду, к которому принадлежит этический дискурс. Брандом проводит аналогию между дискурсивными практиками и играми, проливая тем самым свет на объективное измерение этики как социальной практики. Моя основная задача при анализе текста Брандома состоит в том, чтобы показать, каким образом прагматизм может наиболее эффективно противостоять таким течениям, как теория договора, согласно которым тирания большинства эффективно определяет, что же такое обязательство и превосходство. ]¹<& ¥ <&< @¥&) §<< В пляжном бейсболе нет судей. В уличном футболе нет арбитров. Игроки сами следят за пробежками, голами и тем, насколько хорошо играет каждый участник. Сходным же образом в формах дискурса, включающим в себя такую составляющую, как объективное исследование, игроки принимают убеждения и приписывают их друг другу. Они верят друг другу в приверженности убеждениям и периодически упрекают друг друга в безответственности в принятии тех или иных убеждений. Они, так сказать, присуждают очки за убеждения, которые считают правильными. Каждый участник может отнять ранее присужденное очко, если сочтет, что последую366 ^ 12. £< << @¥&­ §<< щее развитие практики исследования обеспечивает такое изменение в присуждении одобрения предложениям. Так, человек может заявить примерно следующее: «Я думал, что убеждение Смита относительно Х верно, однако это не так». Когда так происходит, нет необходимости измышлять что-либо о том, как Смит сыграл в данную игру, или о том, насколько он привержен своему убеждению. Он может по-прежнему считаться разумным исследователем и даже одним из лучших. Человек, считающий именно так, будет склонен извинять Смита за то, что тому не удалось принять взгляды, которых мы сегодня придерживаемся. Такой человек скажет что-нибудь вроде: «То, что Смит думал по поводу Х, неверно, но думал он так оправданно». Правила бейсбола не улучшатся, если мы добавим к ним раздел о зачетных пробежках, где говорилось бы, что игрок, касающийся «дома», обежав все базы, получает очко только в том случае, если он его действительно коснется. Мы не станем лучше осведомлены, если нам скажут, что зачет пробежки в игре соответствует физическому положению дел, когда игрок реально касается «дома». Но пляжный бейсбол был бы во многом другой игрой, если бы игроки при присуждении зачетных очков не подчинялись строгим правилам. Эти правила как минимум подразумевают внимание к свидетельствам и стремление избегать ложных влияний и выдавать желаемое за действительное. Эти антинарциссические, дисциплинирующие аспекты зачитывания очков относятся к объективной составляющей бейсбола как практики. Сходные аспекты присущи объективному научному исследованию, и мы испытываем потребность расширять и совершенствовать их. Объективность исследования — это вопрос ограничений, которые практика накладывает на ее участников, когда они формируют убеждения и следят за нормативными статусами, в формировании которых участвуют другие, и за предложениями, которым они сами привержены. Ограничения направлены на объекты в том смысле, что они предполагают внимание к исследуемому предмету, равно как и дисциплинированное старание не выдавать желаемое за действительное, избегать рационализации и связанных с этим вторжений «просто субъективных» факторов. Этический дискурс обладает объективной составляющей, поскольку в нем присутствуют ограничения описанного рода. Почему имеет смысл проводить границу между оправданием веры в моральный тезис и истинностью этого тезиса? Потому что имеющийся в нашем распоряжении способ следить за убеждениями и предпо367 сылками, относящимися к этическим материям, включает в себя то самое разграничение фактора, который можно назвать «как ты играешь», и правильности убеждений. Тот факт, что этические предметы сами по себе часто являются нормативными статусами (а не природными объектами), не уменьшает для нас необходимости обретать приверженность убеждениям, прибегая к материям, отличным от наших субъективных состояний. И вопрос правильности наших убеждений, приписывания убеждений кому-либо и приписывания приверженности в этическом дискурсе — это не вопрос воли или желания, чтобы они были правильными. Ведомый божественным повелением теоретик мог бы захотеть заявить, что адекватная модель прослеживания отношений наших собеседников в этическом дискурсе неизбежно предполагает наличие единой фигуры, обладающей высшим авторитетом. Правила высшей бейсбольной лиги и высшей футбольной лиги наделяют главного арбитра исключительными полномочиями определять счет. Пробежка или гол засчитывается тогда и только тогда, когда об этом объявит официально назначенный арбитр. Теория Брандома гласит, что дискурсивная практика может быть объективной в обсуждаемом смысле, не будучи толкуемой в соответствии с авторитарной моделью зачета. Если Брандом прав, то в демократическом обществе, где монополия на авторитет не признается всеми участниками этического дискурса, для человека в принципе возможно быть приверженным убеждениям и формировать убеждения, которые правильны по содержанию. По тем же причинам, по которым можно играть в бейсбол на пляже, в футбол — на улице, этический дискурс может сохранять объективную составляющую и при отсутствии единого авторитета в вопросах истинности и ложности. В этике, как и в большинстве форм объективного дискурса, все мы следим за мнениями наших собеседников, равно как и за своими собственными (1). Рассмотрим пример футбола более детально. До того, как люди изобрели данную практику, не существовало такого нормативного статуса, который мы имеем в виду, когда говорим о «нарушении правил». Этот нормативный статус явился порождением социальной практики, участники которой считают, что тот или иной из них нарушил правила или не нарушал их в ходе соревнования с противником на футбольном поле. Но эта зависимость нормативного статуса от социальной практики ни в малейшей мере не опровергает того, что заявления о нарушениях в их статусе могут быть истинными или ложными. Каждый, кому интересен футбол и кто понимает его 368 ^ 12. £< << @¥&­ §<< законы, действует так, как будто заявления о статусе имеют истинностную ценность. Такой человек рассматривает вопрос об истинностой стоимости таких заявлений как вопрос объективный, который может быть разрешен путем обращения к достойным доверия свидетелям, к просмотру видеозаписей и так далее. До того как официальные лица в британских частных школах приступили к формализации футбола и к созданию ясно выраженных правил, нормы, которым подчинялись игроки в футбол, существовали в неявной форме. К середине девятнадцатого века некоторые люди, движимые надеждой сократить количество травм при проведении досуга, стали изъявлять желание а) прерывать игру при особо жестоком поведении того или иного игрока и б) передавать мяч в распоряжение пострадавшей стороны. Молчаливо признаваемая неправомерность грубости позднее была открыто заявлена в тексте правил, запрещающих нарушения и устанавливающих а) и б) в качестве наказаний на нарушения. Когда «Законы Игры» были сформулированы, данный принцип стал подвергаться критическому и рациональному пересмотру. В результате этого критического процесса был недавно формально запрещен подкат сзади. Основания для введения этого конкретного правила оказались благими. Применение установленных правил является объективным явлением, и потому объективен их рациональный пересмотр с точки зрения удовольствия, интереса и других благ играющих и зрителей. Согласно Брандому, «нормы не являются объектами причинноследственного порядка» (MIE, 262). Но здесь же он добавляет, что нормативные отношения присутствуют в причинно-следственном порядке. Брандом говорит, что Кант был прав, утверждая, что нормативные отношения создают нормативные статусы. Гегель соглашался с этим центральным тезисом Канта, но критиковал Канта за то, что тот объяснял процесс становления норм как процесс произвольного законодательства и строил модель общества на основе договора независимых рациональных его членов. Гегель утверждал, что теория общественного договора недостаточно социологична или исторична, чтобы сыграть роль в становлении этических норм. Нормы не возникают благодаря тому, что отдельные индивиды, уже в полной мере обладающие практической рациональностью, выражают приверженность общественному договору. Они возникают вследствие взаимно признаваемых видов деятельности, которые позволяют людям обладать общей для них культурой. Этические нормы, по мнению Гегеля, создаются не благодаря чему-то вроде договора (между изначально рациональными участниками), 369 а благодаря форме этической жизни (которая формирует субъективность и рациональность участвующих в ней индивидов). Эта форма жизни одновременно порождает и этические нормы, и рациональных индивидов, которые используют, изучают и пересматривают эти нормы. Следовательно, демократические этические нормы устанавливаются тем же способом, какой применили футболисты, установив нормативные статусы, касающиеся нарушения правил. Еще до того как появилось правило, запрещающее нарушения, футболисты приобрели привычку останавливать игру после проявлений грубости. Таким же образом и демократические этические нормы первоначально образовались из общей для людей склонности реагировать определенным образом на поведение определенного рода. Это маленький, но важный шаг к созданию открыто формулируемых правил, а затем — к критическому рассмотрению и рациональному пересмотру правил в интересах целей, которым они призваны служить (рационально сознательной жизни, которая благодаря им становится возможной). Да, эта концепция этических норм как порождения социальной практики восходит к Гегелю, но американский прагматизм переформулировал ее, избавив нас от неясностей гегелевского изложения. Эта концепция близко подходит к объективистскому представлению о нормах, полностью независимых от человеческой деятельности, но при этом позволяет нам утверждать, что этический дискурс являет собой попытку выразить претензии на истину и обрести приверженность ей путем высказывания объективных соображений. Ясно, что утверждения футболистов о том, кто и против кого нарушал правила, могут быть истинными или ложными. Верно ли, что Беккенбауэр нарушил правила против Чарльтона на пятьдесят третьей минуте финального матча чемпионата мира 1966 года, зависит от физического контакта, в котором находились в тот момент соответствующие части тел Беккенбауэра и Чарльтона. Понятно, этот вопрос не является вопросом нашего субъективного состояния. Если мы намерены ответственно рассудить Беккенбауэра и Чарльтона, нам нужно занять такое положение в физическом мире, которое будет удобным для рассмотрения таких физических объектов, как голени, щиколотки, ступни и локти обоих игроков. Конечно, при этом мы заведомо должны исходить, во всяком случае на данное время, из того, какой контакт считается нарушением. Мы принимаем как данность, что свойства игры в футбол такие, а не иные (в том смысле, как мы их понимаем при оценках со370 ^ 12. £< << @¥&­ §<< ответствующей социальной практики). Но ничто не мешает нам уже в следующую минуту подвергнуть «Законы Игры» в том виде, какой они имеют сейчас или имели в 1966 году, критическому рассмотрению. Очевидно, что вопрос о том, должно ли быть изменено то или иное правило, — это вопрос, в решении которого определенную роль играют объективные соображения. Так что у нас есть все основания предполагать, что разговор о нарушениях и нормах в футболе имеет истинностную, объективную составляющую. В футболе немало говорят о превосходстве, и здесь также присутствует объективная составляющая. И Беккенбауэр, и Чарльтон всеми признаются превосходными игроками, а Беккенбауэр вызывает восхищение как один из четырех или пяти величайших футболистов, которых знал этот вид спорта. Высокая оценка, которой удостоились эти игроки, либо заслуженна, либо нет. Каждый, кто назовет Чарльтона плохим или посредственным футболистом, сделает ложное утверждение, проявит тем самым либо незнакомство с игрой Чарльтона, либо свою некомпетентность как судьи в таких вопросах. Здесь речь пойдет об истинном и ложном. Объявляя Чарльтона прекрасным футболистом, мы выносим нормативное суждение. Соответствующие нормы можно выразить явным образом, утвердить стандарт высокого мастерства футболистов или футболистов определенного типа. В некоторых случаях придется принимать того или иного футболиста образцовым. В других случаях мы смоделируем идеал, в котором умозрительно соединим достоинства нескольких хороших игроков и который еще не воплотился в жизнь. Но с течением времени стандарты меняются. Один из факторов, говорящих в пользу того, что Беккенбауэр — великий футболист, — это то, как его игра на позиции защитника преобразовала стандарты, применяемые с его времени при оценке игры защитников (2). Стандарты переменились благодаря особым свойствам игры Беккенбауэра: его мастерству паса, его способности подключаться к атаке, не ослабляя при этом защитные порядки команды, и так далее. Это — объективные соображения. Необходимость основываться на обусловленных нормах, которые видоизменяются вместе с самой игрой, не делает суждения о мастерстве чисто субъективными. Нет нужды говорить, что этические нормы во многих контекстах гораздо важнее и с большим трудом поддаются критическому пересмотру, чем качества и идеалы футбола. Но если этические нормы и нормы футбола, с точки зрения Гегеля, Дьюи или Брандома, формируются приблизительно сходным образом, то у нас нет основа371 ний предполагать, что принятие этой формы прагматизма лишает этический дискурс права считаться объективным (3). Прагматизм не отрицает объективную составляющую этики, но при этом ставит под сомнение адекватность двух типов философского рассуждения об этом предмете. Первый из них — объективистское описание моральной объективности, в котором не дается справедливой оценки нашей ответственности за ориентированные на объект нормы, применяемые нами в этике. Второй подход — это серия субъективистских выпадов против объективизма, когда философы либо пытаются вынуть объективного кролика из субъективной шляпы, либо полностью уходят от идеала объективности. То, что я здесь понимаю под прагматизмом, нужно воспринимать не как форму субъективизма, а как третий путь. Он предлагает социальную теорию моральной объективности, согласно которой как объективные этические нормы, так и субъективность тех, кто их применяет, становятся возможны отчасти благодаря социальному взаимодействию между индивидами. Но если решающее значение имеет отделение прагматизма от субъективизма, то не менее важно определить, какая социальная теория в нем содержится. Рассмотрим вопрос о неправильности такого поступка, как нанесение человеку удара кузнечным молотом по голове. В рассуждении, предлагаемом здесь читателю, моральная несостоятельность такого поступка изначально в неявной форме была заложена в предпочтениях людей, которые склонны отрицательно реагировать на определенный тип поведения, причиняющего вред, считать, что оно наносит ущерб не только пострадавшему, но и отношениям между людьми или кладет им конец. Существуют разные способы, которые общество может применить, чтобы открыто выразить данный нормативный статус. К примеру, мы могли бы приписать каждому человеку право не подвергаться подобному обращению. Когда это право признается, мы оказываемся вправе спрашивать в каждом конкретном случае, не нарушается ли оно. Очевидно, что этот вопрос в полной мере так же объективен, как и вопрос, нарушил ли Беккенбауэр правила, играя против Чарльтона. Но что мы можем сказать о вопросе, действительно ли люди обладают правом, которое мы им приписали? Этот вопрос уводит нас на ложный путь, если мы относимся к нему как к приглашению составить перечень всего, что реально есть. Прагматизм рассматривает права и обязанности как продукты социальных практик. Разве не все, созданное социальной практикой, существует? Конечно, существует, но некоторые мыслители хотят противопоставить социальные явления, скажем, физическим объектам 372 ^ 12. £< << @¥&­ §<< и тогда приходят к выводу, что первые чисто субъективны или онтологически сомнительны, и только вторые могут считаться сущностями первого порядка. Прагматизм не проводит такого противопоставления. В вопросе «Действительно ли люди обладают этим правом?» слово «действительно» имеет предостерегающий характер. Во-первых, оно помогает нам прибегнуть к возможности пересмотреть наши нормы и даже словарь, который мы используем при формулировании норм. Этот вопрос нельзя решить, составив онтологический перечень или типологию онтологических категорий первого и второго порядка. А во-вторых, это слово помогает нам задуматься над возможностью того, что все мы можем заблуждаться, приписывая людям это конкретное право или принимая стоящую за ним норму. В практических целях мы часто можем заменить предыдущий вопрос другим: «Имеется ли (действительно) у нас достаточно веское основание, по рассмотрении всех аспектов, приписывать людям право быть избавленными от ударов кузнечным молотом по голове?» Этот вопрос аналогичен следующему: «Имеется ли у нас достаточно веское основание придерживаться правила, запрещающего применять в футбольном матче подножки сзади?» Оба эти вопроса обладают тем достоинством, что в открытой форме привлекают наше внимание к основаниям, к рациональным соображениям за или против интересующего нас правила. Ответ на оба эти вопроса ясен, так как у нас есть все причины сохранять приверженность нашей концепции этих конкретных правил. Нам это известно в силу того, что мы в состоянии легко рассмотреть все соображения, которые, вероятно, имеют отношение к делу. А рассмотрев их, мы обнаружим, что все они ложатся на одну чашу весов. В наших ответах нет ничего произвольного. Однако в сомнительных случаях мы порой испытываем соблазн сказать, что решение, стоит или нет пересматривать норму, зависит от субъективного выбора. Это ощущение может вызвать беспокойство, что практика в целом по существу является отражением произвольного выбора, делом субъективным. Но на самом деле мы в таких случаях имеем дело с конфликтом или балансом рациональных соображений, а не с отсутствием таковых. Попытка взвесить эти соображения может быть объективным делом (в том единственном смысле, который стоит использовать в данном контексте) даже в том случае, когда она не приводит нас к недвусмысленному выводу. Почему? Потому что взвешиваемые нами соображения уводят наше внимание от субъективных состояний к вопросу о том, как люди и предметы существуют в мире сейчас и что с ними будет, если наши 373 нормы подвергнутся пересмотру. Будучи ответственными субъектами, мы обязаны взвешивать эти соображения с точки зрения того, что нас заботит как результат участия в оценочных практиках. Сами соображения, мотивы, движущие нами, когда мы принимаем свои этические установки, не могут быть поняты в отрыве от нормотворческих социальных практик, в которых мы их предлагаем и ищем. Ведь эти практики, а не единичный произвольный акт воли, дают нам основания, каково бы ни было их содержание и сила. На этом этапе тревоги, вызываемые различением истинности и оправданности, должны вновь быть извлечены на поверхность. Может показаться, что даже если мой прагматизм успешно дает представление об относительности оправданности для социального контекста, неотносительный характер истины невозможно согласовать с приоритетом социальных практик. Требуется ли от меня повышенное внимание к социальным практикам в итоге взглянуть на истину как на предмет общественного согласия? Не предлагаю ли я заменить сообщество компетентных этических арбитров вечным законом и произвольным законодательством воли в понимании Канта в качестве неодолимого авторитета в этической истине? И не сведет снова ли мое предположение истину к оправданности, поставив под угрозу предупреждающее использование слова «истинное» в социальной критике? На все три вопроса следует дать отрицательный ответ. Почему? Обратимся к фрагменту работы Ловибонд, написанной в защиту Витгенштейна от подобных обвинений: Хотя (в представлении Витгенштейна) это согласие, или согласованность, в нашем образе действия делает объективный дискурс материально возможным, данное согласие само по себе не «вступает» в соответствующую лингвистическую игру: когда мы задаем вопрос о некоем аспекте действительности, то не запрашиваем отчета о состоянии общественного мнения в отношении этого вопроса, мы хотим, чтобы нас снабдили истиной... Следовательно, представление, что рациональность основывается на консенсусе, не предполагает, что факт консенсуса обязательно должен иметь для нас какой-то вес в каком-либо конкретном отрывке размышлений об объективном мире. Это обстоятельство продемонстрировано нам отсутствием каких бы то ни было логических (или «грамматических») возражений на заявления типа: «Я прав, а все остальные неправы» (4). Действительно, существует смысл, в котором наше использование слова «истинное» базируется на согласии с социальной практикой. 374 ^ 12. £< << @¥&­ §<< Но согласие, значимое в этом контексте, это не то согласие, которое определяло бы, какие сущностные этические требования истинны, как будто все сообщество в целом может решать такие вопросы декретом. Скорее это практическое соглашение, которое мы осуществляем, используя понятия «истинное» и «оправданное» в разных значениях. По сути, мы договорились смотреть на истину в практике как на нечто, что нельзя устанавливать просто общественным соглашением. Это базовое общественное соглашение об использовании определенных слов в процессе самокритики придает слову «истинное» его неотносительный смысл. Когда я настаиваю на важности базового общественного соглашения, то не говорю и не подразумеваю, что при принятии решения о том, какие этические требования считать истинными, человек может в конце концов склониться перед волей сообщества как целого или же большинства его членов (5). Соглашение, о котором идет речь, здесь действует на другом, более глубинном уровне. Брандом говорит о том же, когда отказывает в адекватности тому, что называет «я — мы конструктами социальных практик, в которых концептуальные нормы содержатся в неявной форме». Такие конструкты обосновывают различие между тем, что индивиды считают или принимают за правильное приложение концепта, с одной стороны, и тем, что является правильным приложением, с другой, благодаря противопоставлению индивидуальных представлений общественным. Таков стандартный способ понимания объективности как межсубъектности. За принятие этого способа понимания социальной составляющей дискурсивной практики приходится платить неприемлемую цену: мы утрачиваем способность осмысливать различие между правильными и неправильными требованиями или приложениями концептов со стороны целого сообщества (MIE, 593f.; курсив в оригинале). Очень важно понимать, что, одобряя взгляд на нормы как на порождения социальных практик, я не одобряю сведение истины или объективности к тому, что считает истинным или объективным сообщество. Наши социально установленные концептуальные нормы на деле не допускают такого упрощения. Брандом особо выделяет то, что называет «я — мы» трактовками дискурсивных социальных практик, по следующей причине: Трактовки «я — мы» ошибочно исходят из существования привилегированной точки зрения, то есть той, что принадлежит «нам», сообществу. Объективная правильность требований (их истинность) и приложения концептов 375 определяется тем, что одобряется с этих привилегированных позиций. Идентификация объективности с межсубъектностью, понимаемой таким образом, неполноценна в том, что в ней не находится места для возможности ошибки в отношении этой привилегированной точки зрения: то, что сообщество принимает как правильное, является правильным (MIE, 599; курсив в оригинале). Согласно «я — мы» теории дискурсивных социальных практик, этическую истину можно определить как то, с чем соглашается сообщество, к которому принадлежит человек. «Устанавливается заранее, что любая точка зрения, с которой просматривается различие между тем, какой ситуация видится с привилегированных позиций [сообщества], и тем, какова она на самом деле, сама по себе абсолютно неавторитетна» (MIE, 600). Напротив, брандомова теория «я — ты» рассматривает всякую индивидуальную точку зрения как «самую локально привилегированную в силу того, что она позволяет увидеть структурное различие между объективно правильными приложениями концептов и такими приложениями, которые лишь субъективно принимаются за правильные». По словам Брандома, каждый «я» и каждый «ты» согласны в том, что «есть разница между тем, что является объективно правильным в способе приложения концептов, и тем, что лишь принимается за таковое» (MIE, 600; курсив в оригинале). Однако собеседники не обязаны разделять представление о том, в чем же состоит эта разница. Они сходятся в том, что есть структурное различие, скрытое в предупреждающем использовании слова «истинное», но не в содержании любого конкретного представления о том, что истинно. Надеюсь, сейчас должно быть ясно, что это же имела в виду и Ловибонд, когда говорила, что соглашение, делающее объективный дискурс материально возможным, «само по себе не “вступает” в соответствующую лингвистическую игру». Брандом добавляет к этому соображению анализ перспективной структуры объективности. & ]¶ Представляя свою трактовку социальной составляющей дискурсивной практики, Брандом «сосредоточивается на отношениях между убеждениями, принятыми арбитром, оценивающим других, и убеждениями, которые он приписывает этим людям». Решающей чертой этих отношений, говорит он, «является симметрия состояний и восприятий», существующая между «я» и «ты», между человеком, при376 ^ 12. £< << @¥&­ §<< писывающим убеждения, и человеком, которому их приписывают (курсив в оригинале). Концептуальное содержание, как говорит Брандом, «может быть выражено в явной форме только с некоторой точки зрения, на фоне некоего набора дискурсивных убеждений; насколько корректно оно выражается, зависит от точки зрения». Взаимное понимание и коммуникация зависят от способности собеседников иметь в виду две системы отсчета, перемещаться с точки зрения говорящего на точку зрения аудитории и обратно, при этом не уклоняясь от представления, какие... убеждения принимаются для себя и какие приписываются друг другу разными партиями. Концептуальное содержание... можно искренне разделять, но его индивидуальная природа означает, что для этого требуется овладеть согласованной системой отсчета точек зрения, а не передавать нечто внеличностное из рук в руки (или рот в рот) (MIE, 590). По этой причине при отделении правильного от того, что лишь представляется правильным кому-то другому, каждый арбитр должен использовать свой авторитет на строго локальной основе. Это отношение должно быть симметричным для любой пары собеседников. Я вывожу различение из моей точки зрения, вижу его в свете моих сопутствующих убеждений и принимаю мои определения концептуального содержания убеждений за авторитетные. Вы, мой собеседник, выводите различие из вашей точки зрения, видите его в свете ваших сопутствующих убеждений и принимаете за авторитетные ваши определения концептуального содержания убеждений. В этом процессе авторитет каждого из нас применяется как нечто неабсолютное — в том смысле, что любой из нас волен переменить мнение из уважения к предлагаемым определениям, а также в том смысле, что ни одна из наших точек зрения не может господствовать над дискурсом, происходящем между нами. Но нам не обойтись без принятия определенной точки зрения. А когда мы это осуществим, нам придется провести различие между «тем, что правильно, и тем, что лишь принимается за правильное, между объективным содержанием и субъективным представлением о нем» (MIE, 601). Если я не проведу такое различение, то окажусь совершенно не в состоянии увидеть, чем убеждения других людей отличаются от моих — в содержании и приверженности, и потому не смогу участвовать в социальном обмене аргументацией, который придал бы значимость моим собственным подходам. Но когда я проведу такое различение, я окажусь уже на пути к возможности уловить разницу между истинностью и оправданностью. 377 Таким образом, демократический этический дискурс имеет социальный характер не оттого, что сообщество носителей демократических убеждений функционирует в качестве высшего авторитета, противостоять которому ни один индивид не может в принципе. Скорее дискурс является социальным в силу того, что его следует понимать в свете того, что делают отдельные члены группы, когда они следят за убеждениями собеседников со своих собственных точек зрения. «Эта симметричная пара типов точек зрения того, кто приписывает, и того, кому приписывают, причем каждый из них соблюдает это фундаментальное нормативное различение [между тем, что правильно, и тем, что лишь принимается за правильное], представляет собой фундаментальную социальную структуру, в свете которой следует понимать убеждения и общественные практики» (MIE, 601). Как и в случае уличного футбола или пляжного бейсбола, все участники вправе «определять счет», причем каждый из них обязательно это делает в свете уже имеющихся у него убеждений. Тот факт, что я имею право рассматривать убеждения и приверженности и потому проводить фундаментальное нормативное различение с моей собственной точки зрения, еще не делает мои убеждения правильными. Этот факт также не заставляет меня сохранять приверженность им в том смысле, что не делает мою приверженность им эпистемически оправданной. Он просто вовлекает меня в демократическую игру, где участники приводят аргументы и требуют их от других. «Вычислять, кого именно нужно считать правым, чьи требования и запросы должны признаваться авторитетными, — нечистое и мелочное занятие, добывание сравнительной власти, позволяющей требовать свидетельств и заключений» (MIE, 601). Что общего имеется у членов этического сообщества такого, что делает их этическим сообществом? Пока что я отвечал на этот вопрос так: образ мысли и суждения по поводу этических вопросов или, выражаясь точнее, дискурсивная социальная практика. Но есть опасность, что этот ответ легко может быть истолкован в терминах коммунитарианства, конвенциализма или теории договора, то есть в терминах, приписывающих абсолютный, неопровержимый авторитет общественному установлению, которому индивид обязан повиноваться из страха рациональной непоследовательности или неразумности. Мы можем избежать этой опасности, если прибавим к моему исходному ответу замечание о том, что же делает дискурсивную социальную практику социальной. Вовсе не неоспоримый авторитет сообщества, его установления или обще378 ^ 12. £< << @¥&­ §<< ственный договор делают такую практику социальной. Скорее она является социальной в силу потребности каждого ее участника рассматривать убеждения всех остальных участников и оценивать их убеждения со своей точки зрения. Ни одно этическое сообщество не могло бы поддерживать дискурсивную практику, не требуя от всех своих членов обязательного рассмотрения нормативных отношений и приверженности собеседников, поскольку без этого нет коммуникации и тем самым обмена аргументацией между ними. Но, как мы уже видели, этические сообщества применяют различные способы осуществления дискурса. Они прибегают к различным концептам, благодаря чему приходят к различным материальным заключениям, которые используют для выработки разных неинференциальных реакций на происходящее вокруг. Они также совершенно по-разному распределяют дискурсивный авторитет. Если мы принимаем модель социальности «я — мы» для всех дискурсивных практик, то находим место всему спектру вариантов в «структуре убеждений “умолчание — вызов”» для разных типов этических сообществ. Если в некотором сообществе по умолчанию считается, что этические суждения лиц, занимающих посты в церковной или политической иерархии правильны, то перед нами схема уважения к одному типу власти. Когда подобная позиция, принимающаяся по умолчанию, считается неоспоримой, и власть сама себя истолковывает, то достигается пик авторитаризма. По мере приближения к этому пику этическая истина на практике сводится к тому, что говорит высший авторитет. Когда это происходит в полном масштабе, уже не имеет смысла утверждать, что высший авторитет говорит «А», но «А» может быть неверно. Не стоит, однако, заключать, что все религиозные сообщества сосредоточены возле авторитарного пика спектра. Многие религиозные традиции и движения развили у себя относительно гибкие структуры власти, и даже те, что более других славились своей жесткостью, нечасто были способны устранить из своей практики критические вопросы в отношении предположительно непоколебимого авторитета. В большинстве случаев непоколебимость, заявленная в доктрине, отражает в большей степени пожелания привилегированного слоя, нежели реально осуществляемую практику рядовых членов сообщества. К примеру, римское католичество — это традиция не только Первого Ватиканского собора, Пия IX и кардинала Ратцингера, но и Второго Ватиканского собора, Иоанна XXIII Ратцингер, Йозеф (р. 1927) — с 2005 г. папа Бенедикт XVI. 379 и лорда Актона. Многие католики считают даже официальную доктрину непогрешимости пап не абсолютно несомненной, поскольку она подчинена Духу, который является выражением жизни церкви в целом. Многие протестанты, иудеи и мусульмане, на первых порах приписывавшие непоколебимый и единственный авторитет явленному им закону, приходят к более гибким формам интерпретации этого закона. Все эти традиции стали более плюралистическими и менее авторитарными, чем хотелось бы их лидерам и интеллектуалам. Религиозное представление о верующих как о едином организме и признание необходимости соответствовать лучшим образцам того, что предполагает принадлежность к этому организму могут воплощаться во множестве форм, и лишь самые крайние из них могут быть осуждены как негибкие и некритические. То, что Брандом называет моделью социальности «я — мы», применимо только к сообществам, расположенным у той грани авторитарности, где различие между тем, чего придерживается группа, и тем, что истинно, исчезает, и индивиды без следа растворяются в коллективном. Модель «я — ты» предпочтительнее, поскольку она позволяет нам увидеть, как «понятие дискурсивного сообщества — “мы” выстраивается» из действий и реакций входящих в нее индивидов (508; курсив в оригинале). Выражения почтительности со стороны индивидов — вот что придает нормативный статус авторитету в глазах тех, кто обращается к нему. Сообщества формируются лишь постольку, поскольку их члены воплощают в жизнь, сознательно или нет, взаимное признание. Многие критики демократии изображают ее как тенденцию приписать неоспоримый авторитет этическим мнениям граждан, рассматриваемых как единое целое или нечто среднее. Эта современная демократическая культура может обернуться обозначенной формой авторитаризма; это ясно и одновременно вызывает глубокую тревогу, особенно когда люди полны страха и негодования в адрес своих противников, а также захвачены безжалостно обезличивающим потоком массовых развлечений, властно увлекающей рекламы и политической нечистоплотности. Возможно, преимущественно конформистский тип социальности — растворение в демосе — это, вероятнее всего, результат распада старых сообществ в эпоху капитализма и борьбы против терроризма. Но именно против этого предостерегал Уитмен, когда говорил, что общество «искалечено, развращено, полно грубых суеверий и гнило». Актон, Джон Роберт (1834 — 1902) — либеральный английский историк. 380 ^ 12. £< << @¥&­ §<< Единственная оправданная форма демократического сообщества — та, где этический авторитет понимается как право на уважение, которое человек обретает тем, что неизменно демонстрирует свою состоятельность в качестве этического арбитра. Это достигается отнюдь не приспособлением своих мнений к мнениям большинства, а скорее высказыванием суждений, которые выносятся для критического рассмотрения на открытую для всех дискуссию. В подлинно демократическом этическом сообществе «структура убеждений “умолчание — вызов”» не должна сводиться к чисто процедурным категориям. Она тесно связана с сущностными убеждениями, такими как взаимное уважение, равноправие и высокий статус критического обсуждения. Но считают ли сторонники демократии эти сущностные убеждения не подлежащими сомнению? Нет, да они и не должны быть таковыми. Безусловно, они по умолчанию обладают статусом предположительно правильных до тех пор, пока не подвергаются уничтожающим соображениям, а ни один убежденный демократ не ожидает возникновения таких соображений. Но это не означает, что названные убеждения устранены из области дискуссии. Вопрос о том, могут ли центральные демократические убеждения устоять перед критическим рассмотрением, всегда остается на повестке дня и обсуждается всерьез вот уже двести лет во всех современных демократических обществах. Если бы этот вопрос был уже закрыт, Уитмен мог бы смело оставить без внимания вызов, брошенный в 1860-е годы Карлейлем в «Расстреле Ниагары», Болдуин и Эллисон могли бы проигнорировать вызов «черного национализма» в 1960-е, а нам сегодня можно было бы не обращать внимания на вызов нового традиционализма. Демократическое этическое сообщество в худшем случае позволяет своим членам, а в лучшем — призывает их выражать свои нормативные кодексы публично и включать богатых и влиятельных людей в ряды тех, кто несет ответственность перед обществом за то, что говорит и делает. В идеале оно также призывает своих членов противиться растворению в социальной массе и поощрять любые добродетели, с помощью которых можно стимулировать развитие новых форм действия, речи, ассоциаций и индивидуальности (selfhood). Уитмен называл это «принципом индивидуальности» (6). А обладающее самосознанием демократическое этическое сообщество видит себя сообществом индивидов, каждый из которых имеет право делать то, чего не может сделать за него никто другой, находится в потенциальном диалогическом отношении с другими, готов представить другим — если это потребуется — свои аргумен381 ты и в конечном счете ответствен не только за совершенные действия и принятые убеждения, но и за то, какую личность (self) он обрел, используя экспрессивную свободу или пренебрегая ею (7). Это и есть не что иное, как «мы». Понятия демократической индивидуальности и экспрессивной свободы вновь возвращают нас в область, на которую эмерсонианский перфекционизм обратил свои самые твердые требования к этике и политической теории. Современная демократия началась с ряда протестов и революционных волнений, порожденных негодованием по поводу определенных несправедливостей и обоснованным упорным стремлением заставить правителей нести ответственность перед народом за свои действия. Именно это философы в первую очередь называют деонтической материей, вопросом принципа. Здесь мы встречаемся с утверждением убеждений, направленных против монархических и теократических общественных порядков. Первые заботы демократии выражались в категориях отрицающей свободы, прав, не признаваемых существующим порядком. Но политические последствия демократического морализирования в итоге трансформировали приобретенную этическую культуру, открыли пространство, в котором люди могли осознанно искать идеалы демократической индивидуальности и экспрессивной свободы. Такие мыслители, как Эмерсон и Уитмен, в поисках этих идеалов избрали свой путь, на котором демократическое морализирование и демократические политические установления стали — в их глазах — казаться вторичными по отношению к позитивной свободе, которая порождается самосовершенствованием. Поэтому их привлекла идея о том, что полномочия любого государства прибегать к политическим ограничениям зависят от того, насколько успешно они защищают или поощряют свободу граждан (8). У этого тезиса политической теории имеется этический аналог — понятие того, как правильно использовать экспрессивную свободу в развитии характера человека и индивидуальности. Это есть центральный вопрос этики. Озабоченность по поводу верного и ошибочного, как ни была она важна в условиях страшных несправедливостей, которым было необходимо противостоять, грозит поглотить индивидов и помешать им в полной мере принять на себя ответственность за то, кем они стали как люди. Наиболее дерзкие демократические мыслители интересуются характером и личностью (selfhood), вопросами, которые философы называют «аретаическими», по меньшей мере так же, как и правилами достойного 382 ^ 12. £< << @¥&­ §<< поведения. Их, теоретиков добродетели, можно считать кем угодно, только не уравнителями. Превосходство — вот что они стремятся утвердить в обществе и надеются сделать свои жизни его образчиками. А кроме того, если возможно, и образчиками духовного величия. Им ненавистно приспособление к обычаю или условности, выражающееся в жизни среднего гражданина; они стремятся расшевелить его — во имя демократии. §&: ¤ &¥&) £< В любом дискурсивном сообществе процесс обмена аргументацией сдерживается социально укорененными (но могущими быть поставленными под сомнение) посылками, касающимися дискурсивного авторитета и ответственности. Эти посылки определяют обстоятельства, при которых человек (по умолчанию) должен принять определенные убеждения или бросить вызов. Они также определяет обстоятельства, при которых приверженность убеждению или вызов реализуются через представление аргументации. Мы вступаем в процесс логических рассуждений на фоне имеющихся посылок. Это означает, что мы выдвигаем требования, объединяем их в последовательной форме, воспринимая при этом некоторые требования как исходные условия, а другие — как выводы. Путем обмена требованиями и аргументами друг с другом мы осуществляем изменения в нормативных статусах — убеждениях и приверженностях, которые мы на имеющихся у нас основаниях можем приписывать друг другу. Логические рассуждения в рамках обмена аргументацией едва ли целиком составляют сущность этики как социальной практики, но они являются ее центральной составляющей. В самом деле, поскольку требования, в которых мы выражаем наши убеждения, могут выступать в качестве исходных условий или же выводов в умозаключениях, постольку они обладают концептуальным содержанием (MIE, 214). Если бы мы не имели инференциальных убеждений, если бы мы не имели оснований считать одно требование основанием для другого, сами требования были бы лишены значимости. Чтобы иметь строго определенное значение, они должны быть применены на основании того, что они заключают в себе нечто и не заключают чего-то иного. Их логические взаимоотношения придают им значимость — концептуальное содержание. Например, откуда нам известно, что в данном сообществе имеется понятие жестокости, которое я приписал современным демо383 кратиям? Одной частичкой позитивного свидетельства можно было бы считать принятие конституции, в которой жестокость некоторых форм наказания трактовалась бы как достаточная причина, чтобы считать их неприемлемыми. Если некая группа — скажем, банда, взвод солдат или спортивная команда — никогда не считала утверждение, что какой-то акт жесток, основанием, говорящим против него, она не станет приписывать жестокости того же значения, которое ей приписывают современные демократические конституции. Иными словами, такая группа не будет удовлетворять современное демократическое понимание жестокости. Следовательно, утверждение, что данный акт жесток, обладает тем же концептуальным содержанием, каким оно обладает в рамках дискурсивной практики, хотя бы отчасти в силу корректных выводов из него в соответствии с нормами, в неявной форме содержащимися в данной практике. Понятно, что речь здесь ведется не о формальных логических отношениях. Никто не полагает, что «я не буду осуществлять Х» вытекает из «Х жестоко» просто в силу логической формы. Важно, что участники дискурсивной практики рассматривают отношение «Х жестоко» к «я не буду осуществлять Х» как материально обоснованное — в том смысле, который был рассмотрен в главе 8. Материальные инференциальные убеждения, включающие в себя такие моральные определения, как «жестокое», придают этим определениям концептуальное содержание. Человека, который убежден в том, что «Х противоречит заповедям Бога», иудейские, мусульманские и христианские сообщества по умолчанию считают убежденным в том, что «Х морально ущербно». Отсюда недалеко до отрицания данной практики путем утверждения, что никакое «должно» не может быть обоснованно выведено из «есть», так как рассматриваемое здесь материальное убеждение имеет явно материальный характер. Никто не станет утверждать, что вывод «Х морально ущербно», сделанный из «Х противоречит заповедям Бога», хорош благодаря его логической форме. Теологи могут свое материальное инференциальное убеждение облекать в слова в форме требования, то есть подтверждать условное высказывание: «Если Х противоречит заповедям Бога, то Х морально ущербно». Сравнимой степени ясности они могут также достичь, выразив принцип: «С точки зрения морали, ты не должен действовать вопреки заповедям Бога». Условное высказывание и принцип формулируют стоящее за ними убеждение и отражают концептуальную связь между заповедями Бога и моральной ущербностью, связь, существующую в лингвистической практике названных со384 ^ 12. £< << @¥&­ §<< обществ. Теория божественного повеления в этике, относящаяся к одному из родов, состоит в утверждении, что «морально ущербное» означает «противоречащее заповедям Бога». Если материальные инференциальные убеждения действительно придают содержащимся в них выражениям концептуальное содержание, как говорят Селлерс и Брандом, значит, этот род теории божественного повеления можно рассматривать как безусловно законную попытку выразить в явной форме концептуальное содержание соответствующих терминов. Но здесь нужно помнить о двух моментах. Во-первых, эта теория семантически пригодна только для тех сообществ, где скрытые материальные инференциальные убеждения уже действуют. Она не дает нам точного объяснения, что произойдет с выражением «морально ущербное» в сообществах, в которых Бог не считается источником заповедей, или в секуляризованных дискурсивных практиках, где не принимается как данность ничто, относящееся к существованию, природе или деяниям Бога. Следовательно, она не подразумевает, что значение «морально ущербного» безусловно. Согласно подходу, в пользу которого высказываюсь я, значение концепта есть всегда значение концепта в конкретной дискурсивной практике. Семантика этических высказываний для одного сообщества должна определяться одновременно. И второе. Роль семантического разъяснения, подобного тому, который мы сейчас рассматриваем, — это роль экспрессивная. Оно прямо раскрывает в семантическом высказывании, что именно раскрывают условные высказывания и принципы при помощи несколько разных способов, то есть, какие именно базовые материальные инференциальные убеждения сообщества являются объектами исследования. Семантическое разъяснение ничего не говорит нам, какими должны быть базовые убеждения. Поэтому даже если семантический анализ правильно раскрывает инференциальные убеждения того или иного сообщества, это еще не значит, что другое сообщество должно менять свои инференциальные убеждения, чтобы привести их в соответствие с ожиданиями теории божественного повеления. Отсюда также не следует, что иудейское, мусульманское или христианское сообщество обязано сохранять приверженность своим нынешним инференциальным привязанностям (9). Если я прав, утверждая экспрессивную роль принципов, значит, ошибкой будет считать, что этический дискурс всякого сообщества можно свести к наиболее общим нормам, принимаемым его членами. Мой подход, в отличие от подхода Дэвида Литтла и Самнера Ту385 исса, который они представили в книге, ставшей образцовым методологическим текстом по сравнительной этике, не предполагает, что «все кодексы поведения можно свести к одной базовой норме или системе норм» (10). Такого рода упрощение можно осуществлять только в тех случаях, когда процесс этической аргументации проходил исключительно в одном направлении или, как сформулировали Литтл и Туисс, «в апелляционном порядке», когда в качестве апелляционного суда выступают самые базовые, самые общие нормы (11). На самом же деле, как признает сейчас Литтл, в этической аргументации часто применяются, помимо базовых норм, и иные соображения, помогающие подвергнуть эти нормы сомнению (12). Если «базовые нормы» считаются подчиненными другим типам этических убеждений, равно как и наоборот, у нас не находится возможности свести кодексы поведения к базовым нормам, как предлагали первоначально Литтл и Туисс. Позднейшее согласие Литтла с тем, что этическая аргументация не однонаправлена, означает, что она не должна восприниматься как не более чем второстепенное дополнение к методу, принесшему известность Литтлу и Туиссу. Она открывает двери перед инференциалистским прагматизмом, который отстаиваю я. И еще об одном моменте не нужно забывать. Официально, в открытой форме провозглашаемые в том или ином сообществе кодексы и семантические теории не всегда точно отображают реальные инференциальные убеждения его членов. Это происходит по нескольким причинам. Первая и наиболее очевидная: не все официальные представители сообществ обладают необходимым речевым мастерством, временем или концептуальными ресурсами, чтобы разъяснять инференциальные убеждения сообществ в точной или откровенной манере. Второе: реальные инференциальные убеждения постоянно пересматриваются под воздействием новых обстоятельств, тогда как официально провозглашенные кодексы если и меняются, то медленно. Так что даже при самых благоприятных обстоятельствах нередко следует принимать в расчет некоторый временной зазор. Третье: инференциальные, когнитивные и практические убеждения сообщества могут действовать в таких областях, которые ускользают от внимания большинства или всех его членов. Когда такие применения противоречат официальным кодексам или семантическим настроениям, возникают противоречия или конфликты, представляющие немалый интерес для исследователя сферы этики. В некоторых случаях присутствуют нетронутые пока зерна революционных перемен. Случается, что на сце386 ^ 12. £< << @¥&­ §<< ну выходят проявления самообмана, рационализации, иных форм идеологических искажений, которые с успехом отгораживают данную группу от критического взгляда. И последнее: кодексы и доктрины сообщества, как правило, являются продуктами деятельности элит, а у элит в руках — секиры, а не только объяснения. Всякая элита заинтересована в том, чтобы представлять свое сообщество как носителя норм для более широкого сообщества, от имени которого оно стремится выступать. Такая элита легко может оказаться перед соблазном объявить, что вердикты или тексты, принадлежащие некоторому официальному лицу, обладают непогрешимым авторитетом. Одно дело — провозгласить такой авторитет, и другое — добиться того, чтобы все члены сообщества подчинялись ему соответствующим образом. А коль скоро так, нам нужно соблюдать осторожность, помня о необъективных моментах, содержащихся в кодексах и доктринах, а также о том, что кодексы и доктрины, возможно, представляют собой безуспешные попытки укрепить единство против зародышей общественной практики. Всегда стоит задаваться вопросом: «Чьи убеждения на самом деле здесь представлены?» По всем этим причинам неразумно было бы некритически относиться к устоявшимся нравственным кодексам, официально одобренным «руководствам к действию» (как, по-моему, поступили Литтл и Туисс в «Сравнительной религиозной этике»). Я выступаю за атакой подход, при котором интерпретация кодексов была бы экспрессивной, контекстуальной и критической. Этические концепты сообщества, в моем понимании, в большой мере содержатся в области материальных инференциальных убеждений членов группы, а чтобы обратиться к ним, нам необходимо взглянуть на кодексы как на ограниченный, порой вводящий наблюдателя в немалое заблуждение, источник информации. Если рассматривать кодексы поведения в сопоставлении с материальными инференциальными убеждениями, которые в них излагаются, тогда было бы ошибкой отождествлять нормы с правилами или получающими силу законов принципами, выраженными в форме предложений или предписаний (как это стремились сделать Литтл и Туисс). Прагматический подход, выстраиваемый здесь, строится на обратном: нормы первоначально присутствуют в практике в неявной форме. Материальные инференциальные убеждения в полной мере способны мотивировать действия, выполнять нормотворческие функции, не принимая при этом формы прямо сформулированных правил. Следовательно, нормы нельзя отождествлять с правилами (13). В мо387 ем подходе, в отличие от трактовки Литтла и Туисса, правилам не отдается приоритет; мои оппоненты видят в этической аргументации сообщества, в сущности, выражение прямо сформулированному правилу или системе таких правил. С моей, прагматической точки зрения в их подходе не только недостаточно внимания уделяется критике базовых правил в категориях других этических соображений; там также в неверном ключе интерпретируются экспрессивные отношения между инференциальной практикой и правилами. Отсюда следует, что в сравнительной этике важно сосредоточиваться на дискурсивных практиках, а не просто на кодексах. 388 A<¦'& Заключение ЗАКЛЮЧЕНИЕ Священное открывается в вашем собственном опыте и живет в вас, пока вы не примете этот опыт, как своего учителя, мать, государство, церковь, даже или, возможно, в особенности, если он вступает в конфликт с полученной абстрактной мудростью, в соответствии с которой власть всегда убеждает вас жить. Одна из неосознаваемых задач власти состоит в том, чтобы украсть у вас ваш собственный опыт, сказав при этом: мы знаем лучше, что бы вы ни видели или слышали, с каким бы нелепыми историями ни заявлялись; мы — закон, и если опыт противоречит нам, значит, вы в чем-то провинились. В первый раз власть — церковь ли, школа, государство или семья — обычно делает это очаровательно, угощая вас шоколадным тортом, хлебом и вином, учеными степенями, «налоговыми убежищами», грантами и сильной национальной обороной. И лишь при возражении она показывает свое настоящее лицо и пытается убить вас. Вместо этого, убейте ее поскорее внутри себя и сделайте это, каким бы реальным вредом это не казалось снаружи. Затем примите в свои объятия все, что когда-либо случалось с вами, и крепко-крепко сожмите. - Билл Холм, Музыка неудачи ¤<­ ¤&& A Выдающиеся мыслители недавно приглашали нас определить свои позиции в современную эпоху, как будто бы они знали сущность современности и, в целом, что есть хорошо, а что — плохо. Те, кто говорит, что современность в основном вещь хорошая, склонны считать ее сущностью демократию. Те, кто подразумевают, по крайней мере, в своем тоне и подборе примеров, что современность в основном есть зло, склонны понимать разговор о демократии как своего рода завесу, отвлекающую внимание от современного зла. Обе стороны обычно описывают современность как основную структуру, хотя расходятся в вопросе о том, чем является эта структура и как с ней связана демократия. И есть большое искушение 389 найти что-то, поддерживающее саму современность, некоторый набор необходимых и достаточных условий, отсутствие которых сделало бы жизнь пред- или постмодернистской, определенная основная черта или структурная особенность, в свете которой можно судить о современности. Двигаясь в этом направлении, мы встаем на пути у морального исследования и социальной критики. Это происходит за счет слишком быстрого сужения фокуса, сводящего способность узнавать сложность и неоднозначность или испытывать моральную неуверенность. Неверие, в сущности, не дает определенной защиты от этой привычки мышления. Если вы в этом сомневаетесь, обсудим неверующего в сущности, верящего в доктрину о том, что современная мысль, история философии от Платона до Гегеля, или возможно, сам «западный проект», есть (по сути) история эссенциализма или метафизики присутствия. Одним махом он объясняет нам, что сущностей не существует; затем описывает целую эпоху или эру, как будто таковая была. И с какой же точки зрения постмодернистский оракул вещает? Временами он утверждает, что говорит, исходя из перспективы будущего, характер которого он уточнить не может; в другой раз кажется, что он парит в воздухе над описываемой эпохой. Он готов мыслить, отталкиваясь от любой позиции, кроме своей собственной. Под давлением он просто повторяет тяжеловесные сентенции своих постмодернистских учителей. Наметки альтернативы системе постоянно исчезающего настоящего, он говорит, — не более чем соучастие в этой системе, так что он должен извиниться, защищая «позицию». Однако его описания эпохи, бесспорно, исполнены морального возмущения. Противная сторона обычно реагирует, во-первых, указывая на имплицитное противоречие, и во-вторых, защищая все, что их постмодернистский оппонент желал бы разрушить или вскрыть. Он утверждает, что понял и представил, что делает западную культуру или современный период достойными заботы и внимания, и это для него и есть вся правда. На каком основании он может защищать достижения целой эпохи или культуры? Было бы порочным кругом, считает он, обращаться к местечковым ценностям при защите его заключений. Поэтому он обращается к трансцендентному. Он чувствует, что обязан подняться над эпохой и, взглянув на нас свысока, вынести суждения о нас издалека. Как и его оппоненту, ему составляет труда объяснить точку зрения, которую, как он утверждает, отстаивает. Когда исследователи стараются просветить нас насчет сущности или глубинной структуры современности, а мы принимаем их 390 A<¦'& утверждения за чистую монету, самое большее один автор или школа исследователей могут быть правы. Но предположим, мы считаем — если необходимо, против заявленных ими желаний, — что они говорят лишь, что так называемая сущность или глубинная структура есть какая-то информация о современности, достойная детального изучения. Затем мы можем спросить, как детальное описание этого может быть интегрировано в наше представление о других проблемах в пределах того же временного отрезка. Сам по себе исчерпывающий характер детализирующего описания, конечно, неубедителен, если рассматривать его как самоцель. Уже сейчас есть слишком много деталей для усвоения, и еще больше возникает со временем. Не требуется ли нам тогда, чтобы нам объясняли, какие из них существенные? Да, требуется, но слово существенные не означает: «обладающие или имеющие отношение к сущности». Оно означает «тип вещи, о котором вам следует знать, при данных принятых целях и интересах». Множество вещей могут быть существенными в прагматическом смысле. Здесь важно различие не между сущностями и случайными свойствами или между глубинными структурами и феноменами, которые они вызывают, а скорее различие между тривиальным и тем, о чем следует беспокоиться. Не стоит и говорить, что проведение различия между тривиальным и значительным в исследовании современной демократической культуры — отчасти моральная и политическая задача, и она может вызвать горячие споры. Не каждый пишущий о современности разделяет те же цели и интересы. Когда исследователь говорит, что некоторое Х существенно для нашего понимания современности, разумно спросить: по отношению к каким целям? Какие интересы стоят за описаниями и оценками этого исследователя, и какое у нас основание разделять или отвергать эти интересы? Не стоило бы спрашивать наши описательные вопросы о современности, пока что-то находится под угрозой, например что-то касающееся современности, из-за чего мы хотим скрыть или раскрыть это, осудить или оплакать его уход. Если бы мы знали, что под угрозой, то могли бы знать, какие детали были существенными в изучаемом смысле. В данной книге предметы моего интереса — это современные демократические практики и идеалы. Я посвятил этому много страниц, пытаясь понять их. Но я не утверждаю, что демократия есть сущность современности. Не утверждаю я и что социальные практики, в которых демократические идеалы воплощены, сами протекают в соответствии с ними. Куда там. Так называемые демократи391 ческие общества — хотя часто и предпочтительнее, в целом, своих предшественников и конкурентов — на самом деле крайне неадекватны, если судить по перспективам, которые предполагает их же мышление. Так что моя неуверенность не только направлена на современность, понятую как эпоха, включающая и много е другое кроме демократии, но также и на современные демократии, понятые как общества, официально, но при этом и несовершенно, приверженные демократическим идеалам. Если предположить, как я, что демократическая личность — явление достойное, и при этом не смешивать это с атомистическим распадом общественной жизни, то мы не придем к выводу, что она возмещает то зло отчуждения и эксплуатации, все же уже меньше по сравнению с ужасами расизма, рабства и массового убийства. «Зла нельзя желать, стремиться к нему или философски терпеть, к какому бы добру это непреднамеренно не привело», как правильно сказал Джордж Кэйтеб (1). Мы можем ценить подлинные достижения современности, согласно Кэйтебу, «и все же верить, что никакое величие не сможет весить столько же или перевесить, ужасы. Они несоизмеримы, нет соизмеримости, нет и желания подвести баланс. Ужас тоталитаризма незабываем; он несоразмерен с другим злом и с каким-либо величием. Однако жизнь идет, жизнь современная. Политическая теория должна пытаться разобраться в ней, во всей необъятной неопределенности (Ханна Арендт, 170) . Не только политическая теория, я бы добавил, но и критическая мысль как таковая. Атмосфера постмодернизма апокалиптична. Она подготавливает место для чего-то радикально нового, того, что находится за пределами современности, которая до этого являлась, если являлась, лишь в границах или изломах официальной западной культуры. Традиционализм, напротив, склоняется к ностальгии. Он старается найти путь назад к досовременным традициям в надежде их новой реконструкции и защиты. Различие между ними двумя часто подытоживают в вопросе, как тот, который Макинтайр задает в «После добродетели»: «Ницше или Аристотель?» Это как если бы наше сложное путешествие за пределы современности в конце концов привело нас, после большой борьбы и разрушений, к тому же перекрестку, где мы должны повернуть налево или направо, уверенные лишь в том, что современность лежит в руинах позади нас. Но с этой картиной что-то не так, и не просто с ее неколебимой и вводящей в заблуждение фрагментарностью. Мало сомнений, что многие влиятельные современные мыслители пытались скрыться 392 A<¦'& от истории и традиции. В другом месте я пытался в рамках историографии описать их вклад и продиагностировать их неудачи. Однако я не вижу достойной причины предположить, что современность, даже в том виде, в каком мы рассматриваем ее на Западе, есть выражение одного проекта, карьеры одной амбиции. Это еще не вся современность. Это целая жизнь, сложная сеть практик и институтов, добра и зла, в котором надо разобраться. Заявление, что современное демократическое стремление есть благо, не должно уменьшать нашу способность распознавать современное зло: отчуждение, расизм, антисемитизм, ужасы массовой смерти, перспектива ядерной войны, страдания бедных, угнетение женщин, банальность политического дискурса и так далее. Однако, это на самом деле заставляет столь популярные сегодня упрощающие лозунги наших социальных критиков, казаться безответственно односторонними: что современность есть лишь упадок проекта Просвещения, предприятие логоцентричного самообмана, смерть подлинной политической активности, триумф инструментального разума или «не что иное как скрытая дисциплина» (2). В каждом из этих лозунгов есть правда. Но они не являются всей правдой, и если бы они были лишь правдой, мы бы уже зашли слишком далеко, чтобы знать это. Однако заостряя на этом внимание, можно легко прийти к тому, чтобы предположить, что мы должны игнорировать наши опасения в отношении современного зла. Джордж Оруэлл в комментарии к ментальности «сумерек богов», отраженной в эссе «Противники Суини», сардонически заметил, что Т. С. Элиот совершил «сложный трюк, сделав современную жизнь сложнее, чем она есть» (3). На данный момент наши критики проделали сложный трюк Элиота столько раз и с таким усердием, что он может показаться легким. Любой выпускник колледжа может его моментально осуществить. Более требовательна и достойна уважения тот тип неуверенности, который Оруэлл выработал в остроте об Элиоте. Это можно найти практически во всех лучших трудах о социальной критике — иногда направленной на особенности его собственного общества, в других — на особенности британского социализма. Немногие авторы могут сочетать презрение и признание различных аспектов одного предмета так успешно. Это особенно верно в отношении его различных комментариев о массовой культуре. Оруэлл может походить на Адорно, когда говорит о консервах или упадке жизни при власти машин, но он также может показать нам пресс-папье обычного буржуа или чашку правильно заваренно393 го чая как достойный объект любви. Как много авторов смогли бы столько сделать из этого, и даже больше, картину нашей культуры не показавшись неискренними или безнадежно непоследовательными? Гораздо обычнее риторика неуверенных уступок, в которой вначале признают истинность пропозиции, выразительно произнося затем слово «но» и немедленно вводя другое суждение, с целью свести на нет силу первого. Когда мы слышим от некоторых интеллектуалов, что с черными ужасно обращаются, но… знаем, чег ожидать дальше, и справедливо подозреваем порыв извинить бездействие перед ликом несправедливости. Ничего так не отличается от предлагаемого мной типа амбивалентности. И никто благосклонно не отнесется к моей неоднозначной похвале демократии. Но некоторые, как однажды сказал Оруэлл, подумают, «полбуханки — не хлеб» (4). Если мы решим использовать демократические идеалы, чтобы добиться целей критики некоторых плохих и ужасающих вещей вокруг нас, то должны будем применить некоторые понятия, которое наше время предоставило нам для критики. Полагаю, мы имеем право на эти понятия, и первые бойцы современной демократии были рационально оправданны, вводя их. Но было бы самообманом воображать, как часто делали они, что демократические нормы — свободно движущиеся плоды чистого разума, полностью независимые от традиции. Как и все прочие нормы, наши воплощены в зависимых обстоятельств, погрешных социальных практиках. Грустная правда в том, что эти практики сами часто использовались для поддержки несправедливых установлений, направленных на осуществление плохого, имеющих плохие цели и защищали ужасными средствами. Эмерсон как-то мудро сказал о нашей некомпетентности «судить времена. Наша геометрия не может охватить огромные орбиты доминирующих идей, узреть их возвращение и примирить их оппозицию». Вопрос наших времен в коне концов разрешается «сам в практическом вопросе управлении жизнью. Как мне жить?» (5). Даже если его задавать от первого лица единственного числа, практический вопрос обладает политическим измерением, поскольку каждый из нас несет некоторую ответственность за управление обществом и системой, которые им руководят. Вопрос не в том, является ли наша эпоха то самое, когда мы бы хотели родиться, учитывая все обстоятельства. Ни у кого из нас нет такого выбора. Так что наш вопрос скорее должен быть о том, как жить здесь и сейчас, при обстоятельствах, в которых мы оказались сейчас. 394 A<¦'& ^§§( A]) В отрывке, достойной быть процитированным целиком, историк Дэвид Холлинджер выделил три «огромные группы избирателей», которые в настоящем борются за контроль над американским государством: Одна — бизнес элита, которая в эпоху международных корпораций обнаруживает, что все больше служащих и заводов функционируют за границей. Эта элита в определенной мере нуждается в американском государстве, но может обойтись и без него, очень внимательно относясь к потребностям страны, людям, составляющим сообщество американских граждан. Вторая группа ассоциируется с одной или несколькими диаспорами и рассматривает Соединенные Штаты скорее как место для транснациональных объединений, чем как собственную страну. Защитники сознания диаспоры иногда ждут от государства прав, но, как и бизнес-элита, у них небольшой стимул посвящать себя благосостоянию [гражданского] национального сообщества. Тем временем третья группа пылко заявляет о своих правах на Америку. Эта третья группа составлена из огромной разновидности средних американцев, Евангелических христиан, защитников семейных ценностей и сторонников Ньюта Гингрича и Раша Лимбо. Многие из этих американцев не доверяют государству, исключая его роль в защите личной морали, но они, в сущности, заявляют права на страну, как на свою собственную этническую группу (6). Стоит лишь немного задуматься, чтобы осознать, что ни одна из этих мобилизованных групп не действует в соответствии с подлинно демократической концепцией справедливости. В значительной степени всем им недостает, как это определяют демократы, добродетели справедливости. Бизнес-элита занята накоплением богатств, снижением налогов, эксплуатированием иностранных рабочих, разрушением профсоюзов, срывая договоры, дающие надежду бедным и душевнобольным, и недопущением реформы электорального процесса. Культурные Правые — не путать с американским средним классом как таковым — укрепляют сексистскую иерархию в семье, сражаясь на других аренах за поддержание привилегированного статуса для мужчин, белых и консервативных хри Гингрич, Ньют (р.1943) — американский политик, идеолог «республиканской революции»; Лимбо, Раш — известный американский радиоведущий консервативного толка 395 стиан. Некоторые лидеры сообществ диаспор использовали идеологию многокультурности, чтобы обеспечить себе права, но они часто активно препятствуют более широкой идентификации, что позволило бы объединиться эффективным демократическим коалициям. Мы связаны с тремя группами, мы имеем набор стандартных характеров: директор из «сливок общества», фанатичный проповедник, и приверженцы культа этнической принадлежности во всех его формах. Те, кто играет роль могут приобрести необходимую униформу, принадлежности и радио- и телепередачи на вкус от многонациональных корпораций, которые обнаружили, как заполнить свои сейфы, множа и рекламируя идентичности. Но будьте осторожны: любой, кто покупает их, соглашается соответствовать избранному типу. Процесс «призыва» начинается рано. Основной выбор, с которым, как считают многие молодые люди, они сталкиваются, — это выбор в стандартном перечне типов для соответствия. Этот выбор вначале предстает детям в школьном в виде опций: спортсмен, ботан, «крошка», гот, хорошист, честняга, свой парень и скейтбордист — каждый со своими собственными пышными дорогими эмблемами и снаряжением. Мальчики могут стремиться быть как их любимые герои спорта, девочки — как любимые попзвезды, если они только могут раскошелиться. Но ни одна из опций не дает средств для спасения от в сущности покорной роли в одной из трех главных взрослых групп, если только деятельность и ролевые модели, которые они принимают, не пробудят в них желание превосходства и самосовершенствования личности. Демократия будет сталкиваться с бескомпромиссным сопротивлением на национальном уровне, пока три окопавшихся группы совместно контролируют политический ландшафт и ведут себя, как раньше. Их идеалы могут прийти к политическому выражению только когда люди научатся думать сами, как личности, при этом идентифицируя себя с более широким этническим наследием и политическим сообществом. По вопросу о демократической личности я выступаю на стороне Эмерсона, Уитмена и Торо, против коммунитарианцев и традиционалистов, клевещущих на этот идеал. Теоретики плохо думают о личности, неверно истолковывая ее как по существу атомистичную и собственническую. Демократический идеал личности — не фикция полной независимости от влияний (7). Это набор соединяющихся добродетелей — включая смелость и веру в себя, — которые требуются для сопротивления конформизму раздаваемых типов в обществе. Единственный путь приобрести такие добродетели — участие в социальных практиках того рода, который направит внима396 A<¦'& ние на сущностные блага и в сторону от благ, которые преследуются и накапливаются в эгоистичных целях. В наших обстоятельствах, как и в большинстве других, все социальные практики, направленные на превосходство — включая ремесла, искусства, спорт, — находятся под угрозой алчности и покорности. Если мы не сможем защитить такие практики и способы идентификации, самосовершенствования и обмена суждениями, которые они питают, будет дерзостью ожидать, что согласованное демократическое действие, останется возможным еще долгое время. Страна эгоистичных конформистов — совершенно свободных от обязательств по отношению к таким личностным требованиям, как расширение кругозора, открытость и внимательность по отношению к другим, нацеленность на превосходство, — станет страной по сути неспособной к гражданству. Социальные практики, имеющие самое непосредственное значение для демократии, как я подробно утверждал, — это дискурсивные практики этического освобождения и политических дебатов. Дискурсивный обмен, неотъемлемо присущий демократии, скорее всего преуспеет только там, где личности идентифицируются в значительной степени с рационализаторами (reason giver) сообщества (8). На местном уровне это может быть сообщество, состоящее из споров по поводу того, кто моет посуду, что делать с производимым мусором, как ведет себя полиция и что должно входить в учебный план института. Но на национальном уровне именно народ в целом должен заботиться об интересах и благосостоянии народа в целом. Фраза «в целом» не подразумевает здесь превращение народа в объект мистической привязанности или благоговения. Это просто должно означать исключение имплицитного определения народа в рамках избирательной группы. В настоящем контексте, это как минимум означает избежание употребления имплицитно этнических или расовых характеристик людей. Однако имплицитно расистская узурпация понятия народа — лишь одно из препятствий к созданию демократической политики. Другим является неспособность или нежелание — со стороны диаспор, рабочих, бедноты и других, кто мог бы непосредственно извлечь выгоду из демократических социальных изменений, — идентифицироваться с любой группой, большей, чем их собственная фракция. Совсем неясно, как друзья демократии смогут преодолеть это препятствие, особенно перед лицом стратегий большого бизнеса по укреплению этнической идентификации путем избрания определенных образов жизни. Это будет настоящим вызовом, по меньшей мере, и потребует всех наших усилий в предстоящие десятилетия. 397 A §¤ <­&^ ]A¤ ^' <^ @&A¤ Три группы электората, по Холлинджеру, следует иметь в виду при оценке поведения интеллектуалов, занявших влиятельные позиции в наших крупнейших высших учебных заведениях. Теоретики общественного договора стали доминирующей силой в школах права, этических центрах и философских факультетах — в основном благодаря интеллектуальной и моральному авторитету «Теории справедливости» Джона Ролза. Ролз видел в утилитаризме своего основного противника в нормативной теории. Но легкость, с которой его теория общественного договора стала философской позицией, заслуживающей серьезного внимания, столь же относилась к отсутствию сильных противников, как и к теоретической изобретательности, к силе аргументации, с которыми Ролз отстаивал свою позицию. До появления шедевра Ролза, американская нормативная философия серьезно ограничивала себя так называемой метаэтикой, вторичным анализом морального языка (осуществляемым в основном без ответов на первостепенные вопросы о том, как человек должен жить или как должно вести себя государство). Так что Ролз вступал практически в вакуум, и делал это в момент, когда студенты, выросшие во время дискуссий вокруг гражданских прав и войны во Вьетнаме, требовали, чтобы нормативному исследованию было уделено центральное место в учебной программе. На философских факультетах самым значительным эффектом работы Ролза просто было то, что нормативное исследование снова стало уважаемой философской специальностью. С другой стороны, так как изначально оно занимало философскую сцену почти монопольно и стимулировало аудиторию мыслить об утилитаризме как о единственном достойном противнике, ролзианская философия вначале не могла питать дискуссию всего ряда теоретических альтернатив в социальной и политической теории. И чрезвычайно абстрактная природа дискуссии, ею порожденная, ограничила ее воздействие на поведение трех электоральных групп Холлинджера. Сыновья, дочери представителей бизнес-элиты и другие ее будущие члены, прочитавшие «Теорию справедливости» в колледже или на юридическом факультете, по крайней мере, столкнулись, пусть и на мгновение, с серьезными основаниями полагать, что их действия сдерживаются бессилием и правами наименее обеспеченных. Таким людям было бы полезно провести несколько недель взросления, представляя себя за «занавесом невежества» и «в исхо398 A<¦'& дной позиции» Для них прекрасно и хорошо для нас остальных, что у них иногда возникает возможность спросить себя, какого рода социальные основные правила они бы выбрали, если не знали, что скоро придут к власти и богатству. Но, как Ролз постепенно осознал, уравнительные аргументы «Теории справедливости» сами были выражением многоаспектного мировоззрения, не разделяемого широкими массами населения и дискредитированного культурным правом как секулярный либерализм. Какое-то время Ролз старался, со скромным успехом, переформулировать свой либерализм как политическую доктрину, предназначенную для обращения к гражданам, имеющим различные обоснованные и всесторонние воззрения. Его целью было показать, что не нужно быть кантианским либералом, как сам Ролз, чтобы принять его переформулированную теорию за основу политического порядка и социального сотрудничества. Это был благородный план, и Ролз заслуживает доверия за свою интеллектуальную честность, равно как и за терпение, и философское умение, с которым он выполнял его. Но по причинам, на которые указывалось в третьей главе, я сомневаюсь, что проект сможет работать самостоятельно. Камень преткновения,— вопрос, открывающий надуманность его контрактарианских предпосылок,— есть вопрос о том, какую роль религиозным основаниям позволено играть в политическом споре. По этому вопросу Ролз начал с доктрины, по сути запрещавшей гражданам полагаться на такие основания как на конституционные основы и некоторые другие базовые элементы. Это позволило таким авторам, как Нойхаус и Хауэрвас, изобразить его как врага всего, что они отстаивали, и как символ триумфа секулярного либерализма в элитных образовательных учреждениях. Последующая попытка Ролза смягчить свою точку зрения по этому вопросу привела в чем-то даже ближе к пониманию гражданской этики среди американцев. Но уступки этому пониманию, как кажется, не исходят естественным образом из контрактарианских предпосылок, с которых Ролз начинал. Поэтому Ролз остался, по большому счету, в неловком положении. Он был секулярным либералом, который осознал, и вполне резонно, что секулярный либерализм не мог успешно играть выразительную роль, которую он изначально был призван играть в американской демократической политике. Ролз надеялся трансформировать теорию общественного договора в некое всеобъемлющее мировоззрение, отличное от секулярного либерализма. Однако модификации, которые включали несколько 399 уроков от Дьюи и Гегеля, в итоге, казалось, стали действовать вопреки предпосылкам теории. Ричард Рорти оказал огромную услугу американской демократии, оживив интерес к традиции Уитмена и Дьюи и дав недвусмысленно экспрессивистскую формулировку роли философии в культуре. Демократические и эгалитарные идеалы имели мало более красноречивых защитников в наш период. Однако, как и Ролз, Рорти склонен колебаться между формой плюрализма, которая в принципе должна была приветствовать выражение как религиозного, так и светского мировоззрения в политических контекстах, и относительно агрессивной формой секулярного либерализма, который, казалось, исключал воззрения, несхожие с его собственной политической жизнью. Его стиль, более живой, чем у Ролза, более доступен людям, не обученным ни философии, ни теории права. Но во многих отрывках, где Рорти, кажется, имитирует скорее Ницше, чем Дьюи, в качестве социального критика своей модели, он становится слишком сомнительным, слишком похожим на нарушителя того, что сограждане признают здравым смыслом, для выполнения выразительной функции, описанной им в своей лучшей работе. Сторонникам сообщества диаспор он казался часто слишком ограниченным в отношении преимуществ либерального общества. Для культурных правых он остается символом эстетизма и декаданса, к которым приводит секулярный либерализм. У такого традиционалиста, как Хауэрвас, конечно, нет желания осуществлять экспрессивно рефлективную функцию от имени демократической культуры. Он характеризует себя как внешний по отношению к этой культуре критик, к которой он обращается как «легальный иммигрант». Он говорит как член «христианской колонии» в либеральном обществе (9). Однако это не помешало ему получить звание «лучшего теолога Америки» от авторитета, столь приверженного статус-кво, как журнал «Тайм» (10). Можно подозревать, что его антилиберальная нудная речь может больше устраивать христианских членов трех групп Холлинджера, чем Хауэрвас этого хотел. В конце концов, мы живем в эпоху, когда любой, прозвавшись либералом, вряд ли сможет быть избранным на государственный пост. Если хочешь быть пророком здесь и сейчас, зачем выбирать либерализм как одну из главных идеологических целей? Республиканская партия и Сеть Новостей Фокс ежедневно вещают американским христианам, что они осажденное меньшинство в злом, либеральном порядке. Зачем выступать против факта, что 400 A<¦'& ты представляешь большинство, являющееся соучастником в несправедливости? Многие из читателей Хауэрваса, кажется, находят утешение в идее о том, что усиление своей идентификации с определенной церковью за счет идентификации со страной — самое важный шаг, который можно предпринять по направлению к членству в сообществе подлинной добродетели. Главные политические бенефициарии возрождения Хауэрвасом этики добродетели, кажется, были не какие-нибудь нынешние Дороти Дэй, а скорее папа Иоанн Павел II и бывший министр образования Уильям Беннетт. Хауэрвас считал неподобающим назойливо напоминать американским христианам, что, как большинство в процветающей мировой державе с демократической конституцией, они постоянно демонстрируют характер своего сообщества, отчасти посредством хорошего или плохого выполнения своих гражданских обязанностей. В основном я имел в виду Ролза, Рорти и Хауэрваса, пытаясь разработать в этой книге альтернативную общественную философию. В последних главах я защищал тип прагматизма, свойственный большинству многообещающих особенностей труда Рорти, при этом строго стараясь избегать его философских и стилистических излишеств. На протяжении всей книги я пытался определить приемлемый путь между либерализмом Ролза и Рорти, с одной стороны, и традиционализмом Макинтайра и Хауэрваса, с другой. В рамках терминологии Ролза моя позиция могла бы быть названа плюрализмом типа modus vivendi, поскольку предлагаемая мной общественная философия не настаивает на необходимости основывать философскую дискуссию на ряде правил, которые ни один разумный и рациональный гражданин не сможет отвергнуть. Я пытаюсь ясно изложить форму плюрализма, которую граждане с сильными религиозными убеждениями смогут принять и которая принимает их полноценное участие в общественной жизни, не подводя под нее свои собственные предпосылки. Но я вижу этот прагматизм первоначально как существующая особенность политической культуры, а не как философская доктрина, которую последней следует навязать. Наша политическая культура уже в сущности плюралистична. Я пытался найти философское изложение того, что подразумевает данный плюрализм. Это удивительно широко распространенная и твердая тенденция граждан — обсуждать определенные вещи с не Modus vivendi — временное соглашение (между спорящими сторонами); образ жизни (лат.). 401 похожими на них гражданами. Эта тенденция уже, до всякого теоретизирования, заложена в привычках людей. Бремя доказывания лежит на тех, кто хочет изменить это. Поскольку это аспект нашего субстантивного (substantive) обязательства по отношению к этической жизни демократии, поскольку это связано с широко распространенным (но не единодушным) убеждением, что никакая точка зрения не имеет монополии на правду, представляется неуместным думать об этом как о простом временном соглашении. Это не чтото, с чем мы «соглашаемся» в отсутствие реального общественного договора либо подлинного единства сообщества (11). Для членов трех избирательных групп Холлинджера эта книга служит прежде всего напоминанием, что они также принадлежат к гражданской нации. Это нация, которая нуждается в их активной помощи и заботе, если понадобится, как граждан, приверженных демократии, разумеется, способного жить в соответствии с демократическими идеалами. Термины «нация» и «народ» здесь синонимичны, при этом их нельзя смешивать с государством-нацией, который рассматривается как разросшийся бюрократический аппарат для осуществления правительственного бизнеса. Хауэрвас совершенно прав, говоря, что призыв к пожертвованию кем-то ради настоящего страны звучит «совсем как просьба умереть за телефонную кампанию» (12). Но это отчасти из-за того, что мы склонны смешивать гражданскую нацию—народ — с нацией-государством. В этой книге я побуждал граждан к идентификации с гражданской нацией, с сообществом рационализаторов (reason-givers), реализованному демократической практикой ответственности друг пред другом. Это не подразумевает никакой привязанности к массивным институциональным очертаниям государства-нации, к которому мы всегда должны относиться с недоверием. Американское государствонация показало себя особенно достойным подозрений в последние десятилетия. Как раскрывается в десятой главе, идентификация с гражданской нацией не подразумевает нежелания построения дискурсивных сообществ, которые выходят за национальные рамки. Я не рекомендую становиться поглощенными нашей идентичностью с гражданской нацией. По-моему, это лишь один из многих важных предметов, заслуживающих внимания. На деле жизнь, прожитая единственно или даже по большей части как выражение этого интереса, совершенно меня не привлекла бы. Во второй части я стремился убедить по-настоящему приверженных религии граждан, в особенности членов христианского большинства, которые наполовину признали демократичеcкие обя402 A<¦'& зательства в своих сердцах, что идентифицировать себя с гражданской нацией в демократической республике, как наша, не обязательно конфликтует с их теологическими убеждениями. Вопервых, я выступал против представления о том, что ролзианский либерализм предлагает описательно адекватный анализ нашей политической культуры. Можно отвергать либеральную теорию, не отвергая культуру. Во-вторых, я предложил отчет о благоприятном значении, в котором секуляризован наш политический дискурс. Следовательно, можно участвовать в нем искренне, без имплицитного отбрасывания теологических убеждений. В-третьих, я представил множество примеров имманентной критики нового традиционализма, с целью показать, что данный случай отказа от современных демократических обществ глубоко ошибочен, даже в своих собственных рамках. Я не отрицаю, что некоторые логичные теологические взгляды расходятся с демократией. Само собой разумеется. Теократическая теология явно несовместима с демократией, как и радикальные формы сепаратизма, которые описывают участие в любом религиозно плюралистическом обществе как в корне грешное и порочное. Но одно из важнейших заключений, представленных здесь, состоит в том, что христианская теологическая ортодоксальность не является источником антидемократических настроений или тенденций нового традиционализма. Роберт Меррихью Адамс, Карл Барт, Джордж Хансинджер и Николас Вольтерсторфф — ортодоксальные тринитарианцы, сыгравшие выдающуюся роль на этих страницах; каждый из них занимает позицию по отношению к миру за пределами церкви, выражающую похвальную приверженность демократии. Политические тревожные аспекты нового традиционализма проистекают из источников, весьма отличных от любой доктрины, разделяемой крупнейшими разновидностями тринитарианской теологии. В момент, когда ортодоксальный иудаизм в Израиле и ортодоксальный ислам во всем мире сражаются за решение сходных вопросов, исследование трудов христианских мыслителей, связавших теологическую ортодоксальность с демократической практикой, является академической задачей глобальной значимости. Было бы прекрасно, если самые существенные части Догматики церкви Барта смогли занять важное место в учебных курсах духовных семинарий всех пустынных верований. И лучше, если бы голоса, стремящиеся демократизировать религиозные институты, были слышны и оттуда. Демократия подразумевает субстантивные нормативные обязательства, но не предполагает заранее установления классифика403 ции наших ценностей. Не претендует она также и на спасение человечества от греха и смерти. Она принимает как должное то, что разумные люди будут отличаться в своих представлениях о благочестии, своих основаниях для надежды, своих конечных интересах, и в своих догадках о спасении. Однако демократия полагает, что люди, расходящиеся по таким вопросам, все еще могут в доступной друг другу манере обмениваться доводами, сотрудничать в выработке политических договоренностей, соблюдать справедливость и порядочность в отношениях друг с другом, не идя при этом на компромисс с честностью. Сотрудничающие демократические граждане также стремятся думать о более возвышенных вопросах, чем политика, и не ожидают, что все будет так, как они хотят, по каждому вынесенному на рассмотрение публики вопросу. Надо сказать, однако, что бывают времена, когда любой сознательный человек испытывает колебания в связи с вопросом, почему следует идентифицироваться с нацией, желающей принять политику, несовместимую с тем, что представляется ему явно правильным и истинным. Для меня наше применение смертной казни и злоупотребление военной силой — среди вопросов, которые заставляют меня задуматься, является ли выплата налогов государству формой соучастия, от которого мне бы следовало освободиться, невзирая на цену. У многих других аборт вызывает подобные же сомнения. Но даже если мне бы пришлось отказаться от уплаты мои налогов, таким образом следуя благородному примеру Торо, я бы подразумевал под этим действием акт коммуникации, сигнал для других членов моего сообщества, что намереваюсь считать их ответственными за их несправедливость. Пока я мыслю в этом направлении, я все еще идентифицирую себя с этим сообществом, даже если выражаю свое отчуждение от него. Такого рода неоднозначное членство имеет богатую родословную в демократической культуре. Стоит иметь в виду, что сходные вопросы возникают в отношении членства в любой более или менее значительной группе, не в последнюю очередь в религиозной. Христианские церкви теперь разобщены из-за многочисленных доктринальных, практических и институциональных вопросов, включая множество тех, что разделяют всех остальных граждан политически. Многие христиане столкнулись с трудными решениями по поводу того, смогут ли они с чистой совестью оставаться уважаемыми членами группы, которая, скажем, налагает запрет на священство женщин или разрешает однополые браки. Легко увидеть, как эти темы могут оказывать столь сильное влияние на вопрос о продолжении ассоциации себя с определенной груп404 A<¦'& пой. Но это должно напомнить нам, что ни один общественный орган, включая церковь, не обеспечивает иммунитета от дилемм и конфликтов членства. Отход от идентификации с американским народом за счет укрепления своей идентификации с народом Божьим оставляет христианина примерно с теми же дилеммами, той же двойственностью, с которой все и начиналось. Единственная альтернатива — широкомасштабный сепаратизм, включающий обязательства перед группой, достаточно малой и однородной, чтобы исключить нерешительность, по крайней мере, на какое-то время. Но с какой стати мне желать ограничивать мое дискурсивное сообщество людьми, уже согласными со мной по основным вопросам? Не стоит ли нам быть ответственным друг перед другом дискурсивно, как раз потому что мы согласны не во всем и поэтому нуждаемся в взаимном прояснении вопросов? Секулярные либералы, чувствуя упадок религиозных левых, могут утверждать, что единственный путь спасти нашу демократию от религиозных правых — препятствовать публичному выражению религиозных соображений. Помимо всевозможных теоретических ошибок, которые могут стоять за этим спором, было бы безрассудно предположить, что, скажем, программа сдерживания Ролза или то, что Рорти называет джефферсонианским компромиссом, найдет поддержку в стране с нашей религиозной и политической историей. Так что практический вопрос не в том, будут ли религиозные соображения высказываться на публике, а в том, кем, каким образом, и с какими целями. Секулярные либералы недооценивают роль, которую они сами сыграли в смещении баланса между религиозными левыми и правыми в американской политике. Возвышение религиозных правых в какой-то мере — негативная реакция на ощущение господства секулярного либерализма в некоторых важных учреждениях и профессиях. В 1960-х Нойхаус и Макинтайр были выдающимися фигурами левых, а Хауэрвас был молодым нибурианским либералом. Секулярный либерализм невольно поспособствовал упадку религиозных левых, убедив религиозных интеллектуалов в том, что либеральное общество собирается исключить выражение их самых твердых убеждений. Новый традиционализм изображает религиозных левых как мутацию секулярного либерализма, заразившую церкви, как смертельный вирус. Такое описание неверно отражает все необходимые исторические образцы. Первые современные революционеры не были секулярными либералами; они были радикальными кальвинистами. Среди важнейших демократических движений в американской 405 истории были аболиционизм и движение за гражданские права; оба опирались в основном на религиозные сообщества. Религиозные колледжи и семинарии обеспечивали сильную поддержку для обоих движений. Если бы в их поддержку не были приведены религиозные предпосылки, вряд ли движение достигло успеха. Христианское большинство в обих случаях нуждалось в убеждении, что обязательство перед библейским авторитетом по крайней мере совместимо с предложенной реформой. Если бы религиозные левые скоро не вернули себе энергию и уверенность, вряд ли американская демократия была бы способна противодействовать алчности бизнес-элиты или решимости многих белых определить подлинную нацию с этнической, расовой и экклезиастической точек зрения. ]¶ Одно учреждение в моем городе, называющееся медицинским центром — мои соседи и я зовем его больницей, — подало иск, надеясь добиться исключения при проведении зонирования, чтобы жилой блок мог быть превращен в бюрократические офисы. Сообщество сопротивляется, борясь за свою жизнь как сообщества, и ищет нужные слова и доводы для защиты в суде. Это ряд небольших районов, в десяти минутах ходьбы от места собраний, известного как Общинный парк. Ближайший к больнице район, преимущественно итальянский, был основан искусными резчиками по камню, обосновавшимися здесь много десятилетий назад, когда университет, нанявший меня, решил построить готические здания, имитирующие архитектуру Оксфорда и Кембриджа. Дом, в котором мы жили с женой, когда нам было по двадцать, находился в итальянском районе, и тогда располагался напротив входа в травмпункт. Этот дом и садик за ним, который наш владелец использовал для выращивания овощей и кроликов, с тех пор уже давно сменила автостоянка. С одной стороны, наш район, — в основном англоамериканцы и квалифицированные служащие. С другой, — это простонародный район, долгое время населенный лишь темнокожими и теперь приютивший множество иммигрантов из Латинской Америки. В каком смысле эти районы, которые я только что описал с точки зрения этнической и классовой принадлежности, составляют сообщество? Сообщество есть группа, имеющая что-то общее (13). Что же тогда имеют общего люди, живущие в этих микрорайонах, кроме географического пространства, которое я могу определять произвольно? Коммунитарианцы считают, что сообщества основываются на об406 A<¦'& щих целях, общих этнических корнеях и общих нарративах. Если судить по коммунитарианским стандартам, мои ближайшие соседи вовсе и не сообщество. Возможно, итальянский район сам по себе близок к этому определению сообщества, но не все три района, вместе взятые. Многие социальные критики, вероятно, сказали бы что то, что я называю моим сообществом, в действительности не что иное как совокупность разобщенных индивидов. Согласно таким критикам, если мы с моими соседями вообразим, что сражаемся за существование нашего сообщества, мы действительно должны бороться за наши права или интересы как собственники или арендаторы. И если у больницы также есть права и интересы, и теперь она владеет частью квартала, постепенно ею выкупленным, наш спор — лишь столкновение конфликтующих интересов. Участвуя в этической жизни данной местности, размышляя о вопросах, затронутых в этой книге, я стал смотреть на свое сообщество иначе — как на сообщество, но не в коммунитарианском смысле. Эту книгу можно рассматривать как ответ на вопрос о том, что объединяет меня и моих соседей. Это наша деятельность. Например, мы вместе играем в баскетбол, бейсбол и футбол. Иногда мы играем в игры, не переходящие расовые или этнические границы. Иногда мы играем друг против друга в командах, символизирующих наши различия. А иногда мы играем друг с другом в командах, в которых все перемешано. Значительную роль в нашем объединении сыграл футбол, поскольку он был первоначально завезен сюда итальянцами, вслед за чем в него стали играть англоамериканские и чернокожие дети, практически в то же время, как стали прибывать и латиноамериканцы. На одном из праздников последние появились большой группой, с лицами, выкрашенными в цвета школы, чтобы поболеть за девушек на соревнованиях нашего штата. В другой важный день, вскоре после того как латиноамериканцы начали вступать в футбольный клуб, основанный в 1970-х белыми из пригорода, команда мальчиков Latin Power пригласила в свои ряды нескольких англоамериканцев. Вскоре после этого команда мальчиков из нашей школы, включавшая латиноамериканцев, афроамериканцев, англоамериканцев и азиатов, выиграла чемпионат штата. Все мы понимали, какое сообщество представляли эти команды. При этом я не собираюсь идеализировать это сообщество. Расизм и этническая враждебность вспыхивали среди нас постоянно. Гватемалец, организовавший и интегрировавший Latin Power, возможно, сделавший больше чем кто-либо для наших детей, был зверски избит за несговорчивость на одной из баскетбольных пло407 щадок в Общинном парке. С ним также жестоко обращались и эксплуатировали белые из верхушки среднего класса, притворяясь его друзьями. Тремя годами позже чемпионства штата, напряженность в школе между латино- и англоамериканцами значительно возросла. Существует местная политика в отношении этнической идентичности, и не всегда приятная или вдохновляющая. Среди нас также есть отцы семейств, бьющие жен и детей. Многие из моих соседей живут без медицинской страховки, боятся полиции и замечают, что их доходы уменьшаются. Кто-то из наших детей употребляет наркотики или совершает самоубийство. Посреди всего этого нас, как сообщество, объединяют общественные практики и подразумеваемые формы превосходства, которыми мы дорожим. Нас интересует футбол, то, как сделана пицца и тортилья, волнует, услышаны ли наши голоса в мэрии. Мы хотим, чтобы каждый отвечал за свои взгляды и поступки, и потому обсуждаем их. Мы спорим о достоинствах нападающих, анчоусов и кандидатов в отдел среднего образования. Те из нас, кто голосовал хоть раз, уже чувствуют, что не должны дрожать или расшаркиваться в присутствии школьных директоров, руководителей больниц или других специалистов. В результате всего этого мы можем лично ощутить и заявить открыто, чего нас может лишить больница, если она бездумно разрушит итальянский район, связывающий наше маленькое сообщество. И мы начинаем осознавать, что если мы не будем вести себя, отождествляясь с данным сообществом, самая многочисленная среди нас группировка проложит себе дорогу, и мы потеряем то, что всем нам дорого. Было бы глупо думать, что этот уровень политического взаимодействия охватывает всю политику, но к этому следует отнестись серьезно. Мой товарищ из Швеции сообщает, что понятие национального сообщества как группы, имеющей общую деятельность, повлияло на правительственную политику в отношении финансирования проектов, имеющих целью преодоление этнических разногласий, возникающих вследствие недавней волны иммиграции. Как он считает, преданность демократической культуре предполагает, что правительства на всех уровнях должны предпринять шаги для организации объединяющих видов деятельности, если хотим, чтобы гражданское общество и отождествление с общиной в целом выдержали рост этнического и расового самосознания. Несомненно, предстоит многое сделать, чтобы отрегулировать наше понимание того, как обеспечить эффективную поддержку гражданского общества, но мы уже знаем достаточно, как мне кажется, для смело408 A<¦'& го и одновременно расчетливого экспериментирования при данной избранной цели. Недавно вышедшая книга Корнела Уэста и Роберту Мангабейры Унжера устанавливает необходимость такого экспериментирования в рамках более широкого видения политической и экономической реформы (14). Можно спорить по поводу деталей их предложений, но если мы хотим добиться чего-то вроде реформ в духе Уэста и Унжера, мне представляется крайне необходимым выработать общий проект содействия идентификации, выходящей за пределы этнической принадлежности, расы и религии — на местном и национальном уровнях. Членам моего местного сообщества становится очевидным, что если мы не будем вести себя как группа, имеющая общую практику, которой мы все дорожим, включая дискурсивную практику ответственности друг перед другом, мы утратим то, что ценим. Чтобы выжить как сообщество, мы должны идентифицировать себя с группой, которую составляем, и в соответствии с этим действовать. Должно ли аналогичное практическое умозаключение оставаться вне досягаемости гражданской нации? Да, если, как я думаю, наши моралисты, писатели, поэты, эссеисты, режиссеры, художники, певцы и профессора не смогут найти нужную пищу воображению публики. Конечно, есть несколько причин возможной неудачи. Первая и самая очевидная состоит в том, что они не будут стараться. Они могут быть постоянно заняты тем, что не приносит пользы демократии. Это может быть чем-то сугубо эстетическим или академичным, в принципе слабо связанным с интересами демократии. Либо их занятия должны были бы помочь демократии, но в действительности оказываются неверно воспринятыми и неэффективными, как, например, ролзианская позиция в отношении публичного выражения религиозных соображений, либо, хуже того, эти занятия в итоге вообще ослабляют приверженность демократии в обществе, как это делает традиционалистская программа Хауэрваса и Макинтайра. Книга выражает мою озабоченность тем, что сегодняшнее преобладание теории общественного договора на юридических факультетах, философских кафедрах и в этических центрах вместе с растущим влиянием нового традиционализма в семинариях и на факультетах богословия усиливают те тенденции в американской интеллектуальной жизни, которые повлекут за собой проблемы для американской демократии. И я намекал на то, что постмодернисты на наших филологических факультетах также не очень улучшают обстановку. Основная аудитория, к которой я на409 деюсь обратиться, — это молодое поколение интеллектуалов, находящихся сейчас в процессе размышлений о том, как найти свое призвание, задачу. Они могут использовать напоминание, я полагаю, своей собственной полуосознанной приверженности форме свободного выражения и обмена соображениями, адекватно не раскрытой в рамках ролзианской, традиционалистской или постмодернистской концепции. Но даже если одаренные интеллектуалы изберут своим призванием улучшение перспектив демократического сообщества, нет гарантий, что все наладится. Было бы серьезной ошибкой, например, если бы они посчитали, что такая страна, как наша, сможет стать сообществом в коммунитарианском смысле. Ни одна страна подобного размера и сложности не сможет реалистично представить себя как группу, связанную соглашением о классификации важнейших ценностей, религиозным видением блага или великой историей о происхождении и судьбе народа. Это было бы нереалистичным представлением, даже для группы районов вокруг Общинного парка. И это бы быстро стало опасным при подведении законодательной основы, которая бы либо запретила свободное выражение религиозных убеждений, либо эффективно установила единый набор религиозных обязательств в качестве предпосылки, которую каждому полагалось бы воспринимать как должное при обмене соображениями в своем окружении. Тип сообщества, который демократам следовало утверждать на местном, штатском и национальном уровне политики, должен подразумевать общее обязательство перед Конституцией и демократической культурой. В Америке эта культура состоит из ряда свободных и непрерывно меняющихся социальных практик, включающих такие виды деятельности, как вышивание, бейсбол и джаз. Но его центральным и определяющим компонентом является дискурсивная практика ответственности друг перед другом за совершаемые поступки, принимаемые обязательства и за то, какими людьми мы становимся. Выразительное призвание демократического интеллектуала предполагает отождествление с сообществом, порожденным такой практикой, попытку сделать его различные особенности эксплицитными и подвергнуть их критическому изучению и пересмотру. Гегелю не нравилось, что интеллектуалы его времени реагировали в основном слабо и нерешительно на социальную ситуацию, в которой они оказались. Среди типов, о которых он думал, был кантианский формалист, отстранявшийся от ситуации, стараясь быть выше нее благодаря мышлению, сторонник досовременной 410 A<¦'& добродетели, выступавший против мирского, и романтический энтузиаст сообщества с религиозным и расовым пылом. Их этих трех типов только третий преодолевает отчуждение от группы, в которой он непосредственно находится, но это за счет отчуждения от своей собственной имплицитной претензии обладать мотивами своей позиции. Философия Гегеля стремилась преодолеть формы отчуждения, представленные первыми двумя типами, побеждая иррационализм третьего. Я попытался осуществить нечто похожее в отношении к моим собеседникам в рамках философии, политической теории и религиозной мысли. Как считал Гегель, ключевым для возможности примирить ответственность человека с его социальным положением является отождествление с тем, что в нем есть рационального. Социальная ситуация в отсутствие рациональности, конечно, была бы безнадежной; не было бы никаких оснований для примирения с ней. Если бы я сам был в подобной ситуации, то не мог бы этого знать, поскольку не знал бы ничего. В социальной ситуации, лишенной рациональности, у меня не было бы возможности приобрести когнитивные навыки, требуемые для ее критики. Но если сама рациональность с необходимостью воплощается в социальной практике, как утверждал Гегель, тогда я, критически относясь к моему же обществу, по сути, буду зависим, как критик, от того, что рационально в моей социальной ситуации. Полагаю, что поэтому я принадлежу к сообществу обменивающихся доводами (reason-exchangers). Это — гегельянская версия Декартова cogito. Если я действительно понимаю, что происходит, когда я осуществляю акты социального критицизма, подлинным объектом моей идентификации будут не разрозненные основания, досовременная добродетель и не мои этнические корни, а мое актуальное сообщество рационализаторов (reason-givers) (15). Обсуждаемое сообщество в этом случае устанавливается нашим взаимным признанием друг друга в качестве тех, перед кем каждый из нас несет ответственность в практике обмена соображениями об этических и политических вопросах. Использование уровня Общинного парка — лишь способ показать, что я и мои соседи не обязаны соглашаться друг с другом в отношении определенной системы философских взглядов или нарративов, чтобы быть настоящим сообществом. Мы уже члены подобного сообщества, коль скоро готовы нести ответственность друг перед другом в обмене доводами. Заявить о своих основаниях администраторам больницы и потребовать от них оснований их политики значит обратиться к ним как к потенциальным членами того 411 же сообщества. И если бы они предпочли отреагировать, представив доводы и считая себя обязанными действовать разумно, они были бы членами этого сообщества. Очерчивая тему подобным образом, мы немедленно обращаемся к более серьезной угрозе, с которой сталкивается демократия. Так как совершенно ясно в случае с районами вокруг Общинного парка, что обмен доводами может быть легко подорван бесчисленным множеством способов, даже если сообщество обладает самосознанием и его представители действуют мудро. Например, в данном случае многое зависит, как и во множестве других подобных, от независимости, смелости и честности местной прессы и судебной власти. Лишь время покажет, овладела ли уже больница определенной степенью власти и влияния над определенными средствами массовой информации и принимающих решения органами власти, позволяющей им действовать без предоставления достаточных оснований для дальнейшего приобретения собственности. Одноединственное неверное решение одного подверженного ошибкам чиновника легко приведет к тому, что не останется дискурсивного сообщества, способного организовать сопротивление от своего имени. Если мы поднимемся над местным уровнем, любому честному наблюдателю будет ясно, что корпоративное воздействие на выборный и законодательный процесс теперь угрожает разрушить политически эффективный и открытый публичный обмен доводами по значимым для гражданского населения вопросам. Вряд ли ктото сможет откровенно назвать наш образ правления демократическим, если корпоративное воздействие на него настолько сильно, что доводы, предоставляемые публикой против его решений, имеют слабое влияние на законодательные итоги. Сейчас трудно бесстрастно заявлять о том, что Верховный суд либо пресса сохраняют свою традиционную независимость политического процесса. Вызывает беспокойство быстрое сокращение числа корпораций, контролирующих средства публичной коммуникации в Соединенных Штатах и за их пределами. «Шесть фирм доминируют над всеамериканскими средствами массовой информации» (16). Не так давно их было пятьдесят. В мировом масштабе в системе коммуникаций «господствуют три или четыре дюжины крупных транснациональных корпораций… менее чем десять из которых, возвышающиеся над мировым рынком медиаконгломераты, в основном американские»(17). Это потребует всего интеллектуального и организационного творчества, которое сможет найти в себе будущее поколение 412 A<¦'& демократов, чтобы поддержать очевидные демократические формы публичного дискурса в современных условиях. Я не предполагаю, что демократическое правление — нечто простое, чего можно достичь, например, прямым народным восстанием. В возрождении демократии незаменимую роль должны сыграть «небольшие преданные группы» демократов. Ни одного здравомыслящего демократа нельзя противопоставить «элитам» в благотворном смысле (18). Скорее всего, Уитмен сознавал свою зависимость от круга литераторов-радикалов, группировавшихся вокруг Эмерсона (19). Социальная структура здоровой современной демократии должна включать целый ряд подобных групп, несколько миллионов подлинных активистов и более крупное сообщество специалистов и граждан, готовых слышать сигналы тревоги, обмениваться соображениями в своем окружении, жертвовать временем и деньгами, а также соответствующим образом голосовать (20). Несмотря на наши очевидные пороки, все это вовсе не за пределами разумной надежды. В узко политическом контексте вопрос характера, таким образом, становится вопросом о том, можем ли мы приступить к воспитанию людей, имеющих необходимые добродетели для выполнения этих ролей, и если да, то как нам это сделать. В ближайшем будущем эти добродетели, вероятно, будут очень востребованы и подвергнутся серьезному испытанию при определении курса борьбы с террором. Борьба будет вестись как против самого терроризма, так и против нашего собственного страха и негодования. Преданные демократии интеллектуалы и журналисты должны сыграть ключевую роль в формулировании и укреплении скрытого в людях желания справедливости по отношению к другим страстям, обычно возникающим, когда страну атакуют. Именно их обязанность — разъяснить нашим политическим и военным лидерам, что ни одна несправедливость в отношении гражданского населения нашей и любой другой страны не пройдет незамеченной или без сопротивления. Борьба против террора — против страха и негодования, превращающих демократии в имперские тирании — будет длиться и встречать столько препятствий и неудач, сколько и сама борьба против самого терроризма. Борьба против терроризма должна вестись одновременно на трех фронтах: на одном — дисциплинированным использованием вооруженной силы против террористов и их сторонников, на втором — разработкой международного права и третьем — убедительной аргументацией от лица демократии. У меня есть большие сомнения по поводу того, как мы ведем себя на всех трех фронтах. На военном фронте мы принимаем 413 недостаточно мер по защите гражданского населения и не выказываем интереса в принятии обязательств по сокращению силового вмешательства в будущем. На правовом фронте мы часто забываем и даже подрываем существующее международное право. На идеологическом фронте — терпим неудачи практически повсюду. Мы справедливо называем терроризм отвратительным. И почему же? Поскольку террорист осознанно избирает своей жертвой невинных граждан. Мы осуждаем режимы, производящие и использующие оружие массового поражения. Но притом мы сами не готовы принять последствия этих заявлений. Мир помнит то, что мы хотели бы забыть. Именно мы бомбили Хиросиму и Нагасаки. И делали это, основываясь на том, что террор по отношению к гражданскому населению Японии приведет к безоговорочной капитуляции быстрее и с наименьшими возможными затратами. Это всегда было самым эффективным идеологическим оружием мусульманского радикализма, применяемым против нас, и Усама бен Ладен с удовольствием использовал его в качестве своих самых убедительных аргументов. Мы изобрели и применили оружие массового поражения, нам еще предстоит раскаяться в этом. Вместо этого мы сохраняем его, проводим испытания и часто нацеливаем на города. Совсем недавно наша самоуверенность в использовании оружия и средств массового поражения показала, что одна страна, не сдерживаемая международным правом, впредь не будет решать, каким режимам оставаться, а каким исчезнуть. И с чего бы нашим лидерам, выступающим против тирании либо поддерживающим ее, как им вздумается, интересоваться справедливостью? Они обдуманно сбивают с толку общественность, когда речь заходит об их основаниях для ведения войны и фактах, оправдывающих применение военной силы. Они делают вид, что знают цену своей политики в долларах, в отношении других стран и в человеческих жизнях. Они превозносят смирение, традицию, сострадание и демократию, вынашивая планы мирового владычества. Они предлагают свою собственную волю в качестве мерила справедливости. Но оправдывает ли это террористические атаки на нас? Конечно, нет. И ничто не оправдает. Но до тех пор пока мы искренне и убедительно не откажемся от бессердечного убийства мирных граждан и легкомысленной терпимости по отношению к диктаторам и «выдающимся» тиранам, мы будем оставаться как лицемерными, так и ужасающе опасными. Глупо ожидать, что мир поверит нам, основываясь всего лишь на наших декларациях о демократии и справедливости. Мир подозревает, что мы верим в технологиче414 A<¦'& скую мощь, нефть, деньги и развлечения. Кажется, нашим подлинным мотивом является лишь желание сделать по-своему. Одно дело — иметь справедливую причину для ведения войны, и совсем другое — обладать моральным авторитетом для этого. В конце концов, борьба с терроризмом будет выиграна или проиграна именно на идеологически-моральном фронте, и в настоящем мы явно проигрываем. По правде говоря, существует лишь один способ выиграть. Он заключается в применении наших идеалов и принципов к нашему собственному поведению с той же целеустремленностью и смелостью, что были продемонстрированы нами при осуждении талибских головорезов. В этой риторике характер, проявленный участником дискуссии, определит, кто ему верит и доверяет сказанному. В ближайшем будущем мы будем страстно стремиться к выявлению исключений в наших интересах. Однако мы, так или иначе, должны найти их в себе, чтобы стать тем народом, каковым себя считаем. Чтобы победить терроризм, мы должны выиграть в борьбе против террора в нашем собственном политическом сообществе. < < £ ( Я хотел бы закончить кратким рассмотрением вопроса о характере, который недавно задала августинский политолог Джин Бетке Элштайн на конференции в Ричмонде, Виргиния. Ее вопрос звучал так: «Доколе течь потокам?» Полагаю, потоки — это метафора источников этической и религиозной добродетели, питающих нашу демократию. Ее беспокоит, что граждане демократической страны утрачивают добродетели, совершенно необходимые для существования демократии. Она опасается, что истощение источников — лишь вопрос времени. Думаю, множество бдительных граждан задают себе сегодня похожие вопросы. И как же реагирует Уитмен? А у него нет ответов. Он не говорит, сколько еще осталось течь потокам. Думаю, его больше интересовал предыдущий вопрос о том, где же, как нам кажется, текут эти потоки. В «Осенних ручьчх» он дает следующий ответ: В тебе, кто бы ты ни был, внимающий моей книге, Во мне самом и всем свете текут эти потоки… (21). Смысл этого ответа в том, что нам не надо представлять жизненные источники, от которых мы зависим, как что-то по сути чужеродное 415 американской демократической действительности. Эти потоки находятся в нас и от нас исходят, когда мы вступаем в наши демократические практики. Потому демократию понимают неверно, когда она воспринимается как пустыня, враждебная ко всем живительным водам культуры и традиции, еще протекающим по ней. Лучше истолковывать демократию как самое подходящее на данный момент для самих этих потоков имя. В «Стране Северной звезды» — «истории живущих на Среднем Западе, рассказанной с их точки зрения и на их языке» — Меридель Ле Сюёр представляет народ как реку, петляющую и падающую, мерцающую во множестве рассветов; потерявшись в глубоких колодцах, она сохнет, вырывается в весеннем половодье, выходит к морю. Люди как рассказ — длинный, непрекращающийся, возрождающийся в лучшей пшенице, першеронах, детях и моторах, непрерывных и неотвратимых. Люди всегда знают, что будет хорошее зерно, что часть урожая будет спасена, многое вернется, неся силу зародыша, и что в самый кровавый год многие выживут, чтобы перенести морозы (22). Тяжеловозная порода лошадей. 416 §¤'&­ ПРИМЕЧАНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ & 1. Защиту доктрины нейтралитета см. в изд.: John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971), Ronald Dworkin, A Matter of Principle (Cambridge: Harvard University Press, 1985). Интересно, что многие критики этой доктрины сами называют себя либералами. См.: Amy Gutmann, Democratic Education (Princeton: Princeton University Press, 1987); Stephen Macedo, Liberal Virtues (Oxford: Oxford University Press, 1990); Joseph Raz, The Morality of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1968); George Sher, Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Я обсуждал дихотомию разума и традиции в работе Ethics after Babel, дополненное изд. (Princeton: Princeton University Press, 2001), ч. 2. 2. Я объясняю всю эту терминологию Ролза и привожу соответствующие отсылки к работам Ролза в главе 3 (стр. 65). 3. Заметьте, что я не определяю современную демократию просто как правление народа. И я не делаю акцента на процессе выборов. «Сердце проблемы — принцип доступа к публичному освобождению» (Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology [Cambridge: Cambridge University Press, 1996], 269–270). 4. O’Donovan, Desire of the Nations, 270. 5. John Dewey, The Public and Its Problems (Athens, Ohio: Swallow Press, 1927), 144, 146. 6. Dewey, The Public, 143. 7. Rebecca S. Chopp, From Patriarchy to Freedom: A Conversation between American Feminist Theology and French Feminism, в изд.: The Postmodern God: A Theological Reader, ed. Graham Ward (Oxford: Blackwell, 1997), 237. 8. Dewey, The Public, 143. 9. О сознательном использовании этой тактики Эмерсоном в «Знаменитых мужах» см.: Robert D. Richardson, Jr., Emerson: The Mind on Fire (Berkeley: University of California Press, 1995), 415. 417 10. Концепцией религии, которую я здесь и во всей части первой принимаю без доказательств, я обязан изд.: George Santayana, The Life of Reason (Amherst, N. Y.: Prometheus Books, 1998) и великолепному очерку о Сантаяне в изд.: Henry Samuel Levinson, Santayana, Pragmatism, and the Spiritual Life (Chapel Hill: University of North California Press, 1992). 11. Объяснение того, что я подразумеваю под «экспрессивной рациональностью», можно найти в изд.: Robert B. Brandom, Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 105–111, 130. Такое понимание этих слов отличается от понимания термина «экспрессивизм», применяемого Джорджем Линдбеком в: The Nature of Doctrine: Theology and Religion in a Postliberal Age (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1984). Линдбек различает «пропозициональную», «эмпирически-экспрессивистскую» и «культурнолингвистическую» теории религии. Последний тип примыкает к той форме экспрессивизма, которую мы можем найти у Уилфрида Селлерса и Брандома, причем ни тот, ни другой не являются экспрессивистами в понимании Линдбека. Та форма экспрессивизма, которую имеет в виду Линдбек, представляет собой сущностно субъективистскую форму, которая ассоциируется с романтиками; она рассматривает религиозный язык как выражение доязыкового аспекта человеческого опыта. Экспрессивизм Селлерса — Брандома начал формироваться в атаках Гегеля именно на этот аспект романтического антирационализма, который Гегель определил как «Begeisterung und Trubbeit» («Горение и вязкость») в начале предисловия к «Феноменологии духа». 12. Уитмен также в определенной степени испытал влияние Гегеля, как указывает Ричард Рорти в изд.: Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 20–21. ^ 1 O< ]^' £¤ & ¥¦ 1. Walt Whitman, Democratic Vistas, в изд.: Whitman: Complete Poetry and Collected Prose, ed. Justin Kaplan (New York: Library of America, 1982), pars. 15, 14. Далее при цитатах — «ДД» с указанием номера абзаца. 418 §¤'&­ 2. Harold Bloom, The American Religion: The Emergence of the Post-Christian Nation (New York: Simon and Schuster, 1982), 22–25. 3. Монтан, живший во II в., утверждал, что Святой Дух говорит его устами во время его трансов. Его последователи выступали за более непосредственные литургические службы, подчеркивая, что Дух может говорить через любого человека. Монтанистская ересь основывалась на том, что речь, непосредственно вдохновленная Святым Духом, более авторитетна, нежели официальные заявления какого бы то ни было церковного служителя и даже нежели зафиксированные в Писании изложения учения Христа. Британский монах Пелагий утверждал, что коль скоро Бог считает людей ответственными за их грехи, то они должны иметь свободу поступать ответственно. Августин возражал пелагианцам, говоря, что мы всегда находимся в состоянии греховности, за которое мы, несмотря ни на что, ответственны, как за результат нашего выбора, и спасти нас может только милость Божия. См.: William Placher, A History of Christian Theology: An Introduction (Philadelphia: Westminster Press, 1983), 50–51, 115–120. 4. Michael Lind, The Next American Nation (New York: Free Press, 1995), chaps. 4–5. 5. Конечно, Роберт Белла и многие другие используют здесь лексику, заимствованную у Токвиля. Пространный разбор Беллы и его единомышленников см. в изд.: Ethics after Babel, дополненное изд. (Princeton: Princeton University Press, 2001), pt. 3. 6. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, ed. J.G.A. Pocock (Indianapolis: Hackett, 1987), 79. 7. Augustine of Hippo, City of God, trans. Henry Bettenson (London: Penguin Books, 1984), bk. 19, chap. 4. 8. Stanley Cavell, Conditions Hadsome and Unhandsome: The Constitution of Emersonian Perfectionism (Chicago: University of Chicago Press, 1990). 9. Кэвелл заимствовал термин «перфекционизм» у Джона Ролза, который пользовался им для обозначения позиции, отвергаемой им в книге A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971). Однако похоже, что Кэвелл вкладывает в него не тот смысл, который вкладывал Ролз. По Ролзу, перфекционизм стремится организовать политические институты таким образом, чтобы «максимизировать достижения человека в искусстве, науке и культуре» (325). Кэвелл видит в достижении совершенства, наслаждении им и уважении к нему ценности, глубоко небезразличные демократическим чувствам, но он 419 не устремляется максимизировать их в консеквенциалистском духе. В этом отношении его позиция ближе к той, которую занимает Роберт Меррихью Адамс в книге Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics (Oxford: Oxford University Press, 1999), chap. 19, чем к той, что названа Ролзом перфекционизмом. Адамс принимает словоупотребление Ролза и тем самым отвергает перфекционизм в узком смысле. Я буду пользоваться термином в более широком смысле, как им пользуется Кэвелл. Согласно такому пониманию перфекционизму не нужно привлекать ни конвенциалистскую задачу максимизации совершенства, ни представления о том, что существует четкая цель совершенства, о которой обязаны мечтать все люди. 10. Ralph Waldo Emerson, Emerson: Essays and Lectures, ed. Joel Porte (New York: Library of America, 1983), 458; курсив в оригинале. 11. Emerson, The Divinity School Address, в изд.: Emerson: Essays and Lectures, 83. Под «даром языков» Эмерсон понимает стимул встать и красноречиво заговорить с самим собой, а не так, «как мода зовет». 12. Рассмотрим следующее предложение из «Письма к Ралфу Уолдо Эмерсону» Уитмена: «Для меня же отныне эта теория чего угодно, неважно чего, костенеет и загнивает в своем сердце, она труслива, ведь она не может прилюдно принять и прилюдно назвать особыми словами вещи, от которых все существование, все души, все понимание, все достоинство, все здоровье, все, что заслуживает того, чтобы мы ради него были здесь, все женское и все мужское, вся красота, вся чистота, вся нежность, вся дружба, вся жизнь, все бессмертие зависят» (Whitman: Poetry and Prose, 1335). Это язык благочестивого признания, но говорит поэт о сексе. 13. Предисловие к изданию «Листьев травы» 1855 года, в изд: Whitman: Poetry and Prose, 24. 14. Ibid., 233. 15. Ibid. 16. John Dewey, A Common Faith (New Haven: Yale University Press, 1934), 53. Далее при цитатах — «ОВ». 17. Emerson, Emerson: Essays and Letters, 88, 203, 268. 18. Больше доверия вызывает интерпретация, которую представляет Роберт Макким в начале своей книги Religious Ambiguity and Religious Diversity (Oxford: Oxford University Press, 2001): «Некогда религиозные традиции существовали на расстоянии друг от друга, как географически, так и умственно. Типичный 420 §¤'&­ представитель типичной традиции узнавал о других традициях, допустим, из рассказов путешественников. Были мы и были они. Теперь они — это наши соседи, нас уже не разделяет расстояние. А коль скоро они — наши соседи и мы не разделены, так что же нам остается, если не стараться узнать, что они думают? Что нам остается, как не спрашивать, что есть привлекательного в их воззрениях?» Но в этом-то и загвоздка, считает Макким: «Если человек станет принимать всерьез другие традиции, так, как их нужно принимать, это может до основания потрясти; в частности, от него может потребоваться выработать у себя другое отношение к тому, во что он верил» (vii). Макким надеется на появление «некоего понимания того, что традиции представляют собой ряд честных попыток противостоять чему-то темному» (viii), но мудро избегает предсказаний. 19. «Thoughts on the Cause of the Present Discontents» (1770) в изд.: The Works of the Honourable Edmund Burke, vol. 1 (Boston: John West and O.C. Greenleaf, 1806), 388. 20. Sabina Lovibond, Realism and Imagination in Ethics (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), 227. 21. Emerson, Emerson: Essays and Letters, 337. 22. Meridel Le Sueur, North Star Country (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 11. В этой книге, первоначально опубликованной в 1945 году, названия глав поразительно напоминают об Уитмене: «Они придут в радости», «Сладостен свет», «Моему народу увы», «Греми вовек, Демократия», «Вставайте, о дни», «Борьба», «Шагай вперед, Демократия». 23. David Bromwich, A Choice of Inheritance: Self and Community from Edmund Burke to Robert Frost (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989), 337. 24. «Тогда я скажу, что, насколько мы можем проследить природную историю души, здоровье ее состоит в полноте ее восприятия — назовите это благочестием, назовите благоговением — а на самом деле внутри складывается энтузиазм» (Эмерсон, «Метод Природы». — В изд.: Emerson: Essays and Letters, 125). 25. Whitman: Poetry and Prose, 1208f. 26. Emerson, Emerson: Essays and Letters, 491. 27. Эмерсонианцы идут дальше, делая сходную оговорку о способности церквей осуществлять власть над индивидами в духовных делах. 28. Whitman: Poetry and Prose, 475. 421 ^ 2 &@­ ]& £ & 1. James Baldwin, Collected Essays (New York: Library of America, 1998), 319, 315. 2. Замечание Эллисона содержится в: «A Very Stern Discipline», в изд.: Ralph Ellison, Going to the Territory (New York: Vintage, 1986), 294. Ларри Нил анализирует взгляды Эллисона в своем эссе «Ellison’s Zoot Suit», которое было перепечатано в: Speaking for You: The Vision of Ralph Ellison, ed. Kimberly W. Benston (Washington, D. C.: Howard University Press, 1990), 105–124. Приведенные здесь цитаты взяты со стр. 115, а комментарий к замечанию Эллисона — со стр. 114. 3. Going to the Territory, 21f. 4. Этот подход к таким противоречиям рекомендовал использовать Уильям Джеймс в: Pragmatism (Buffalo, Prometheus Books, 1991), 22–38. Более технический разбор подхода такого типа представлен в классической работе У. В. Куина о разъяснении как исключении: Word and Object (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960). 5. Baldwin, Collected Essays, 333. 6. Ibid. 7. Bernard Yack, The Problem of a Political Animal: Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), chaps. 1, 2. 8. Baldwin, Collected Essays, 308. 9. Ibid., 325. 10. Ibid., 17. 11. См. Bethel Eddy, The Rites of Identity: The Religious Naturalism and Cultural Criticism of Kennet Burke and Ralph Ellison (докт. дисс., Princeton, 1998). В главе 5 содержится превосходный анализ подхода Эллисона к «местным видам благочестия в американской идентичности». Глава 2 той же работы представляет нам интерпретацию предложенной Кеннетом Бёрком концепции благочестия, которая частично формирует фон, на котором становится понятным даваемая Эллисоном трактовка благочестия. Эдди показывает, что Эллисон отчасти принадлежит традиции культурной критики, которая восходит к Эмерсону и к которой принадлежат Сантаяна и Бёрк. Я здесь лишь прошелся по поверхности того аспекта работы Эллисона, который Эдди рассматривает глубоко. 422 §¤'&­ 12. Roland Bartes, Mythologies, trans. Annette Lavers (New York: Noonday Press, 1972), 16. Далее при цитатах — «М». 13. Выбор козлов отпущения и другие разнообразные формы жертвоприношений — основные темы Эллисона. См., напр., Shadow and Act (New York: Vintage Books, 1972), 124, и исследование линчевания в Going to the Territory, 177ff. Анализ взглядов Эллисона на жертвоприношения см. в: Eddy, «Rites of Identity», chap. 6. 14. Cornel West, Prophetic Thought in Premodern Times (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1993), 72. 15. Ellison, Going to the Territory, 53; курсив мой. 16. Ellison, Going to the Territory, 185. Эллисон сознает, что сходные мотивы имелись в случаях Эмерсона и Уитмена, авторов, о которых часто не упоминают, как сейчас происходит и с самим Эллисоном, поскольку считают их чрезмерно оптимистичными или чересчур невосприимчивыми к злу; см., напр., 311. 17. Ralph Ellison, Shadow and Act, 120; сходный аргумент против Амири Барака (в то время — Леруа Джонс) см. на стр. 252. 18. Ellison, Invisible Man (New York: Vintage, 1990), xviii. Ср. рассуждение Болдуина о джазе в «Down at the Cross»: «Во всем джазе, и особенно в блюзах, есть нечто едкое и ироничное, внушительное и двусмысленное. Белые американцы, по-видимому, считают, что радостные песни радостны, а грустные — грустны, и именно так, помоги нам Господь, поет их большинство белых американцев… И только люди “из ряда вон” знают, о чем эта музыка (Collected Essays, 311; курсив в оригинале). Я хочу сказать, что те читатели Болдуина и Эллисона, кто недоволен тем, что эти авторы не могут адекватно воспринять чувство гнева черных американцев и системное зло расизма, совершают ошибку, когда хотят, чтобы грустные негритянские песни были грустными. Оба писателя оказались “из ряда вон”. Эллисон считал, что Эмерсон и Уитмен вносили в свое творчество ту же лирическую чувственность, которая присутствует в блюзах, и слышал в счастливых песнях грусть. Он ценил эти песни и за то, что они также были “из ряда вон”». См. суждение о блюзах и теме преобладания комического у Эллисона в Eddy, «Rites of Identity», гл. 7: «Я считаю, что Эллисон остановился на блюзах отчасти из соображений благочестия, так как он знает свои корни и источники своего бытия, но также и потому, что верит: у блюзов, с их комической составляющей, больше возможностей сочетаться с абсурдными чертами [жизни]… чем у трагедии» (266). 423 19. Ellison, Invisible Man, xx, 581. На то, что я выделил упоминание о «низких частотах» в последней строчке романа, повлияли мои беседы с Элом Работо. 20. Kennet Burke, The Philosophy of Literary Form, 3rd ed. (Berkeley: University of California Press, 1973), 160; курсив в оригинале. 21. Ellison, Going to the Territory, 21. 22. См.: Cornel West, The American Evasion of Philosophy (Madison: University of Wisconsin Press, 1989), особ. 232ff. 23. Особенно обратите внимание на добавление к изд. Henry Louis Gates, Jr., Cornel West, The Future of the Rest (New York: Knopf, 1996) под названием «Black Strivings in a Twilight Civilization». Гораздо более многообещающая книга, которая к тому же согласуется с моей демократической интуицией: Roberto Mangabeira Unger, Cornel West, The Future of American Progressism (Boston: Beacon Press, 1999). Здесь авторы обращаются к тому, что они сами называют «американской религией возможности», и игнорируют крайности при рассмотрении достоинств и недостатков христианской пророческой риторики Уэста. Я считаю эту книгу лучшей из до сих пор опубликованных книг Уэста, но поскольку она создана двумя соавторами, трудно определить, насколько полно она выражает взгляд на перспективу на основании демократической надежды. Достоинством книги также является ее изящный стиль, своеобразие и образность представленных в ней практических соображений, открывающаяся возможность заменить раннюю риторику Уэста о революции и социализме демократической риторикой. 24. Я всерьез начал думать об Эллисоне при чтении первой книги Уэста Prophecy Deliverance! (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1982), где Эллисон фигурирует как нравственный герой. 25. Emerson, Man the Reformer, в изд.: Emerson: Essays and Letters, 145. Далее он добавляет: «Но я думаю, каждый из нас должен очиститься через вопрос, заработали ли мы наш сегодняшний хлеб своим чистосердечным вкладом нашей энергии в общее благо? И мы должны не отходить от склонности к исправлению этих вопиющих зол и каждый день правильно класть один камень» (курсив в оригинале). ^ 3 ^A&( ^¤&( §' <¤ § 1. John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993; изд. В обложке 1996). Далее при цитатах — «ПЛ». Подробный 424 §¤'&­ разбор общественного договора как системы принципов, «которые не могут быть разумно отвергнуты людьми, ищущими такие принципы для общего регулирования поведения, которые другие люди, движимые теми же стимулами, не могли бы отвергнуть на разумных основаниях» см.: Thomas M. Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 4 и далее. 2. Nicholas Wolterstorff, The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues в изд.: Religion in the Public Square: The Place of the Religious Convictions in Political Debate (New York: Rowman and Littlefield, 1997), 94; курсив в оригинале. 3. John Rawls, Collected Papers, ed. Samuel Freeman (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 573–617. Далее при цитатах — «СС». 4. Полезную критику читатель найдет в изд.: Kent Greenwalt, Religious Convictions and Political Choice (Oxford: Oxford University Press, 1988), Private Consciences and Public Reasons (Oxford: Oxford University Press, 1995), Wolterstorff, «The Role of Religion», 67–120. Наиболее глубокий и хорошо аргументированный анализ общего предмета см.: Christopher J. Eberle, Religious Conviction in Liberal Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). См. также: Ronald F. Thiemann, Religion in Public Life: A Dilemma for Democracy (Washington, D. C.: Georgetown University Press, 1996). 5. Вольтерсторфф кратко рассматривает отношения между убеждением и «разумностью» в толковании Ролза в статье «The Role of Religion», 91. 6. Wolterstorff, The Role of Religion, 105; курсив в оригинале. 7. Вольстерсторфф рассматривает данный вопрос об отношениях между уважением и особенностями в статье «The Role of Religion», 110f. 8. Отметим, что этого недостаточно даже в переработанной позиции Ролза. 9. Замечания, проливающие свет на важность обращения к «конкретному» другому читатель найдет в: Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), особ. гл. 5.В главе 7 я проанализирую данную тему в работе Бенхабиб. А в главе 12 я проясню содержание диалогической модели, обратившись к проводимому Брандомом различению между концепциями социальности «Я — мы» и «Я — ты». 10. Wolterstorff, The Role of Religion, 109. 11. Я не обращаюсь к отличиям в вопросах, относящимся к роли судьи, присяжных, адвоката или государственного служащего. 425 12. Я рассмотрю аргументы Хауэрваса и приведу соответствующие ссылки на его работы в главах 6 и 7. 13. Можно также разумно указать на то, что ныне кажущаяся довольно причудливой теория попросту чересчур сложна, чтобы служить для достижения предполагаемой общественной цели в качестве руководства к действию. Если бы массы восприняли эти усложнения, нам всем потребовалась бы указующая инструкция от сторонников Ролза. 14. Здесь понятие «публичный» следует понимать в обычном смысле. Хауэрвас выступал не в предвыборной кампании и не на заседании комитета Конгресса. Так что Ролз мог бы сказать, что в данном случае речь идет не о «публичном форуме», и потому его сомнения неприменимы. Но почему это должно иметь какое-то значение? Предположим, другой христианский пацифист выступил в ходе избирательной кампании в поддержку кандидата, представляющего партию «зеленых». Если учесть все обстоятельства, не было бы правильно, если бы его аргументы получили огласку и приобрели публичный характер. Как мы можем знать заранее, что они не окажутся убедительными? Предположим, выступающий возражает против того, чтобы его аргументы относительно святости человеческой жизни. Можем ли мы упрекать его в несоблюдении условия? 15. Эта фраза служит заголовком главы 4 в изд.: Stanley Hauerwas, Dispatches from the Front: Theological Engagements with the Secular (Durham: Duke University Press, 1994), где Хауэрвас изображает Вальтера Раушенбуша и Рейнхолда Нибура соучастниками в деле «исключения любых религиозных убеждений из демократической политики, поскольку они “не смиренны”» (104). Хауэрвас спрашивает: «Означает ли это, что я не поддерживаю “демократию”? Приходится признать, что я не имею ни малейшего понятия, так как я не знаю, что значит назвать общество “демократическим”. В самом деле, один из непонятных аспектов такого вопроса — это предпосылка: имеет большое значение, как на него отвечают» (105). 16. John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, ed. Barbara Herman (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), 329–371. 17. В следующих абзацах я буду опираться на работу: Robert Brandom, Freedom and Constraint by Norms в изд.: Hermeneutics and Praxis, ed. Robert Hollinger (South Bend: University of Notre Dame Press, 1985), 173–191. Об искусстве и спорте Брандом говорит на стр. 187. 426 §¤'&­ 18. Robert Brandom, Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism: Negotiation and Administration in Hegel’s Account of the Structure and Content of Conceptual Norms, European Journal of Philosophy 7, no. 2 (1999), 164–189; курсив в оригинале. 19. Brandom, Some Pragmatist Themes, 179. 20. Ibid., 166; курсив в оригинале. 21. Эти экспрессивистские соображения объясняют, почему Вольтерсторфф прав, когда говорит, что мы не нуждаемся в политическом основании типа того, которого требует Ролз: «Мы стремимся к соглашению в наших дискуссиях. Но мы, по большей части, не стремимся прийти к соглашению относительно политического основания. Наше соглашение по поводу той или иной политики не обязано основывается на некоей системе принципов, с которыми были бы согласны все нынешние и будущие граждане и которые были бы достаточно богаты, чтобы разрешить все важные политические вопросы. Будет достаточно, если каждый гражданин на своих собственных основаниях согласится с данной политикой на сегодня и завтра — не навсегда. Не нужно даже, чтобы абсолютно все граждане были согласны на проведение этой политики. Достаточно, чтобы это соглашение было честно достигнуто и честно исполнялось большинством («The Role of Religion», 114; курсив в оригинале). 22. Brandom, Freedom and Constraint, 189. 23. Ср.: Wolterstorff, The Role of Religion, 112f. 24. Richard Rorty, Religion as a Conversation-stopper, Philosophy and Social Hope (London: Penguin Books, 1999), 168–174. Далее при цитатах — «РТД». 25. Robert B. Brandom, Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), 228; Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), 105; далее при цитатах — «ФР». 26. Greenwalt, Religious Convictions, chaps. 6–9. 27. Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 73. 28. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton University Press, 1979). 29. Джоанна Гот сделала сходный вывод в своей дипломной работе на философском факультете Принстонского университета (весенний семестр 2000 г.). 427 ^ 4 <­A@­ &^& 1. Частная переписка цитируется с разрешения Джона Боулина. 2. Из введения к работе: Radical Orthodoxy, ed. John Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward (London: Routledge, 1999), 1, 14, 3; далее при цитатах — «РО». См. также: John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason (Oxford: Blackwell, 1990); далее при цитатах — «ТСТ». 3. Richard John Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America, 2nd ed. (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1995), 28, 80, 82; курсив снят. 4. Christopher Hill, The English Bible and the Seventeenth-Century Revolution (London: Penguin Books, 1994), 413. Далее при цитатах — «АБ». 5. См. АБ, 407–409, 420. 6. См.: Stout, Ethics after Babel, дополненное изд. (Princeton: Princeton University Press, 2001), chap. 3. 7. В этом контексте термин «либеральный» не означает, что данное общество привержено некоей версии «либерализма»; это философский взгляд. 8. Я думаю, что опасно вводить религию в философский дискурс в странах, где господствует жесткая религиозная нетерпимость, но Соединенные Штаты с некоторых пор к числу таких стран не относятся. 9. Виктор Андерсон открывает свою книгу Pragmatic Theology (Albany: State University of New York Press, 1998) с приписывания мне утверждения, что теология устарела, стала жертвой секуляризации, и защищать ее — безнадежное дело. Эпиграфом к главе 1 он поставил фрагмент из Ethics after Babe, 165, чем как бы подверстывает меня к этому утверждению. Но Андерсон выпускает два ключевых предложения из этого абзаца, в которых я ясно даю понять, что «язык, употребляемый на публичной сцене, совместим с верой в Бога». Таким образом, он нападает не на мою позицию. В книге Wilderness Wandering: Probing Twentieth-Century Theology and Philosophy (Boulder, Colorado: Westview Press, 1997) Стэнли Хауэрвас возмущается тем, что, согласно Ethics after Babel, «не может быть представлено веских оснований в мире “нашего” типа для приверженности [религиозной] вере (108). Но я открыто отвергаю этот взгляд на стр. 187 этой книги. Когда-то я негативно высказывался относительно рациональности современной религиозной веры, но в Ethics after Babel отказался и от аргумен428 §¤'&­ тации, и от вывода. В прежней аргументации автора имеется два важных пробела. Во-первых, в ней современность ложно помещается в более или менее однородный мегаконтекст, в котором следует эпистемически оценивать каждого современного гражданина. Таким образом игнорируется множество факторов из числа тех, что обычно упоминаются в духовных автобиографиях и рассказах об обращении, которые отделяют эпистемический контекст одного индивида от другого, даже в рамках одной эпохи. Религиозные различия не нужно объяснять тем, что одна группа оправдана на основании того, что ее члены верят в то, во что они верят, а другие не верят. Это имеет отношение ко второй слабости старой аргументации. Моя прежняя работа предполагала невероятно жесткий стандарт оправдания, который на деле является подтасовкой против возможности того, что современный индивид может быть эпистемически ответственным в своих религиозных убеждениях. 10. William T. Cavenaugh, The City: Beyond Secular Parodies, в изд.: Milbank, Pickstock, Ward, Radical Orthodoxy, 182–200; я привожу цитату со стр. 190. 11. Духовное опровержение стандартной формы см.: Mary Douglas, The Effects of Modernization on Religious Change, в изд.: Religion and America: Spirituality in a Secular Age, ed. Mary Douglas, Steven M. Tipton (Boston: Beacon Press, 1982), 25–43. 12. Этой формулировкой я обязан Джону Боулину. 13. См. в особенности: R. A. Markus, Saeculum History and Society in the Theology of St. Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 1970). Милбэнк защищает свою позицию от атак Маркуса в книге Theology and Social Theory, гл. 12. Прекрасный пример в статье: John R. Bowlin, «Augustine on Justifying Coercion», The Annual of the Society of Christian Ethics 17 (1997): 49–70, а также статья Джеймса Ветцеля о Милбэнке и Августине, которая готовится к печати в изд.: Journal of Religious Ethics. 14. Я многое узнал о Рёскине и об ограниченности интерпретации его взглядов, представленную Милбэнком, от Дэвида Крейга. 15. George Hunsinger, Disruptive Grace: Studies in the Theology of Karl Barth (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 74–75. 16. Hunsinger, Disruptive Grace, 80. 17. Я привожу цитату непосредственно из: Karl Barth, Church Dogmatics, I/1, trans. G. T. Thomason (Edinburgh: T & T. Clark, 1936), 60; далее при цитатах — «I/1». Хансинджер цитирует эту строчку в: Disruptive Grace, 80. 429 18. George Hunsinger, How to Read Karl Barth: The Shape of His Theology (Oxford: Oxford University Press, 1991), 234 — 280. Karl Barth, Church Dogmatics, IV/3, trans. G. W. Bromiley (Edinburgh: T. & N. Clark, 1961), 3–165. Далее при цитатах — «IV/3». 19. Hunsinger, How to Read Karl Barth, 279. 20. Вспомним, что я применяю термины «экспрессивный» и «экспрессивистский» не в том смысле, какой им придают теологи. Как я пояснил в примечании 11 к Введению этой книги, не приводит меня к противоречию с тем, что Джордж Линдбек называет «культурно-лингвистическим» подходом. 21. Cass R. Sunstein, Republic.com (Princeton: Princeton University Press, 2001). 22. Одна из связей между малой группой и ритуалами этого рода прослежена в изд.: Mary Douglas, Natural Symbols: Exploration in Cosmology, 2nd ed. (London: Routledge, 1996), гл. 7. 23. Ностальгическая нотка бросается в глаза в первом абзаце первой главы работы: Milbank, Theology and Social History: «Когда-то не было “светского”. И светское не скрывалось, ожидая шанса занять большее место с приходом потока “чисто человеческого”, когда уходит давление священного. Нет, тогда было единое сообщество под названием Христианский мир, имевший два аспекта: sacerdotium (священство) и regnum (царство). Saeculum (век, поколение) в средневековую эру было не пространством, областью, а временем» (ТСТ, 9). Утопический мотив особенно явственно звучит в работе: Cavenaugh, The City: Beyond Secular Parodies, 182, 184–198. 24. См.: John Milbank, Postmodern Critical Augustinianism: A Short Summa in Forty-two Responses to Unasked Questions, в изд.: The Postmodern God: A Theological Reader, ed. Graham Ward (Oxford: Blackwell, 1997), 269. 25. См.: William Werpehowski, Ad Hoc Apologetics, The Journal of Religion 66, no. 3 (июль 1986): 282–301. 26. Barth, Church Dogmatics I/1, 61. 27. Hunsinger, Disruptive Grace, 86–87. ^ 5 &() @&A¤ 1. Милбэнк, которого в предыдущей главе я представил как выдающегося проповедника радикальной ортодоксии, называет главу 11 ТСТ «безрассудной попыткой радикализовать мысли Макинтайра» (327). 430 §¤'&­ 2. After Virtue, 2nd ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984), 253, 255. Далее при цитатах — «ПД». Нойхаус обращается к строке о современной политике как форме гражданской войны ни много ни мало как четыре раза в The Naked Public Square, 21, 99, 111, 163. 3. Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics (New York: Macmillan, 1966). Далее при цитатах — «КИЭ». 4. Marxism and Christianity (New York: Schocken, 1968). 5. Я намекаю, разумеется, на другую книгу Макинтайра того периода — Against the Self-Images of the Age (Notre Dame: University of Notre Dame Press, переизд. 1978). 6. Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic (New York: Viking, 1970), 70. Далее при цитатах — «ГМ». 7. В оставшейся части этого абзаца я опираюсь на рассуждение Дэвида Бромвича о возвышенном в изд.: Hazlitt: The Mind of a Critic (New York: Oxford University Press, 1983), 191. 8. William Hazlitt, The Complete Works of William Hazlitt, ed. P. P. Howe (London: J. M. Dent, 1930–1934), vol. 4, 124–125. 9. Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1988. Далее при цитатах — «ЧС». 10. Мою более раннюю критику повествования читатель найдет в изд.: Stout, Ethics after Babel, дополненное изд. (Princeton: Princeton University Press, 2001), chaps. 9–10, и в: «Virtue among the Ruins», Neue Zeitschrift fur systematische Theologie und Religionsphilosophie 26, no. 3 (1984): 256–273. 11. В обозрении Джорджа Форрела History of Christian Ethics, vol. 1, Ethics 91, no. 2 (1981): 328–329. 12. Stout, Virtue among the Ruins, 267–268. 13. Я не собираюсь выражать полного согласия с предложенным Макинтайром переосмыслением Аквината. К примеру, я считаю, что на Макинтайра излишнее впечатление произвел ригористический идеал правдивости у Аквината. А происходит это излишнее впечатление из-за того, что Макинтайр недостаточно внимания уделил различиям между подходом Аквината к этому предмету, где доминирует влияние «естественного права», и его подходом к таким предметам, как насилие, где он ближе к Аристотелю. Чтобы верно писать эти различия, Макинтайру следовало бы предложить читателю более детальное описание концепции практической аргументации у Аквината, в особенности его понимания нравственных видов действия, а затем задаться вопросом, следовал ли Аквинат этой концепции, когда говорил 431 о правдивости и сексуальности. Первым обратил мое внимание на эти различия Виктор Преллер. 14. Эта трудность искажает его отношение ко всему английскому, и в особенности к шотландским и ирландским мыслителям, таким как Дэвид Юм и Эдмунд Бёрк, которые в достаточной степени примыкали к английским методам мышления, чтобы считать их своими и поднять их к новым высотам. Обратимся, например, к длинной цитате из Роя Портера, которой Макинтайр пользуется, чтобы дискредитировать английский общественный порядок (ЧС, 215), и спросим себя, не открывает ли она редкий дар сочувствия. Или перечитаем уже цитированные мной замечания об «эпохе жестоких и упорных конфликтов» и спросим, справедливо ли воспринимаются взгляды Юма на религиозный фанатизм и энтузиазм (ЧС, гл. 15–16). 15. Alasdair MacIntyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, and Tradition (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1990). Я более подробно рассмотрю эту книгу в послесловии к Принстонскому изданию Ethics after Babel. 16. Последняя книга Макинтайра Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (Chicago: Open Court, 1999), к нашей радости, свободна от обычной для этого автора риторики о либерализме и либеральном обществе. Но кончается она противопоставлением Аристотеля и Ницше, в котором автор вторит сопоставлению, впервые проведенному им в главе 9 ПД. А его критика «социальной и политической философии последнего времени» и «современного государства» (130–131) показывает, что по этим пунктам он не изменил своих мнений. 17. E.P. Thompson, The Making of the English Working Class (New York: Vintage, 1966), 746–761. 18. Christopher Lasch, The True and Only Heaven (New York: Norton, 1991), 181–184. 19. William Cobbett, A History of the Protestant Reformation in England and Ireland (London: C. Clement, 1824). 20. William Cobbett, Rural Rides (London: Dent, 1913; впервые опубл. в 1830). 21. William Cobbett, Thirteen Sermons (New York: John Doyle, 1834). 22. Wendell Berry, The Unsettling of America: Culture and Agriculture (San Francisco: Sierra Club, 1986), The Hidden Wound (San Francisco: North Point, 1989). 23. Susan Moller Okin, Justice, Gender, and the Family (New York: Basic Books, 1989), 60–61; курсив в оригинале. 432 §¤'&­ 24. В этом пункте Макинтайр откровенно исходит из потребности в том, что Брандом называет «я—мы»-моделью дискурсивной рациональности. В этой модели «мы» означает традиционный консенсус по вопросу о благе. Я поговорю о предлагаемой Брандомом альтернативе моделям такого рода ниже, в заключительном разделе главы 12. 25. ЧС, 8, 217–218, 353. В представлении Макинтайра Бёрк, в сущности, продал своих соотечественников в Ирландии, когда стал сторонником английского имперского правления. В политическом и социальном смысле он воплощает то, чем Макинтайр всегда стремился не быть. Но чтобы Бёрк сыграл роль в рассказанной здесь истории, Макинтайру приходится избегать обращения к его текстам, посвященным ирландскому вопросу, желательности умиротворения американских колоний и злоупотреблениям Уоррена Гастингса. Прежде чем мы чересчур поспешно и безоговорочно откажемся от Бёрка, стоит вспомнить, что писал о нем радикальный критик Уильям Хэзлитт в 1807 году: «Для меня всегда было проверкой на здравый смысл и незапятнанность всякого, кто принадлежит к соперничающей партии, позволяет ли он Бёрку быть великим человеком». 26. Richard Bernstein, Philosophical Profiles (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986), 138, 140. ^ 6 &() @&A¤ 1. Stanley Hauerwas, A Better Hope: Resources for a Church Confronting Capitalism, Democracy, and Postmodernity (Grand Rapids: Brazos Press, 2000), 10. Далее при цитатах — «ЛН». 2. Перфекционизм Хауэрваса сходен с эмерсонианским перфекционизмом тем, что оба направления берут свое начало в реакции на аскетические формы протестантизма, где оправдание превосходит очищение. Эти две формы перфекционизма предлагают в немалой степени сходные средства: придание особой значимости совершенству, добродетели, самосовершенствованию, образцам и духовным руководствам в этической жизни, а также концепции очищения, согласно которой втягиваются в некое божественное изобилие. Но эти параллели не простое совпадение. Эмерсон и его последователи сознательно радикализовали концепцию очищения и ориентированную на добродетель форму протестантизма, которым дали жизнь Уэсли и другие мысли433 тели. Исторически эти формы перфекционизма представляют две стадии развития религиозного романтизма. Конечно, эмерсонианская стадия проходит вне области христианства. 3. Диссертация увидела свет в переработанном виде под названием: Character and the Christian Life: A Study in Theological Ethics (San Antonio: Trinity University Press, 1975). Глава 2 посвящена Аквинату и Аристотелю. В главе 5 разъясняется доктрина очищения. 4. Личная беседа. 5. Помимо опубликованной диссертации, см. два значительных собрания эссе: Stanley Hauerwas, Vision and Virtue: Essays in Christian and Ethical Reflection (Notre Dame: Fides, 1974) и Truthfulness and Tragedy: Further Investigation into Christian Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1977). Далее при цитатах соответственно — «ВД» и «ИТ». 6. Edmund Pincoffs, Quandary Ethics в изд.: Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy, ed. Stanley Hauerwas, Alasdair MacIntyre (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983), 92–112. Приводится цитата со стр. 104. 7. Я не стану оспаривать предлагаемую Хауэрвасом интерпретацию Йодера. Но Скотт Дэвис убедил меня, что позиция Йодера в отношении справедливости, возможно, тоньше, чем полагает Хауэрвас. См.: John Howard Yoder, The Original Revolution (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1972), 76–84. Говоря о Йодере в оставшейся части этой главы, я буду иметь в виду Йодера в понимании Хауэрваса. 8. Stanley Hauerwas, A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981) и The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983). Далее при цитатах соответственно — «СХ» и «МЦ». 9. См.: Stanley Hauerwas, Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society (Minneapolis: Winston Press, 1985) и Dispatches from the Front: Theological Engagements with the Secular (Durham: Duke University Press, 1994), особ. гл. 4б «The Democratic Policing of Christianity». 10. Stanley Hauerwas, Christian Existence Today: Essays on Church, World and Living In Between (Durham: Labyrinth Press, 1988), 3–21. Далее при цитатах — «ХСС». 11. Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1966), 216. 12. См.: Stanley Hauerwas, After Christendom? How the Church Is to Behave If Freedom, Justice, and a Christian Nation Are Bad Ideas (Nashville: Abingdon Press, 1991), 45. Далее при цитатах — «ПХ». 434 §¤'&­ 13. Пример книги, где подробно представлены эти соображения: Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace (Grand Rapids: Eerdmans, 1983). Жаль, что Хауэрвас предпочитает так часто уделять внимание Ролзу, а не Вольтерсторффу, чьи кальвинистские воззрения теологически консервативны, но политически радикальны, составляют более интересную альтернативу. В книге A Better Hope (26–27) он кратко касается позиций Вольтерсторффа, но только ради того, чтобы позаимствовать у него критические возражения Ролзу. Однако см. также: Nicholas Wolterstorff, Christianity and Social Justice, Christian Scholars Review 16, no. 3 (март 1987): 211–228; Stanley Hauerwas, On the Right to be Tribal, Christian Scholars Review 16, no. 3 (март 1987), 238–241; Nicholas Wolterstorff, Response to Nash, McInerny, and Hauerwas, Christian Scholars Review 16, no. 3 (март 1987), 242–248. В ходе этого обмена мнениями Хауэрвас критикует Вольтерсторффа за то, что тот прибегает к языку права, когда говорит о политике Южно-Африканской Республики, но мне ответ Вольтерсторффа Хауэрвасу представляется убедительным. Насколько мне известно, впоследствии Хауэрвас не отвечал. Ответ на предлагаемую Хауэрвасом критику языка права см. ниже, главу 9. 14. Gloria Albrecht, The Character of Our Communities: Toward an Ethics of Liberation for the Church (Nashville: Abingdon, 1995). 15. Хауэрвасова критика теологии представляет собой отзвук концепции «абсолютной свободы», изложенной Гегелем в главе 6 «Феноменологии духа», где философ доказывает, что идеалы Французской революции, доведенные до логического завершения, неизбежно привели к террору. Кажется, что Хауэрвас не знает, что здесь, как и в критике формалистской этики, он перепевает идеи и аргументы из «Феноменологии». Как и в случае с Макинтайром, Хауэрвас не может признать свой долг перед традицией современной мысли — традицией, включающей в себя феминизм и экспрессивистский прагматизм, которые я защищаю так же, как и новый традиционализм в версии Хауэрваса. Представляя свою аргументацию так, как будто у нее нет истории, Хауэрвас получает возможность усилить впечатление, что современная мысль обанкротилась. 16. См., напр., следующий фрагмент из кн.: Virginia Woolf, Three Guineas (San Diego, New York, London: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1938), 33: «Конечно... вы должны очень хорошо поразмыслить, прежде чем начнете определять для вашего колледжа: что есть цель обучения, какой род общества, какой человеческий тип 435 должно создавать. В любом случае я только пошлю вам гинею на восстановление вашего колледжа, если вы уверите меня, что вы используете ее на производство того типа общества, того типа людей, который поможет предотвратить войну». Если бы представления Хауэрваса и Макинтайра о современном этическом дискурсе были верны, было бы очень трудно объяснить существование этого абзаца и бесконечного числа других, подобных, созданных крупными демократическими мыслителями. 17. George Hunsinger, Disruptive Grace: Studies in the Theology of Karl Barth (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 84. 18. Stanley Hauerwas, With the Grain of the Universe: The Church’s Witness and Natural Theology (Grand Rapids: Brazos Press, 1001), особ. 145, 191–204. 19. Stanley Hauerwas, In Good Company: The Church as Polis (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995), 12f. Далее при цитатах — «ВХО». 20. Трудно представить себе, чтобы при данных обстоятельствах испытывал что-либо, кроме радости и торжества. 21. На эту параллель указал в переписке Скотт Дэвис. 22. См., в частности: Stanley Hauerwas, Virtue, Description, and Friendship: A Thought Experiment in Catholic Moral Theology, Irish Theological Quaterly (1998): 170–184. Я благодарю Джина Роджерса за предоставленную ссылку и за критическое рассмотрение предварительного плана аргументации, представленной в этой главе. 23. Как указывает в своей проницательной диссертации Оливер О’Донован, Хауэрвас отвечал на редакционную статью, напечатанную в декабрьском номере 2001 года, где утверждалось: «Те, кто в принципе против использования военной силы, не имеют легитимного голоса в дискуссии о том, как должна использоваться военная сила». Он заключает, что был «принужден к молчанию» после 11 сентября, и спрашивает вслух, пришел ли конец его дружбе с Нойхаусом и другими членами редакции. 24. В ходе острой дискуссии на страницах февральского номера 2002 г. журнала First Things Хауэрвас отвечает на редакционную статью декабрьского номера 2001 г., в которой говорилось: «Принципиальные противники использования военной силы не имеют законного права участвовать в дискуссии на тему о том, как военную силу следует применять». Хауэрвас приходит к выводу, что он «вынужденно молчит» после 11 сентября, и открыто спрашивает, пришла ли к концу его дружба с Нойхаусом и другими издателями журнала. 436 §¤'&­ 25. По вопросу о разводе см.: МЦ, 132. Хауэрвас предполагает, что, возможно, «запрет на новые браки... более строг, чем это было бы нужно для поддержания приверженности христиан соблюдению супружеской верности». Хауэрвас вкратце напоминает о словах, сказанных Иисусом богатому, в проповеди под названием «Жить в бесчестном богатстве», которая включена в его книгу Sanctify Them in the Truth: Holiness Exemplified (Nashville: Abingdon Press, 1998), 249–252. Это поучение он считает жестким предписанием, но не выводит из него каких-либо дорогостоящих заключений. Он говорит: «Щедро раздавать богатство — это добро. Но наша щедрость нас не спасет» (251). Первое предложение не означает, что христиане обязаны отдать свое богатство бедным. А второе отвлекает внимание слушателей от этического вопроса и направляет его на доктрину оправдания верой. Проблему пацифизма Хауэрвас трактует не так. Проповедь заканчивается успокоительной мыслью: «Наше спасение в том, что Бог дал нам друг друга, и в этом даре мы открываем, что мы более не рабы, а друзья друг другу и Богу, а может быть, друзья даже тем, кто страдает из-за того, что мы богаты. И это воистину кажется “хорошей новостью”. Аминь» (252). См. также: Stanley M. Hauerwas, William H. Willimon, The Truth about God: The Ten Commandments in Christian Life (Nashville: Abingdon, 1999), 115. 26. Кроме того, остается немало вопросов, относящихся к библейским основаниям пацифизма Хауэрваса. Сказано, что путь борьбы Бога со злом определенно открывается в Страстную пятницу. Тогда христиане призываются к ненасильственному противостоянию злу. Кто же тогда санкционировал убийство хеттеев, аморреев, хананеев, ферезеев и иевусеев (Втор. 20, 17). Кто сказал, что проклятые будут преданы огню в Судный День (Мат. 25, Откр. 20)? Кто говорит, что «не мир принес вам, но меч» (Мат. 10:34)? См. МЦ, 163 прим. 11, где Хауэрвас подчеркивает, что Яхве, каким его изображает нам Ветхий Завет, сражается не силой воинства своего народа, а посредством чудес. Здесь он, по-видимому, признает, что иногда Бог противостоит злу насильственными средствами. Он хочет доказать только, что народу Божию это не позволено. Но такая формулировка его позиции плохо сочетается с содержащимся в основном тексте утверждением, будто «самая суть следования путем царства Божия требует от нас уподобиться Богу» (МЦ, 75). Так что же, проповедует Бог ненасилие или нет? А если да, почему тогда Библия постоянно изображает, как он прибегает к насилию, чтобы отделить избранный народ или подданных 437 царства от проклятых? Вероятно, Хауэрвас чувствует, что Йодер радикально рассмотрел эти вопросы, но я, например, никогда не находил йодеровскую трактовку Библии убедительной. 27. Пример антимилитаристской политической теологии, которая не пренебрегает борьбой за демократическую справедливость и при этом не отвлекается на полемику против либерализма, читатель найдет в: Hunsinger, Disruptive Grace, часть первая. Предлагаю читателям сравнить критику Нойхауса, проводимую Хансинджером в главах 2 и 3, с возражениями Хауэрваса против Нойхауса в: Against the Nation: War and Survival in a Liberal Society (Minneapolis: Winston Press, 1985), гл. 7. Мне кажется, это сравнение позволит четко высветить слабые места риторики Хауэрваса. 28. В этом и следующем абзацах я использую цитированные выражения, равно как и прибегаю к собственной аргументационной стратегии, использованной в статье «Virtue and the Way of the World» в изд.: G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, trans. A.V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), 228–235; курсив в оригинале. Гегель критиковал позицию (конкретно — позицию Шефтсбери), имеющую сходство с новым традиционализмом только в некоторых аспектах. Важнейшее сходство обеих позиций состоит в том, что обе они пытаются возродить античную концепцию добродетели в современных условиях. См.: Terry Pincard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 105–111. ^ 7 ¤ §¤¤ <&) 1. Роберт Музиль. Человек без свойств. — М.: Художественная литература, 1984. — Книга первая. С. 295. — Пер. С. Апта. Далее при цитатах — «ЧБС». 2. Peter Brown, The Saint as Exemplar in Late Antiquity, в изд.: Saints and Virtues, ed. John Stratton Hawley (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987), 3–14; я привожу цитату со стр. 4. 3. Stanley M. Hauerwas, William H. Willimon, Resident Aliens: Life in the Christian Colony (Nashville: Abingdon, 1989), 98–103. 4. Всем этим абзацем, а этим местом в особенности, я обязан книге: Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 268–271. 5. Stanley Houerwas, Dispatches from the Front: Theological Engagements with the Secular (Durham: Duke University Press, 1994), 31–57. 438 §¤'&­ 6. John D. Lyons, Exemplum: The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy (Princeton: Princeton University Press, 1989), xi. 7. Мои разъяснения на тему «примера чего-то» и «примера для» основываются, вообще говоря, на инференциалистской теории языка Брандома, но сам Брандом не обращается к этим понятиям. Он утверждает: «В практическом случае нет ничего, что соответствовало бы авторитету свидетельства» (Make It Explicit, 239). Похоже, это не так. Авторитет свидетельства в теоретической аргументации имеет параллель в сфере аргументации практической, а именно — авторитет человека есть пример для того, кто за ним следует, и этот авторитет часто приобретается тогда, когда жизнь этого человека становится примером определенных добродетелей. 8. Попытка раскрыть такого рода осложнения в Евангелии от Марка содержится в изд.: Frank Kermode, The Genesis of Secrecy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992). 9. Milan Kundera, The Art of the Novel, trans. Linda Asher (New York: Harper and Row, 198), 18. 10. Ralph Waldo Emerson, Emerson: Essays and Letters, ed. Joel Porte (New York: Library of America, 1983), 259. См.: David Bromwich, A Choice of Inheritance: Self and Community from Edmund Burke to Robert Frost (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992), 22–23. 11. Р. Эмерсон. Эссе. Г. Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. — М.: Художественная литература, 1986. — С. 133. — Пер. А. Зверева. 12. Там же. С. 138. — Пер. А. Зверева. 13. Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), 1. Далее при цитатах — «РЛ». 14. Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundation of Critical Theory (New York: Columbia University Press, 1986). 15. Трансцендентальные аргументы Хабермаса и Карла-Отто Апеля анализируются в изд.: Cheryl Misak, Truth, Politics, Morality: Pragmatism and Deliberation (London: Routledge, 2000), 35–47. 16. Она также не встраивается, в отличие, по-видимому, от аргументации Бенхабиб, в так называемую философию сознания, разоблачению которой Бенхабиб уделяет немало времени. ^ 8 ¤<' < &¤( £§O A¤ 1. Я буду говорить о Брандоме и Ловибонд, у которых я многому научился, но мой долг перед ними, а также другими современ439 ными прагматиками слишком велик, чтобы я мог в полной мере отразить его в примечаниях. Robert Brandom, Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994) и Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000). Я буду обращаться к этим книгам на протяжении третьей части, обозначая их соответственно как «MIE» и «AR». Sabina Lovibond, Realism and Imagination in Ethics (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983) и Ethical Formation (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002). Cheryl Misak, Truth, Politics, Morality: Pragmatism and Deliberation (London: Routledge, 2000). Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989). Rebecca S. Chopp, The Power to Speak: Feminism, Language, God (New York: Crossroad, 1989). Cornel West, The American Evasion of Philosophy (Madison: University of Wisconsin Press, 1989). 2. См.: Bernard Williams, Moral Luck (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 125ff., 130. 3. Среди мыслителей, которых я имею в виду: Avishai Margalit, The Decent Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996); Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge: Cambridge University Press, 1989); Judith N. Shklar, Ordinary Vices (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984). 4. MIE, 235–249. Будущее время используется во всех приведенных примерах (в стиле Уилфрида Селлерса), «чтобы выразить значение вывода как признания практического убеждения» (MIE, 245). 5. «Последователь Юма не согласен, что обязательство или убеждение само по себе может стать основанием для действия, если оно не сопровождается большим или меньшим желанием исполнить его. А последователь Канта не согласен, что желание само по себе (sinnliche Neigung) может стать основанием для действия, если оно не сопровождается признанием соответствующего обязательства или убеждения» (AR, 92). 6. Согласно моральной теологии томизма, правильная позиция, которую следовало бы занять такому священнику, — это не признание вины или раскаяние, слабое волеизъявление, сожаление и грусть. Такое волеизъявление можно определить как условный волевой акт. Томизм учит, что воля священника должна состоять в том, что если бы он не был стеснен безусловным требованием ответственности, он представил бы информацию. Он может быть также огорчен тем, что находится в такой ситуации. 440 §¤'&­ Но оснований для чувства вины нет, так как он не сделал ничего неправильного. В понимании томизма мысль о том, что он поступил неправильно, была бы обусловленным гордыней неверным истолкованием его ответственности, поскольку в ней содержалось бы признание того, что он, а не Бог, ответствен за то, чтобы последствия оказались бы наилучшими. 7. См.: Michael Walzer, Just and Unjust Wars, 3rd ed. (New York: Basic Books, 2000). См. также другое значительное эссе Вальцераб «Political Action: Thed Problem of Dirty Hands», Philosophy and Public Affairs 2, no. 2 (1973): 160 — 180. 8. Краткое изложение этого рассуждения можно найти в изд.: Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 175. Подробный комментарий см. в изд.: Terry Pincard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Camridge: Cambridge University Press, 1996), chap. 5. 9. Этот тип дискурсивной ответственности является одним из центральных предметов Брандома в MIE, часть 1. 10. Главы 2–4 MIE укрепляют этот вывод, представляя детальный рассказ о том, каким образом семантическое содержание норм зависит от фона (когнитивного и практического) материальных инференциальных убеждений. Если не принимать — пока что — фон таких убеждений как данность, нормативный язык, используемый критиком того или иного аспекта воспринятой традиции, не будет иметь смысла. Прав ли был Гегель, когда упрекал Канта в ошибке, содержавшейся в данной аргументации, — это другой вопрос. 11. Richard Rorty, Justice as a Larger Loyalty, в изд.: Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation, ed. Pheng Cheah, Bruce Robbins (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998), 52. 12. Я не стану пытаться дать полное разъяснение, что значит здесь слово «демократично», но несколько слов сказать все-таки нужно. Главным образом имеется в виду то, что иногда называют требованием равноправия голосов в современных представительных демократиях. Это предполагает нарастающее устранение определенных ограничений, накладываемых на участников обмена (например, классовых, половых, расовых, религиозных и идеологических) и ослабление феодальных и церковных ожиданий относительно того, кто кому обязан подчиняться в процессе обмена. Касаясь проблемы «грязных рук» в «Государе», Макиавелли дает советы не руководителям современного типа, а государям. Проблема приобрела другое социальное значение 441 в условиях, когда в 1855 году Уитмен переформулировал ее в предисловии к «Листьям травы»: президент снимает шляпу перед гражданами, «а не они перед ним». 13. Подобным же образом мой язык обладает выразительными ресурсами, которые позволяют мне поразмышлять о том, что бы произошло, если бы климатические условия были другими несколько геологических эр назад и носителям языка никогда не довелось бы ходить по земле. Когда я говорю, что скалы и лава существовали задолго до того, как появились люди, я говорю о далеком прошлом, когда не было людей (а потому и понятий, которыми пользуются только они). Но говоря о допонятийной эпохе, я все-таки прибегаю к моим понятиям о «скалах», «лаве» и «людях». И здесь нет парадокса. И по той же причине я могу пользоваться своими моральными понятиями, говоря, что те, кто ими не обладал, не должны были пытать своих жертв. 14. Утверждения о том, что кто-то должен или чего не должен делать, с большой вероятностью приобретают двусмысленный характер, то есть бывает трудно сказать, относятся ли к наложениям обязательств того типа, о котором я говорю, или же к тому, что Гилберт Харман называет «внутренними суждениями». Анализ взглядов Хармана и цитаты из его работ можно найти в моей работе Ethics after Babel, дополненное издание (Princeton: Princeton University Press, 2001), 87–90. Если все выражения долженствования содержат внутренние суждения по Харману, то то, что я называю необусловленными обязательствами, нужно преобразовать в суждения о том, как должно обстоять дело. Например: «Не должно быть так, чтобы монах пытал еретика». Согласно взгляду Хармана, отсюда не следует, что аргумент в защиту недопустимости пыток есть причина для монаха его принять. 15. MIE, 193–198, 259–262, 270, 596–597. 16. Понятие абсолютно приоритетного обязательства можно объяснить в рамках технического языка Хармана следующим образом. «Из согласия с представлением о практическом выводе как сохранении убеждения следует, что нам нужно признать: [когнитивные] предпосылки суть представленные нам аргументы для практических выводов». Норма, в которой такое согласие открыто признается, выражает приверженность тому, что на первый взгляд представляется основанием для действия — возможно, определяющим роль субъекта, возможно, нет. Чтобы признать рассматриваемое обязательство абсолютно приоритетным, нам нужно признать соответствующий практический 442 §¤'&­ вывод «не только сохраняющим убеждение, но и сохраняющим приверженность», то есть «всякий приверженец [когнитивных] предпосылок тем самым является и приверженцем практического заключения» (MIE, 252: курсив в оригинале). 17. Здесь также отражается приверженность теологически мотивированному отделению моральным трудом, который строго ограничивает моральную ответственность всякого человека за непредвиденные последствия поступка, вызванного требованиями справедливости. Разумеется, эта приверженность оказалась крайне важной для реакции последователей томизма на проблему «грязных рук». 18. «Мы можем сохранить представление о языке как о выражении, о лингвистических институтах как воплощениях объективного духа сообщества — и при этом не предъявлять фантастических требований относительно степени внутреннего единства или гармонии, которая может быть приписана нашей форме жизни» (Lovibond, Realism and Imagination in Ethics, 127). 19. «Не так уж редко случается, что вследствие неполноты интеллектуального авторитета внутри моральной лингвистической игры… люди могут не соглашаться относительно конкретизации моральных концептов (что позволительно, обязательно, что порождено дурным вкусом и т.п.), но при этом сохраняется возможность обращения несогласных к любому третейскому суду, который потребует общего согласия» (Ibid, 179). 20. Я не захожу достаточно далеко, чтобы называть религиозным любого человека, который признает нечто наиболее важным, — как это происходит в вариации Уильяма А. Кристиана на предложенную Паулем Тиллихом тему религии высшей важности. См.: Christian, Meaning and Truth in Religion (Princeton: Princeton University Press, 1964). Но я уверен, что религиозные убеждения часто принимают форму убеждений, которые важнее более всего. Я также думаю, что в глубине многих наиболее упорных моральных разногласий лежат различные мнения об относительной значимости множества очень важных для нас предметов. Эти моральные прения связаны с религиозными различиями. 21. Кто-нибудь здесь мог бы возразить, что я возвращаюсь к пониманию проблемы как продукта конфликтующих желаний. Но, как указывал Гарри Франкфурт, вопрос о том, что же нам небезразлично, в большей степени имеет отношение к воле человека, чем к его желаниям или предпочтениям. См. заглавное эссе в изд.: Frankfurt, The Importance of What We Care About (Cambridge: 443 Cambridge University Press, 1988) и Necessity, Volition, and Love (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), особ. 110, 155–158). На мою позицию в этом разделе повлияло утверждение Франкфурта, сделанное во второй названной работе: небезразличие к чему-либо может иметь отношение к своего рода «волевой необходимости», которая «делает определенные действия немыслимыми» (111; курсив в оригинале). Это мостик, которым я воспользовался, чтобы отойти от представления Шклар о том, что жестокость — это худшее, что можно сделать с моей приверженностью проблеме «грязных рук». 22. Если заговорить на языке Франкфурта, то я признаю, что не всем моим согражданам небезразличны отдельные индивиды настолько, чтобы считать немыслимым применять насилие в отношении невинных граждан даже в исключительных обстоятельствах. О чем мы должны заботиться в этом смысле (если такое вообще существует) — это один из самых сложных вопросов, над которыми человек может задуматься. Этот вопрос настолько сложен, что было бы глупо требовать от плюралистического в религиозном отношении общества, чтобы оно пришло к согласию по данному предмету и лишь после этого затевало бы политическую дискуссию. 23. Это убеждение оказалось на карте, например, в начале 1960-х готов, когда среди католиков начали разгораться все более жаркие дебаты между тем, что Элизабет Энскомб назвала «методом казуистики», и тем, что ее оппоненты называют «пропорционализмом». С моей собственной попыткой показать, что не разумнее всего воспринимать концепцию «справедливой войны» в духе Энскомб как процесс «взвешивания» лежащих на поверхности возможностей, можно познакомиться в: Stout, Justice and Resort to War: A Sampling of Christian Ethical Thinking, в изд.: James Turner Johnson, John Kelsay, eds., Cross, Crescent, and Sword: The Justification and Limitation of War in Western and Islamic Traditions (New York: Greenwood Press, 1990), 3 — 33. Там читатель найдет и цитаты из Энскомб. ^ 9 §­& ¤&&) ¤<' <) <¥( 1. Подробный обзор политической мысли начала современной эпохи, явившийся важным вкладом в соборное движение католиков, см. в изд.: Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978). 444 §¤'&­ 2. Анализ взаимоотношений между мирообразующим протестантизмом и низким уровнем самоидентификации в современных демократических культурах см. в изд.: Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace (Grand Rapids: Eerdmans, 1983) 3–22. 3. Thomas Paine, The Rights of Man (London: Penguin, 1984), 168. 4. У. Уитмен. Избранные произведения. — М.: Художественная литература, 1970. С. 363. — Пер. К. Чуковского. 5. Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace, 84. 6. Annette C. Baier, Moral Prejudices (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), 225–226. 7. AV, 68–70. 8. Walt Whitman, Whitman: Complete Poetry and Collected Prose, ed. Kaplan (New York: Library of America), 6. 9. Объяснение представления о фактах как о настоящих требованиях см. в: MIE, 327–329. 10. Первые Брандом обычно называет «доксастическими» убеждениями, но я предпочитаю не столь непривлекательный термин — «когнитивные»; Брандом использует его в AR, 83. 11. С одной оговоркой: обычные понятия «веры» и «намерения» неоднозначны, тогда как технические понятия когнитивных и практических убеждений разработаны как недвусмысленные. См.: MIE, 195, 256–259. 12. Вопрос об отношении Хайдеггера к прагматизму сложен, и я не имею возможности здесь его разбирать, без того чтобы вдаваться во все, что в последней его работе объявляется заслуживающим серьезного изучения. О прагматических темах в раннем творчестве Хайдеггера см. в: Robert Brandom, Heidegger’s Categories in «Being and Time», Monist, 66, no. 3 (1983): 387–409, Mark Okrent, Heidegger’s Pragmatism (Ithaca: Cornell University Press, 1988). См. также: James C. Edwards, The Plain Sense of Things (University Park: Pennsylvania State University Press, 1977). 13. См., напр.: Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, ed. J.G.A. Pocock (Indianapolis: Hackett, 1987), 26–27, 34–35, 41— 42, 72– 73. 14. Thomas Paine, Common Sense, ed. Karl Heinz Schonfelder (Halle: Niemeyer, 1956), 67, 73–80, 92. 15. Это заставит таких поборников феминизма, как Мэри Уоллстонкрафт, утверждать, что эти нормативные статусы должны применяться также и к женщинам, а аболиционистов, таких как Соджорнер Трус, — говорить, что эти статусы нужно распространить и на рабов. 445 16. И Селлерс, и Брандом уделяют главное внимание первому подходу, поскольку оба они, говоря об этических путях использования языка, сосредоточиваются прежде всего на суждениях долженствования. Насколько мне известно, Селлерс вообще не упоминает второго подхода, а Брандом говорит о нем только в тех случаях (MIE, 123–130, AR, 69–76), когда видит свою основную задачу в том, чтобы исправить предложенную Майклом Дамметтом концепцию отношений, которые должны возникнуть между обстоятельствами и последствиями применения концепта. Я же просто беру то, что говорит в названных контекстах Брандом о таких «тяжело нагруженных словах», как «бош» или «нигг