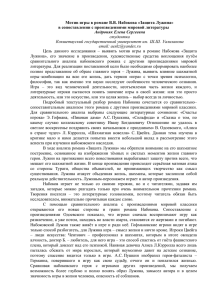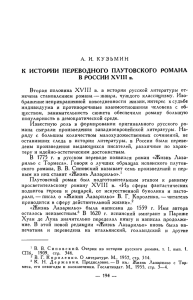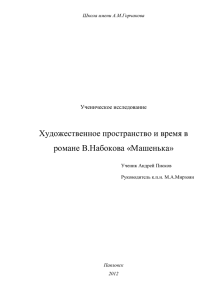т.н. белова символика цвета и лейтмотивов в “русских” романах
реклама
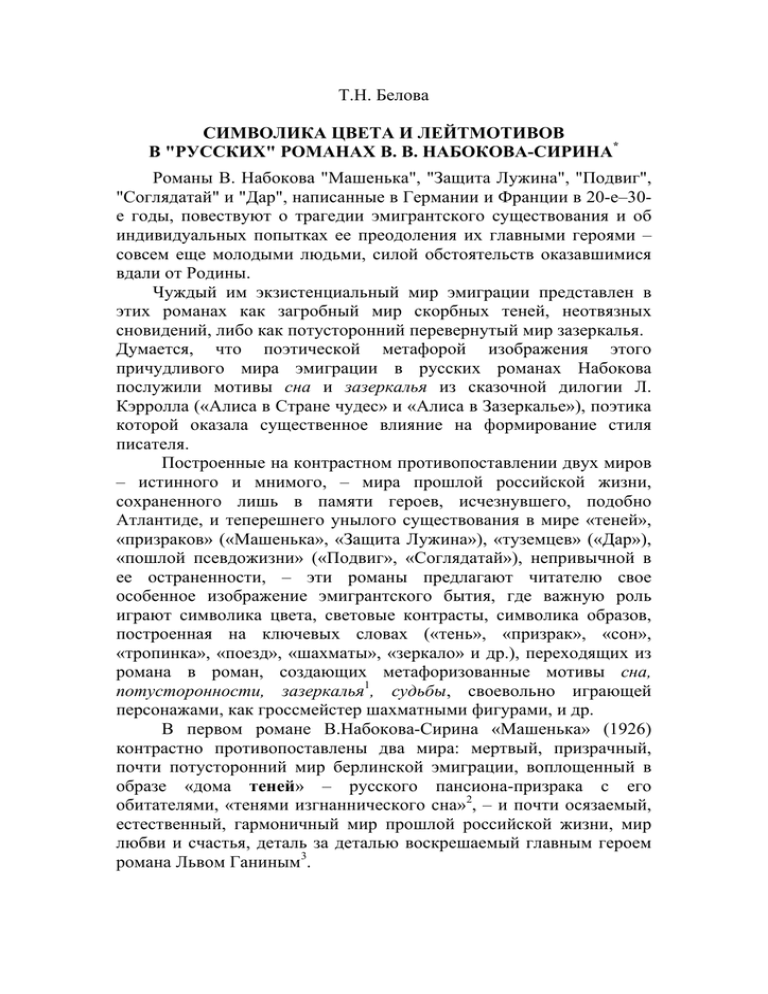
Т.Н. Белова СИМВОЛИКА ЦВЕТА И ЛЕЙТМОТИВОВ В "РУССКИХ" РОМАНАХ В. В. НАБОКОВА-СИРИНА* Романы В. Набокова "Машенька", "Защита Лужина", "Подвиг", "Соглядатай" и "Дар", написанные в Германии и Франции в 20-е–30е годы, повествуют о трагедии эмигрантского существования и об индивидуальных попытках ее преодоления их главными героями – совсем еще молодыми людьми, силой обстоятельств оказавшимися вдали от Родины. Чуждый им экзистенциальный мир эмиграции представлен в этих романах как загробный мир скорбных теней, неотвязных сновидений, либо как потусторонний перевернутый мир зазеркалья. Думается, что поэтической метафорой изображения этого причудливого мира эмиграции в русских романах Набокова послужили мотивы сна и зазеркалья из сказочной дилогии Л. Кэрролла («Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»), поэтика которой оказала существенное влияние на формирование стиля писателя. Построенные на контрастном противопоставлении двух миров – истинного и мнимого, – мира прошлой российской жизни, сохраненного лишь в памяти героев, исчезнувшего, подобно Атлантиде, и теперешнего унылого существования в мире «теней», «призраков» («Машенька», «Защита Лужина»), «туземцев» («Дар»), «пошлой псевдожизни» («Подвиг», «Соглядатай»), непривычной в ее остраненности, – эти романы предлагают читателю свое особенное изображение эмигрантского бытия, где важную роль играют символика цвета, световые контрасты, символика образов, построенная на ключевых словах («тень», «призрак», «сон», «тропинка», «поезд», «шахматы», «зеркало» и др.), переходящих из романа в роман, создающих метафоризованные мотивы сна, потусторонности, зазеркалья1, судьбы, своевольно играющей персонажами, как гроссмейстер шахматными фигурами, и др. В первом романе В.Набокова-Сирина «Машенька» (1926) контрастно противопоставлены два мира: мертвый, призрачный, почти потусторонний мир берлинской эмиграции, воплощенный в образе «дома теней» – русского пансиона-призрака с его обитателями, «тенями изгнаннического сна»2, – и почти осязаемый, естественный, гармоничный мир прошлой российской жизни, мир любви и счастья, деталь за деталью воскрешаемый главным героем романа Львом Ганиным3. Ключевое слово «тень», постоянно встречающееся на страницах романа («семь русских потерянных теней», «Подтягин <…> показался ему тоже тенью, случайной и ненужной», «его берлинская тень», «тень его жила в пансионате госпожи Дорн, он же сам был в России», Ганин «не раз даже продавал свою тень», – 1;50,71,73,40 (выделено нами — Т.Б.)), создает в воображении читателя мир берлинской эмиграции как иной потусторонний мир, мир загробной жизни, где люди, вернее тени людей, лишены собственной воли, бессильны что-либо изменить в своей судьбе (например, Подтягин, Людмила, Клара и др.). Символично и само начало романа: два его персонажа – Ганин и Алферов – ночью оказываются в «неожиданной темноте» застрявшего лифта, и эта остановка, как и неподвижность, темнота, ожидание, по словам Алферова, вдруг становятся символом «эмигрантской жизни, нашего великого ожиданья» (1;36). Зыбкость, неустроенность эмигрантского существования подчеркивается целым рядом деталей, семантически связанных со смертью, увяданием, близкой разлукой. Так, предметы мебели в пансионе: письменный стол покойника <…> скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам <…> и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета (1;38; выделено нами – Т.Б.). Листочки старого календаря, наклеенные вместо номеров на двери сдаваемых комнат, призваны показать эфемерность, мимолетность, быстротечность эмигрантского существования, его непрочность и неукорененность. Сравнение руки хозяйки пансиона, г-жи Дорн, с «сухим листом», то взлетающим вверх, то падающим вниз, «мелькнув блеклой желтизной» (1;43; выделено нами – Т.Б.), углубляет впечатление осенней унылости от пребывания в нем. Цветовая гамма романа в той части, где речь идет о берлинской эмиграции, решена преимущественно в черно-белых и серых тонах, символизирующих расставание с жизнью, т. е. духовную или физическую смерть («Утро было белое, летнее, дымное», «белое трюмо», «полутемный коридор»; седые голова, усы, грудь Подтягина, его «седая тень в кресле», его серый костюм; черные поезда, черный бумажник Ганина, в котором хранились пять писем Машеньки; черные платье, платок и ремингтон Клары; «гулкая черная тень», — 1;54,55,60,61,78,94,99 и др.; выделено нами — Т.Б.). В конце романа Подтягин, после утраты паспорта, предстает «бледным, как смерть» (1;98). По контрасту с миром берлинской эмиграции мир российской жизни в воспоминаниях Ганина играет всеми цветами радуги: это «парчовые острова тины», «глянцевито-желтая головка кувшинки», «красный, как терракота, берег», «лиловый вереск», «зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы» (1;75); это разноцветные стекла беседки: «глядишь, бывало, сквозь синее, – и мир кажется застывшим в лунном обмороке, – сквозь желтое – и все весело чрезвычайно, – сквозь красное, – и небо розово, а листва, как бургундское вино» (1;73; выделено нами — Т.Б.). Буйство красок, обостренность чувств героя, его ощущений от близости с природой, ее запахами и звуками, и любимой девушкой создают в картинах русской жизни, оживших в памяти героярассказчика, напоенных свежим лирическим чувством и непосредственностью мировосприятия, ту «human humidity», «живую жизнь», которая полностью отсутствует в изображении серой, непоэтичной обстановки эмигрантского Берлина. Казалось, – пишет Набоков, – что эта прошлая, доведенная до совершенства, жизнь проходит ровным узором через берлинские будни. Что бы Ганин ни делал в эти дни, та жизнь согревала его неотступно (1;73). Картины, висящие на стенах в берлинском пансионе и в летнем доме Ганина, довершают это противопоставление: в первом случае они связаны со смертью (литография «Тайной вечери» и копия с картины Беклина «Остров мертвых»), во втором – это жизнеутверждающие полотна, изображающие «неаполитанца с открытой грудью» (1;57), плывущую по воде лошадь с раздувающимися ноздрями, лакающую молоко кошку и скворца, к изображению которого для усиления жизнеподобного эффекта добавлены настоящие перья. Вместе с тем трагическая тема смерти, разрушения и будущей разлуки с любимой вводится в тему воспоминаний о России образом «сына сторожа, зубоскала и бабника» (1;82), наблюдавшего интимные моменты свидания Ганина с Машенькой изнутри заколоченной усадьбы, также сочетанием черного и белого цветов: Ганин, обернувшись, увидел, «что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо» (1;82; выделено нами – Т.Б.). Он в бешенстве разбивает окно, «вваливается в ледяную мглу» дома и бросается в драку с парнем, «задевая во тьме мертвую мебель в чехлах» (1;83; выделено нами – Т.Б.). Эпитеты «ледяная» и «мертвая» семантически дополняют зловещую символику цвета. Такое неожиданное вмешательство постороннего в их роман оказалось, по словам автора, страшным «символом всех грядущих кощунств» (1;82). Уезжая на следующий день в Петербург, Ганин еще раз увидел Машеньку рядом с шоссе, но «стенка, обитая черной кожей, мгновенно закрыла ее» (1;83). Судьба, – пишет Набоков, – в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией (1;83). Черный мир разлуки как бы посылает из будущего цветовой импульс-предупреждение в своей уже знакомой черно-серой гамме. «Это было пробным испытанием, таинственным предвкушением; особенно грустно уходили одна за другой в серую муть горящие рябины» (1;83; выделено нами – Т.Б.). Любовная страсть словно поглощается «серой мутью» разлуки4. Затем, встретившись с одетой в серую шубку Машенькой, уже в заснеженном Петербурге, где снег падал в «сером, как матовое стекло воздухе» (1;83; выделено нами – Т.Б.), Ганин и его возлюбленная вскоре начали понимать, что «настоящее счастье минуло» (1;84). На свое последнее свидание с Ганиным в летний «осторожно-темнеющий вечер» Машенька пришла в «белом сквозистом платье» (1;85). От каменной плиты во мху, на которой они расположились, веет могильным холодом, Ганину неприятна «покорная неподвижность» (1;85) Машеньки, и они расстаются, после чего он едет «в лунную мглу на велосипеде» по «бледной полосе шоссе» (1;86). Черно-белая гамма символизирует конец их любви, в то время как синий цвет (синие юбка и кофта Машеньки, васильки в ее волосах, ее незнакомое «синее пальто с пояском» при их последней случайной встрече) – символ предстоящей разлуки с любимым навсегда, подобно строкам из блоковского стихотворения: Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла5. После этой случайной встречи Ганин едет в неосвещенном вагоне, между серых потоков дыма «в сквозной грохочущей тьме» – намек судьбы на будущее житье в берлинском пансионе: «шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике», – так продолжает «вагонную» тему Набоков через строчку текста, перенося своего героя уже в «туманный Берлин» (1;87; выделено нами – Т.Б.). В конце романа призрачность, потусторонность берлинской жизни Ганина подчеркивается все настойчивее: Дом был, как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами <…> В комнате был бледноватый, загробный свет (1;99; выделено нами – Т.Б.). Вместе с тем усиливается значение синего цвета – цвета прощания, разлуки, обещания, обретения чего-то нового: «синеватый туман рассвета <…> смутно посиневшее кресло» (1;106), «легкая синева неба» (1;110). Внимание выходящего из пансиона Ганина привлекают синие фигуры рабочих на крыше дома (1;111), восходящее над городом солнце, расходящиеся по своим местам тени, позолоченные солнечными лучами деревянные переплеты скелета крыши, на которые рабочие укладывали красные «ломти черепицы» (1;111), как бы наполняя скелет свежей плотью, давая ему новую жизнь. Вновь ощутив мир цвета, Ганин осознает, что «желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем» (1; 111). И он, как наваждение, стряхивает с себя берлинский жизненный сон, вновь возвращаясь к реальной жизни, полной запахов, звуков и красок, а «образ Машеньки остался вместе с умирающим поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминанием» (1;112; выделено нами – Т.Б.). Толчком к возвращению Ганина к жизни послужили четыре дня, наполненные воспоминаниями о Машеньке и о России. В романе «Защита Лужина» (1930) акценты существенно смещены. Доэмигрантская жизнь Лужина представлена почти такой же чуждой его внутреннему миру, как и кажущаяся герою нереальной жизнь в эмиграции: ведь необыкновенный дар Лужинашахматиста позволяет ему не только находить, но и создавать гармонию в мире шахмат, где и проходит его настоящая жизнь и где он, подобно творцу, как пишет Набоков, властвует над шахматными фигурами. Захватывая его целиком, мир шахмат постепенно овладевает сознанием героя, и во время болезни, вызванной перенапряжением умственных сил, Лужин переносится в другую реальность – в шахматное зазеркалье, а не совсем понятный мир <…> расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам (2;77). В этот период своей жизни он не различает сна и яви, воспринимая реальную жизнь как сон («все, кроме шахмат, только очаровательный сон», – 2;77), хотя и раньше, на курорте, ощущал себя «среди <…> зеленой декорации, в меру красивой, дающей чувство сохранности и покоя» (2;56). Его не стесненная условностями естественность в проявлении чувств никак не вписывается в хрупкий, искусственный мир эмигрантского бытия. «Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли» (2;59), – так представляет их будущую совместную жизнь его невеста. Действительно, «сарафанный воздух квартиры» (2; 67) ее родителей с лакированными шкатулками, на которых выжжены русские тройки и жар-птицы, с картинами, изображающими то русскую бабу «в кумачовом платке до бровей», то «золотого богатыря на белом битюге» (2;67), воспринимается Лужиным как еще одна, на этот раз ярко размалеванная декорация жизни, «где все улыбалось мертвой улыбкой» (2;142), или балаган, сквозь яркий занавес которого к нему волей судеб «прорывается живой человек» (2;57) – его невеста. Не различая сна и яви, Лужин боится, что она исчезнет, «как некоторые сны, которые вдруг ломаются, разбиваются, оттого что сквозь них всплывает блестящий куполок будильника» (2;66). В этом романе в изображении Набоковым мира берлинской эмиграции отчетливо звучат иронические нотки – возникает шеспировский мотив «мира как театра», где все «играют во мнения» (2;62), где каждый исполняет свою роль. Например, мать невесты Лужина «превосходно играла русскую хозяйку», называла себя, в духе романа «Война и мир», «бой-бабой или казаком» (2;59). В остальном цветовая гамма на страницах, посвященных берлинской эмигрантской жизни главного героя, решена в чернобелых тонах с обязательным присутствием серого. С одной стороны, это художественная необходимость, связанная с развитием шахматной темы в романе, пронизывающей всю его композицию, а с другой, эти цвета – символ обреченности Лужина, его будущей смерти. Так, голова у него болела «частями, черными квадратами боли» (2;72); в гостиной невесты Лужин «невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки» (2;76). В больнице его окружает «преувеличенная белизна <…> бесшумные белые движения сестер» (2;91), что для него невероятно утомительно; над ним склоняется врач – «господин в белом с черной бородой» (2;92). От «голубого блеска русской осени» (2;92; выделено нами – Т.Б.) его надежно отделяет рама больничного окна. У самого Лужина «полное серое лицо», с темной, приставшей к вечно потному лбу прядью, «глаза <…> как бы запыленные чем-то», но «сквозь эту пушистую пыль пробивался синеватый, влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное» (2;48). Здесь синий цвет – также намек на возможность искренней любви с последующей трагической разлукой. Эта гамма всецело доминирует на последних страницах романа, повествующих о трагических переживаниях Лужина перед его уходом из жизни. Случайно встретившись с Валентиновым, одетым в пальто с котиковым воротником и белым шелковым кашне, Лужин обращает внимание на его «большой, зеркально-черный автомобиль» (2;147), на котором его бывший антрепренер привозит его на киностудию, название которой – «Веритас» (истина), написано черными буквами на «белой, как яичная скорлупа, дощечке» (2;145). Встревоженный этой встречей, Лужин начинает понимать, что возвращение в мир шахмат окончательно сломает его психику – это «страсть, разрушающая жизненный сон» (2;146). Он принимает решение покончить с собой, и последнее, что он видит в своей жизни, – это «белый блеск <…> эмалевой ванны» (2; 150), «искристо-голубую» непрозрачную нижнюю часть окна, которую он разбивает «белым стулом», в результате чего «в морозном стекле появилась черная, звездообразная дыра», а «в верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом» (2;150). Лужин, собрав все силы, преодолевает эту границу зазеркалья, пролезая в проем оконной рамы, и падает в бездну, которая распалась «на бледные и темные квадраты» (2;151). Роман «Подвиг» (1932) метафорически развивает тему лесной тропинки, намеченную в романе «Защита Лужина», когда герой, находясь в Германии, в помутнении рассудка пытается отыскать спасительную тропинку, ведущую в его летнюю усадьбу в России. Мартын Эдельвейс, под впечатлением акварели, висевшей в детстве над его кроваткой, на которой его бабушкой была изображена тропинка в густом лесу (возможно, даже в Швейцарии), спрашивает себя: не стала ли вся его странная эмигрантская жизнь «прыжком» в эту картину? Ему неприятна та «развязная громкоголосая Россия», которая поразила его в Берлине: она «тараторила повсюду – в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов» (2;247). С другой стороны, ему кажется, «что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой» (2; 262), а все окружающие его люди ехали в соседних вагонах. Эта мысль заставляет героя сойти с привычной колеи заграничного псевдосуществования и с риском для жизни пробраться в Россию: А потом пешочком, пешочком, – взволнованно проговорил Мартын, – лес и вьющаяся в нем тропинка <…> какие большие деревья! (2;262). Последнее впечатление перед отъездом Мартына из Берлина в Литву: «белесое, невеселое» небо (2;289), пятнистый от сырости асфальт, женщина в трауре, дрожащая черная левретка, преследуемая пуделем, две мулатки, фургон с «грустной рухлядью», запряженный парой «тощих лошадей», – все это становится для него предупреждением судьбы, символом гибели, невозвращения. Что это, в самом деле, – подумал Мартын. – Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться (2;290). Но знаки судьбы были истинными, и мрачным предчувствиям суждено было сбыться: черная ночь Зоорландии поглощает его. Живописная и таинственная темная лесная тропа в ельнике под Лозанной, по которой идет мрачный Дарвин, возвращаясь из усадьбы дяди Мартына, Генриха Эдельвейса, в мокрый ноябрьский день оказывается такой же недоступной для героя, перешедшего в другое измерение, как и соблазнительная витая тропинка в густом лесу, нарисованная акварельными красками. Трагедия Мартына, не укоренившегося в мире эмиграции, отчужденного от реальной жизни, – трагедия большинства «детей эмиграции» – художественно воплощена в образе Смурова из романа «Соглядатай» (1930), метафорой сознания которого может служить образ разбитого на множество осколков зеркала. Смуров – человек «без оболочки», наблюдающий за собой даже во сне, после смертельного оскорбления, нанесенного ему Кашмариным, решает покончить с собой, но рана оказывается не смертельной, и, когда герой приходит в сознание, он уверяет себя, что перешел грань бытия – в «загробную гряду» (2;308) – от «бессонной пестроты жизни» в «черный бархат сна» (2;306). Облик Смурова перед роковым выстрелом беспощадно высвечивается через зеркало: Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки (2;305). После мнимой смерти происходит раздвоение личности Смурова: герой-рассказчик пишет о себе, как о постороннем – в третьем лице («он мне нравился», – 2;314), считая все происходящее с ним «посмертным разбегом мысли» (2;308). Поэтому и окружающий мир воспринимается им как призрачный, несуществующий, начертанный его памятью и воображением. И люди, которых герой встречает на своем пути, – «не живые суще- ства, а только случайные зеркала для Смурова» (2;338). Каждый из них несет в себе свой образ Смурова: сам рассказчик создает образ тонкого, благородного, скромного молодого человека, в то время как жених очаровательной Вани, Мухин, считает его обманщиком и негодяем; для Романа Богдановича Смуров почему-то «сексуальный левша»; сестра Вани представляет его как застенчивого, очень впечатлительного юношу; сама Ваня видит в нем хорошего, доброго человека; Марине Николаевне он кажется «блестящим и жестоким воином» (2;323); дядя Паша принимает его за жениха Вани, а швейцариха – за богатого иностранного поэта-аристократа. Сам же влюбленный в Ваню герой «заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только воображение мое, только зеркало» (2;339; выделено нами – Т.Б.). Весьма значимым в этом произведении является также мотив сновидения: Ваня приходит в его сны, и в этом Смуров видит свое превосходство над Мухиным и в конце концов примиряется с драматическим для него положением вещей; сны для Смурова более вещественны, значимы, чем зыбкая нереальность бытия, – в них он чувствует себя неуязвимым для реального мира. Для самого произведения характерна черно-белая гамма: это бледное лицо Смурова, его черные костюм и галстук, черно-карие глаза Вани, ее темные волосы с гладким отливом, а при последнем свидании со Смуровым на ней белая кофточка с глубоким вырезом. Присутствует и синий цвет, цвет любви и разлуки: это синий персидский лев, вытканный на ковре в квартире Вани. Полной противоположностью Смурову, который прячется от реального мира в созданном его надломленным сознанием зыбком мире небытия и живет, как ему кажется, только в душах окружающих его людей, является герой романа «Дар» – начинающий талантливый писатель Ф.К. Годунов-Чердынцев. И хотя в романе лирическое «я» также заменяется объективным «он» (рассказ ведется то от первого, то от третьего лица) и портрет героя, так же как и в «Соглядатае», дается через его зеркальное отображение (3;52), образ зеркала утрачивает свою символическую функцию зазеркалья – главным символом романа, символом творческого горения, становится «человеческий глаз, хотящий вместить все на свете» (3;121) – образ, взятый из восточной притчи, которая вошла в текст романа. Будучи художником слова, Годунов-Чердынцев удерживает в своей памяти буйство красок и эмоций бытия как доэмигрантской российской жизни, так и щедрые, зримые и осязаемые «подарки» берлинской, где, несмотря на «безнадежно-некрасивые улицы» (3;72) города, населенного пошлыми, заурядными «туземцами», то возникает «с неуловимой внезапностью ангела радуга <…> розовозеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю» (3;69), то «параллепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф» (3;7), отражающий ветви деревьев, то «пятно масла: попугай асфальта» (3;26; выделено нами – Т.Б.), то голубое бальное платье, своим цветом предвозвещающее встречу с любимой и т. д. Эти художественные детали раскрывают восторженно-жадное восприятие мира главным героем, жизнь которого плывет в «блаженном тумане» творчества (3;75). Как художник, Федор Константинович в моменты творческого прозрения остро чувствует странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась, и он увидел ее необыкновенную подкладку (3;164). Роман, который задумывает и пишет Годунов-Чердынцев, – «толстая штука» – включает в себя его лирические стихи, перемежающиеся воспоминаниями о России, и новеллу о Яше Чернышевском, трагически покончившем с собой, а также биографию его знаменитого однофамильца, проходящую по тонкой грани между «правдой и карикатурой на нее» (3;180), и воспоминания об отце, которые переплавляются в повесть о нем – мужественном исследователе-натуралисте, куда органично входят и воспоминания матери Федора о первых годах замужней жизни. Роман содержит также критические разборы поэзии Кончеева, статей о его творчестве критиков Линева и Х.Мортуса, и изображение культурной жизни берлинской эмиграции (собраний литературных кружков, эмигрантских изданий), и любви Федора к Зине Мерц – все эти пестрые, разнородные в жанровом отношении элементы, ассоциативно связанные мыслью и личностью автора, и составляют роман «Дар» – синтез художественного сознания писателя, как бы воспроизведенного изнутри. Именно творческий дар помогает Федору сохранить ощущение радости бытия и само свое «я» в эмигрантском зазеркалье, в отличие от Смурова, сознательно ушедшего в воображаемое небытие из страха перед жизнью, «тяжелой и жаркой, полной знакомого страдания» (2;242). Если образ Смурова расколот на неверные отражения, живущие в сознании окружающих его людей, то художник ГодуновЧердынцев, как бездонное, всеобъемлющее око, жадно вбирает в себя образы других людей, наполняется их переживаниями, как бы становясь на их место. Например, он в своем воображении так же отчетливо, как и сошедший с ума А.Я.Чернышевский, видит призрак его покойного сына Яши; глубоко проникается чувствами своей матери, поэта Кончеева, Зины Мерц и других близких ему людей. Роман «Дар» – о радости жизни, наполняющей главного героя, который не чувствует себя эмигрантом: Россия пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды (3;157). Новаторски запечатлев в созданном им романе свое неповторимо-индивидуальное видение мира, в том числе и эмиграции, Годунов-Чердынцев тем самым одерживает над ним победу. Поэтика романа сохраняет приверженность художественным принципам, присущим другим романам Набокова. Это метафоризация мотива судьбы, ведущей героев по жизни, соединяющей и разлучающей их; в нем возникает кэрролловский мотив утраченного ключа, пунктиром проходящий через весь роман: Федор Константинович мог забыть или потерять ключ от квартиры, но ключи от России он забрал с собой (3;315). Мотив призрачности, тени утрачивает свою потусторонность: Федор и Зина «образуют одну тень» (3;159). Мотив сна связан с реальным сном Федора, в котором он увидел отца. В описании сна присутствует преимущественно чернобелая гамма: «туманные дома», серый прозрачный воздух, «матовые улицы» (3;317), белый халат фрау Стобой, черная куртка отца, его седина в темной бороде. Но даже во сне Федору видится «кирка с фиолетово-красным окном в арлекиновых ромбах света» (3;318). Потрясенный встречей с отцом во сне, Федор, просыпаясь, не сразу возвращается к действительности: ему на мгновение кажется, что он «в гробу, на луне, в темнице вялого» небытия (3;320; выделено нами – Т.Б.). Но, постепенно приходя в себя, он понимает, что находится в Берлине, а все окружающее его – «театр земной привычки, мундир временного естества» (3;320). Так в романе возникает принципиально новый мотив потусторонности, намекающий на существование иного истинного мира, столь характерный для последующего набоковского творчества. Таким образом, изображение потустороннего «зазеркального» мира эмиграции в русских романах В. Набокова определяет сам тип главного героя произведения, сквозь призму сознания которого читатель и наблюдает этот причудливый, странный, субъективно представленный мир: чем более совершенен герой в творческом отношении, тем многоцветнее палитра красок, более насыщенна и значима метафоризация мотивов и образов, тем более узорчатой, ярче подсвеченной изнутри становится художественная ткань произведения. Примечания * Белова Т.Н. Символика цвета и лейтмотивов в «русских» романах В. Набокова-Сирина // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Седьмых Андреевских чтений. Под ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2009. С. 211 – 220. 1 О мотиве потусторонности см.: Александров В.Е. Набоков и потусторонность: Метафизика, этика, эстетика. СПб., 1999. 2 Набоков В.В. Собр. соч.: в 4-х томах. М., 1990. Т.1. С.71. Далее ссылки на это издание даны в тексте статьи: первая цифра — номер тома, вторая — номер страницы. 3 О теме реальность/нереальность в этом романе см.: Левин Ю. Заметки о «Машеньке» В.В.Набокова// В.В.Набоков: Pro et Contra. СПб., 1997. С.364-374. 4 Словосочетание «серая муть» многократно встречается в изображении В.Набоковым эмигрантской жизни как в этом, так и в других романах. 5 О традициях символизма в творчестве В.Набокова см.: Johnson D.B. Worlds in Regression: Some Novels of V.Nabokov. Ardis: Ann Arbor, 1985; Старк В.П. А.А.Блок в художественных отражениях Набокова // Набоковский вестник №4. СПб., 1999. С.53-68; Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях В.В.Набокова // Набоков В.В. Pro et Contra. C. 667-696 и др.