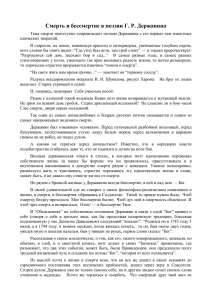Славянские представления о смерти в поэзии Г
реклама

Славянские представления о смерти в поэзии Г.Р. Державина С.А.Никифорова Удмуртский государственный университет славянская и античная мифология, христианство, лексемы “смерть-1” и “смерть-2” Представления о жизни и смерти в творчестве любого художника, с одной стороны, во многом индивидуальны, а с другой – сформированы под влиянием этнокультурных идей: философских воззрений, распространенных, популярных в тот или иной период, господствующего вероучения. XVIII век, ставший во многом переломным именно для мировоззрения русского человека, рождает особый взгляд на проблему смерти. Представления о смерти в поэзии Г.Р. Державина, на наш взгляд, отражают эклектичность мироотношения человека того времени: элементы традиционно славянской, а затем христианской концептуализации смерти/Смерти органично сочетаются с элементами античной культуры. Так, возможно, рождается неотъемлемая составляющая особого, российского, типа мышления, соединившего несоединимое – Восток и Запад. Наиболее показательным для отражения взглядов поэта о смерти стало программное стихотворение “На смерть князя Мещерского” (1779). В тексте находим лексему “Смерть-1” и ряд лексем, характеризующих объем значения лексемы “Смерть-2”, репрезентирующие мировидение автора. 1. В энциклопедическом словаре “Славянская мифология” читаем: “Персонифицированная смерть в виде костлявой и безобразной старухи с косой является героем многих народных рассказов, быличек и сказок” [Славянская 2002: 438]. Так, славянское представление о Смерти как о персонифицированном существе проявляется у Г.Р. Державина в лексеме “Смерть-1”, наделенной рядом действий, свойственных живому существу: она “зубами скрежещет”; размахивая “косой” (“блещет”), “сечет дни”; “глотает царства”; “все разит”; “звезды ею сокрушатся”, “солнца ею потушатся”, “мирам она грозит”; “похищает жизнь”; “постигает человека”, настигает любую “тварь” (“никая тварь не убегает”); “на всех глядит” “и точит лезвие косы”. Однако в стихотворении остается неясным пол этого существа: согласование прилагательных в тексте с существительным (местоимением) женского рода позволяет лишь гипотетически, учитывая известную тенденцию соответствия рода существительного и пола называемого лица, говорить о существе женского пола. Облик и действия Смерти-1, рисуемые Г.Р. Державиным, – “зубы” и “когти”, погоня за “тварью” – возвращают нас к образу зверя, сопрягая Смерть-1 и демона, так как “само по себе “звериное начало” прямо связано с “демоническим” [Неклюдов 1998: 128]. Смерть-1 молчит (критерий “владение/невладение речью” – ср. чеш. mluví jako když má smrt na jazyku), автор ничего не говорит о ее одежде (критерий “наличие/отсутствие одежды”), что также приближает нас к мифологическому звериному/демоническому мотиву. Поэтом присваиваются Смерти-1 атрибуты, традиционно характеризующие человека, – она “алчна”, безжалостна (“без жалости”), “бледна” (ср. рус. бледный как смерть, чеш. být bledý/bílý jako smrt). Олицетворение подчеркивается и прямым сравнением – “как тать”. Конечно, утверждение о собственно славянском происхождении ассоциации со смертью образа безобразной старухи может быть оспорено: образ старухи-смерти или скелета с косой – хозяйки преисподней – мы находим и в европейской мифологической традиции [Мифы 1991, 2: 457]. Безусловно интересен различный характер действий Смерти-1 в тексте Г.Р. Державина: если предвкушение жертвы заставляет ее только “глядеть”, “сечь дни” и “скрежетать зубами”, то момент умирания живого, торжества Смерти-1 связан с активным действием: “глотать”, “разить”, “сокрушать”, “потушать” (впрочем, ср. также и “сечет дни”, “блещет косой”, вероятно размахивая ею). Показательно, что основное действие, приписываемое Смерти-1 автором, “глядеть” (см. анафорическое употребление этого глагола в стихотворении) в славянском мифологическом мировоззрении значимо, символично и связано, в том числе, с похоронным обрядом. “Взгляд осмысляется как материальный контакт…, устанавливающий магическую связь между человеком и явлением природы…” [Славянская 2002: 438] – взгляд становился способом сопряжения миров (ср. вновь в “Приглашении к обеду”, 1795: “И смерть к нам смотрит чрез забор”): ср. рус. смотреть смерти в лицо, чеш. hledět smrti v tvář. В стихотворении “К первому соседу” (1780) Г.Р. Державин вернется к образу Смерти-1, но славянская старуха с косой превращается здесь в парку (“парка дней твоих не косит”), римскую богиню судьбы (возможно, одну из трех – Морту). Очевиден контаминированный характер этого образа у Г.Р. Державина: коса не была предметом, характерным для описания римских богинь, прядущих и обрезающих нить жизни, это атрибут славянского образа смерти в руках античного божества. 2. Для славянского мировоззрения чрезвычайно важным становится понятие о вечности, и в первую очередь все же не христианской, а мифологической вечности. Представления о Смерти-2 (прекращение существования человека) в поэзии Г.Р. Державина неразрывно связаны с “вечным”. С одной стороны, Смерть-2 противопоставлена вечному, так как она прерывает линию времени жизни (ср. рус. быть верным до смерти, до смерти не забыть, чеш. něco si pamatovat do smrti, do smrti něco neudělat): “не мнит лишь смертный умирать, И быть себя он вечным чает”. С другой стороны, Смерть-2 – проводник в вечность: “в вечность льются дни и годы”, “я в дверях вечности стою”, где “дверь” эксплицирует вечность как пространство, а не время. Так, Г.Р. Державин воспроизводит две стороны восприятия вечности, известные в славянской культуре: вечность как “вечная молодость” и вечность как “вечная старость”. Вечность-1 – ‘жизненная сила, жизнь, длительность’, Вечность-2 – ‘вневременное бытие’, связанное, скорее, с пространственными характеристиками, а не с временными [Степанов 2001: 826-830]. Для нас же становится интересным сопряжение державинской Вечности-2 с “хаосом” (состоянием добожественного мира, – бесконечным и пустым пространством, в греческой философии, однако, началом всякого бытия [Мифы 1991, 2: 579]: ср. “едва часы протечь успели, Хаоса в бездну улетели” – “в вечность льются дни и годы”, “скользим мы бездны на краю” (где объемный, а точнее, безграничный характер хаоса-вечности подчеркивается лексемой “бездна”). Более того, именно в бездну канет дух (не душа!) человека: “Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем”. Позднее в стихотворении “Бог” он напишет о “смертне бездне”, противопоставленной Божественному, и иной вечности – Вечности-3, христианской, божественной, а значит, личностной (“ты во мне сияешь величеством твоих доброт; во мне себя изображаешь” (“Бог” 1784)): “хаоса бытность довременну Из бездн ты вечности воззвал, А вечность, прежде век рожденну, В себе самом ты основал” (там же). Именно тогда появляется в стихах мотив божественного воскрешения и бессмертия “по делам”: “но вы бессмертны по делам” (“Осень во время осады Очакова” 1788), “Воспой же бессмертие, лира! Восстану, восстану и я” (“Ласточка” 1794), “Так! весь я не умру: и часть моя большая, от тлена убежав, по смерти станет жить” (“Памятник”, 1795), и, наконец, апофеоз бессмертия – державинский “Лебедь” (1804), где всевластная прежде Смерть-1 не властна над поэтом: “от тленна мира отделюсь, с душой бессмертною…”, “не превращусь я в прах”, “над мнимым мертвецом”. Таким образом, мифологическое восприятие смерти раннего Г.Р. Державина, соединяющего в своей поэзии славянский и античный миры, сменяется в его поэтическом мире христианским, противопоставляющим божественное бытие – смысл существования – и неактуальное, неважное небытие: теперь Смерть-2 – начало жизни (“Ты … Конец с началом сопрягаешь и смертию живот даришь”), Смерть-2 перестала быть финальной точкой жизни в области живых, “смертну бездну” теперь “преходит бессмертно бытие”, а “чрез смерть возвращаются, Отец! в бессмертие твое” (“Бог”, 1784). Жизнь после Смерти-2 становится “парением в воздухе” (“Лебедь” 1804), а не падением в “смертну бездну” (так лексемы “воздух”/“бездна” в поэтических контекстах Г.Р. Державина стали антонимами). Стихотворение “Бог” – своеобразное толкование библейской христианской идеи “смертию смерть попрал” – ярко иллюстрирует смену восприятия автором смерти в контексте христианского мировоззрения. 3. Славянская традиция смирения перед неизбежностью Смерти-2 [Славянская 2002: 437], предопределенностью ее самим актом рождения (тем самым противопоставляются рождение и Смерть-2 как два наиболее значимых момента существования человека) с удивительным постоянством фиксируется Г.Р. Державиным в стихотворении “На смерть князя Мещерского”: “Едва увидел я сей свет, Уже зубами смерть [Смерть-1 – С.Н.] скрежещет”, “приемлем с жизнью смерть свою, На то, чтоб умереть, родимся”, “благослови судеб удар”, – и позднее в других стихах: “На свете жить нам время срочно” (“К первому соседу”, 1780), “И вы подобно так умрете, Как ваш последний раб умрет” (“Властителям и судиям”, 1780), “то вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы” (“Река времен…”, 1816). Идея предопределенности, смирения, модифицированная христианством, в позднем стихотворении поэта приобретает несомненный трагический оттенок: время, связанное с Вечностью-1, “уносит дела людей”, “топит в пропасти [читай – в бездне] забвенья…”, все, чего минет эта судьба, окажется в жерле Вечности-2. Литература Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. - М., 1991. Неклюдов С.Ю. Зоодемонизм // Слово и культура. – М., 1998. - С.126-135. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М., 2002. Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры.- М., 2001.