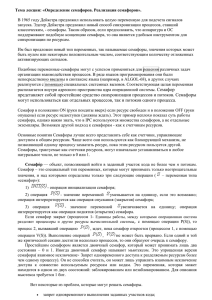В ОТПУСК НА СКАМЕЕЧКУ Итало КАЛЬВИНО Рассказ из цикла
реклама

Итало КАЛЬВИНО В ОТПУСК НА СКАМЕЕЧКУ Каждый божий день, шагая на работу, Марковальдо проходил под зеленым покровом густо обсаженного деревьями небольшого городского сквера, перекрещенного в самой середине четырьмя аллейками. Всматриваясь сквозь листву конских каштанов, а в вышине она была очень густой, так что сквозь тень едва выцеживались редкие желтые лучи, любил он обыкновенно послушать воробьиный переполох. Эти воробьи представлялись ему настоящими соловьями, и в душе у него звучало: «Вот бы хоть разочек разбудила меня этакая музыка, а не будильник и не Паолино, который орет как резаный! И не храп супруги моей Домитиллы!» Иногда мысль текла немножко иначе: «Эх, так его разэтак под микитки! Ну разве грех мне поспать прямо вот тут, хоть бы полчасика, среди свежести и зелени, а не у себя… в тесноте да не в обиде, понимаешь… Прямо здесь. Никто не возится, не чихает, не бормочет. И трамвая не слышно, который по ночам несется вниз по улице как угорелый! И вот именно во мраке, в настоящей ночной темноте! А не в поддельной! Чертова «зебра» от фонарей так и лезет сквозь ставни! Ох, да какое ж счастье, открыв глаза, увидеть листочки и небушко!» Вот с этакими мыслями Марковальдо начинал каждый свой восьмичасовой рабочий день — более чем насыщенный — обыкновенного неквалифицированного грузчика. В том самом садике, в самом углу небольшой площади, под густейшим куполом каштана, стояла себе всеми забытая скамеечка, почти совсем скрытая в кустах. Марковальдо давно положил на нее глаз. В те летние знойные ночи, когда в комнатушке впятером — ад кромешный, он мечтал об этой скамеечке, как бомж грезит о царских палатах. И вот однажды ночью, молча, под храп супруги и причмокивание малышни, он вылез из постели, оделся, сунул под мышку подушку, на цыпочках прокрался к двери и поспешил на площадь. ПРОЗА Рассказ из цикла «Марковальдо» 111 Там было свежо и покойно. Он уж ощущал ребрами эти деревянные перекладины, которые, без сомнения, получше любого матраса, предвкушал, как он сейчас пару минут лежа полюбуется на звезды, а потом уж сомкнет вежды и погрузится в никем и ничем не нарушаемый, настоящий сон. Свежесть и покой — что и говорить, этого там было навалом. Но скамейка была занята! На ней миловалась парочка. Марковальдо представил себя с подушкой под мышкой в виду большой любви и попятился. «Хотя уж поздновато! — подумал он. — Не просидят же они всю ночь на свежем воздухе! Поворкуют, да и дело с концом!» Но эти двое вовсе и не думали ворковать: они спорили. А когда между влюбленными вспыхивает спор, никогда не знаешь, через которое время он закончится. Он говорил ей: — А ты не хочешь признаться, что, говоря мне вот то самое, что ты сказала, ты имела в виду меня обидеть, а совсем не наоборот, как это обыкновенно проделывают притворщики? Марковальдо понял, что это надолго. — Нет, не признаюсь, — отвечала она, как то и предвидел Марковальдо. — А почему не признаешься? — А потому, что никогда не признаюсь. «Эх-хе-хе», — подумал Марковальдо. И с подушкой, зажатой под мышкою, решил малость побродить туда-сюда. Прохаживаясь, он созерцал полную луну, которая вальяжно развалилась на деревьях и крышах. Потом он вернулся к скамеечке и принялся деликатно маячить в отдалении: мол, совать нос в чужие дела, особенно когда воркуют, — не его стиль, но в глубине души надеялся как раз так намозолить им глаза, чтоб они поскорее ушли. Но голубки сцепились не на шутку, им было не до него. — Ну что, сознаешься? — Нет, нет и нет, нисколечко не сознаюсь! — Ну а допустим? — Допустим, не допустим, а я никогда не сознаюсь в том, в чем ты хочешь, чтоб я созналась! Марковальдо повернул назад и снова взялся созерцать луну, потом ему надоело, и он пошел посмотреть на семафор, который был чуть дальше от площади. Семафор без устали мигал исключительно желтым светом. Марковальдо сравнил луну и семафор. Луна, вся в мареве призрачной дымки, желтела, как яичница. Но с этакой зеленцой внутри, притом снаружи взятая слегка в голубое… — это, конечно, совсем не то, что семафор со своим невежественным прямолинейным желтым. И луна, воплощение покоя, испускала лучи свои как-то не спеша, время от времени скрываясь за тончайшими облачками, которые величественно спадали с ее пухлых плеч. Другое дело семафор, который мигал без продыху, как приговоренный, идиотским искусственным светом. 112 Он повернул обратно, чтоб взглянуть, согласилась ли наконец девица. Куда там! Более того, теперь не она, а он был не согласен. Ситуация перевернулась, и теперь уже девица спрашивала: — Ну, так сознаешься? — но теперь упирался уже парень. И все в таком духе, где-то около получаса… В конце концов Ромео все же согласился, или подружка его, что ли, — в общем, Марковальдо увидел только, что они встали и пошли себе под ручку. Тут он направился прямиком к скамеечке и плюхнулся на нее, но, видно, так мечтал об этой встрече, что малость пересластил мечты, и теперь почувствовал угрызения за то, что зря обзывал домашнюю постель слишком жесткой. Но это были оттенки, детали, мелочи жизни. Его намерение насладиться ночью на свежем воздухе было стойким: он водрузил голову на подушку и стал настраиваться на сон, на такой сонный сон, к какому давно уж потерял привычку. Повозившись, он наконец уместился, выбрав самое удобное положение. И не уступил бы ни миллиметра этого пространства никому на свете. Досадно было, однако, что в эдакой позе взгляду представлялась не перспектива из деревьев с куском неба, как ему грезилось раньше, то есть пейзаж, исполненный благородного молчания и покоя, а в ракурсе теперь было дерево, шпага генерала, который стоял монументом и терялся в вышине, еще одно дерево, доска со всякими публичными объявлениями по аренде, третье дерево, и замыкала все это фальшивая луна — семафор, который строчил как из пулемета желтыми пулями. Надо сказать, что за последнее время нервная система Марковальдо вконец истрепалась. Хоть он и уставал до смерти, порой достаточно было пустяка, достаточно было чему-нибудь взбрести в голову, как оно начинало свербить внутри. А тут уж не до сна. Так вот теперь его раздражал этот семафор, этот взбесившийся одноглазый карлик, которого обуял тик, и спасу от него не было, как ни крутись. И Марковальдо, обессиленный и опустошенный, мог только пялиться на это миганье да повторять про себя: «Эх, как бы сладко я сейчас спал, коли б не эта напасть! Ох, уж и поспал бы я!» Он прикрыл глаза, под веками пульсировало желтое бельмо, зажмурился — вспыхнула целая дюжина семафоров, открыл — и вот он, гад! Делать нечего, надо встать: чем-нибудь, а следовало прикрыть это безобразие. Он пошел к памятнику генералу, осмотрелся. У подножия стоял лавровый венок, еще довольно густой, но теперь уж высохший, и листья на нем облетели так, что просвечивали прутья, с широкой полинявшей лентой: «Уланы 15-го эскадрона в честь годовщины славной победы». Марковальдо вскарабкался на пьедестал, подтянул вверх венок и привязал его лентой к сабле генерала. Как раз в это время ночной сторож Торнаквинчи, совершая положенный ему по службе объезд, верхом на велосипеде вырулил на площадь. Марковальдо шмыгнул за статую. Торнаквинчи заметил, что тень от памятника движется, 113 и притормозил, весьма озадаченный. Он дотошно осмотрел лавровый венок, прикрученный к сабле, понял, что что-то тут не то, но не понял, что именно. Он направил луч от велосипедного фонаря вверх, вслух прочитал: «Уланы 15-го эскадрона…», одобрительно кивнул и продолжил объезд. Чтоб дать ему отъехать подальше, Марковальдо снова принялся кружить по площади. На соседней улице ремонтная бригада рабочих занималась заменой трамвайных рельсов. Ночь, пустынные улицы, кучка людей, окутанная сверканьем газосварки, голоса, которые звонко отскакивали от мостовой, а потом гасли — все носило печать таинственности, вроде как тут чего-то варганят гномы или тролли, такое, чего дневные обитатели не должны ни знать, ни видеть никогда. Марковальдо подошел к ним, постоял, поглазел на снопы огня, на движения рабочих, в голове было мутно, да и глаза опухли от недосыпу — китаец китайцем. Он нашарил в кармане сигарету, чтоб взбодриться, но спичек не нашел. — Прикурить не найдется? — Вот этим? — буркнул сварщик, от которого во все стороны летели искры. Его напарник встал, протянул ему зажженную сигарету. — Тоже в ночную смену? — Да нет, в дневную. — А чего ж на ногах в такой час? Мы и то скоро сворачиваемся. Марковальдо побрел обратно на скамейку. Прилег. Теперь семафора видно не было, можно наконец и поспать. Однако ж, если до того он как-то не очень обращал внимания на шум, теперь это жужжание, эти пыхтения и безостановочный скрежет и визжание просто вязли в ушах. Нет звука более пронзительного и противного, чем от газосварки, будто кто стекло пережевывает. Марковальдо свернулся калачиком на скамейке, уткнул лицо в сплюснутую подушку, замер, зажмурился, но толку от этого не было. Концерт продолжался, а ему живо рисовалась вся сцена сварки: вспышки огня, золотые брызги искр, люди на корточках в сварочных закопченных намордниках, пистолет автогена, дрожащий веер огненных узоров, ореол тени вокруг тележки с инструментами, сверху которой башенка лесов, которая касалась нижних веток. Он открыл глаза, потоптался вокруг скамьи, глянул сквозь ветви на звезды. Там, в вышине, в кущах, воробьи видели свой десятый сон. Да! Совсем другое дело спать как птичка Божия — голова под крылышком, в горнем мире, в кронах, и мир этот парит над земными делами, а нижний мир едва угадывается внизу, копошится там, далеко… Иной раз стоит только прицепиться к какой-нибудь ерунде — насчет того, к примеру, что тут что-то жмет да там колет, и бес его знает, до чего оно может довести. Марковальдо вдруг почувствовал, что для того, чтоб заснуть, ему надо чего-то такого, он и сам не знал, чего, но… надо позарез. Вынь да положь ему теперь не просто покой и тишину, а с оттенками. Подай какой-нибудь мягонький такой шумок, и с ветерком. И чтоб веял бы он со сто- 114 роны вон того, допустим, кустарника. А не то хорошо, скажем, журчанье воды. На манер ручейка. Такого, когда бежит он себе из родничка: лужок, травка… Сначала оно, вот это самое, работало вполсилы, потом вошло во вкус, набрало обороты, наконец стало невмоготу, и он опять встал со скамейки. Да и не то чтоб мысль — от бессонницы в голове звенело, будто кто саданул по пустой бочке. Если б кто захотел, то не смог бы нащупать в его мозгах даже легкого намека на мысль. Однако некий смутный образ, размытое воспоминание бродило в извилинах, крутилосьвертелось, как марево, и оно неким образом имело связь с водою, с ее безмятежным, Рисунок Ф. Самарина однозвучным бегом. И в самом деле, неподалеку торчал фонтан, блестящий образец скульптурной мысли и гидравлики, с нимфами, фавнами, русалками, которые аллегорически сучили в воздухе всеми чреслами, путаясь в мраморных водопадах и струях. Загвоздка: воды в фонтане ни капли — по ночам летом, ввиду изношенности водопровода, его отключали. Марковальдо, как лунатик, принялся топтаться вокруг фонтана, пока инстинкт не подсказал ему, что раз есть фонтан, то где-то тут должен быть и кран. Кто ищет, тот всегда найдет, даже с закрытыми глазами: Марковальдо нащупал вентиль, крутанул, и из всех раковин, бород, ртов, из конских ноздрей и всего прочего взмыли ввысь мощные струи. Искусственные стремнины затрепетали искрящимися мантиями, и вся эта вода зазвучала подобно грандиозному хору на большой и гулкой площади — всеми шорохами и шелестами, которые вода вообще может воспроизвести. Ночной сторож Торнаквинчи, который мрачнее тучи, не слезая с велосипеда, подкладывал визитки под двери, при виде рванувшего вверх водяного фейерверка чуть не хлопнулся с седла. Марковальдо, стараясь не раскрывать глаз больше, чем надо, чтоб удержать тончайшую нить сна, который он вот уж, кажется, и ухватил, засеменил к 115 скамейке. Вот теперь-то, нарисовав себя будто бы у самого краешка потока, в лесочке, он уснул как убитый. И приснилось ему, что сел он обедать, а блюдо перед носом закрыто крышкой, чтобы паста не остыла. Он снял крышку, но вместо пасты на дне валялась дохлая мышь, которая источала жуткое зловоние. Тут он глянул на тарелку жены, а там еще один мышиный труп. И перед детишками тоже стояли тарелки с мышами, правда, малюсенькими, но тоже очень вонючими. Потом он будто бы снял крышку с кастрюли, а там здоровенный пузатый кот, который вдруг издевательски звонко пукнул, и уж этой-то вонью сон как ветром сдуло. Недалеко от фонтана стоял грузовик, в который обыкновенно загружают мусор и всякие отбросы. В неясном свете фонарей просматривался подъемный кран, который поднимал вверх урны и баки, на самой вершине мусорной горы маячили человеческие тени, там вручную опорожняли контейнеры, подвешенные над кузовом, вываливали мусор, утрамбовывали его лопатами, сопровождая все это глухими командами под скрежет крана: — Майна… Вира… Трави, мать ее… Потом что-то звякало, бухало, начинал работать мотор, грузовик медленно отъезжал, тормозил, и все начиналось сначала. Но для Марковальдовского сна вообще всякие шумы теперь, ввиду фонтана, были вне зоны доступа, а эти к тому же, хоть в натуре и корявые, словно кто ложкой скреб по дну горшка, были рыхлыми, приглушенными, будто их кто в облако закутал, может, оттого, что мусор был здорово утрамбован в фургоне. Зловоние! Вот что не давало заснуть. Не просто вонь, а вонища, с вывертом, с коленцами, обостренная, можно сказать, невыносимой идеей вони как таковой. А перед этой идеей бледнели все шумы и скрежеты, тем паче отдаленные и приглушенные, и самый образ прожектора на автокаре с краном воспринимался мозгом не иначе как воплощение вони, ее квинтэссенция, метафора и гипербола. И Марковальдо сник, напрасно вызывая из глубин сознания фантом аромата воображаемой розы. Ночной сторож Торнаквинчи покрылся холодным потом, когда перед ним мелькнула тень чего-то человекоподобного, которое шустро засеменило на четвереньках по газону, быстро нащипало лютиков и испарилось. Торнаквинчи рассудил, что тут речь, видно, может идти либо о собаке (а это в ведении службы по отлову бродячих псов), либо о приступе лунатизма (а это дело психиатров), либо это оборотень — тут насчет компетенции было туманно: кто-нибудь да отвечает, но уж точно не он, и Торнаквинчи поднажал на педали. А Марковальдо между тем в своем гнездышке комкал и мял прямо перед носом пучок лютиков, утешая обоняние: толку никакого, потому что эти цветочки почти не имеют запаха. Но, однако ж, аромат росы, земли и скошенной травы примятой отозвался в ноздрях его бальзамом. Идея фикс гниющего мусора сгинула, и мученик вырубился. 116 Светало. Пробуждение было внезапным: небо просто вдруг распахнулось над ним, сразу хлынуло солнце, оно сначала вспыхнуло, прожгло листву насквозь, ослепило мир своими лучами, но мало-помалу белый свет опять обрел свои очертания. Тут бы малость поваляться, понежиться бы. Но не все коту масленица: ледяной озноб швырнул его вверх — потоки, струи и брызги из шланга обрушились на него подобно рекам вавилонским, потому что садовники городские взялись поливать газон. А вокруг уж дребезжали трамваи, рычали грузовики, тарахтели ручные тележки и разнообразные фургоны, рабочие на мотороллерах и мопедах неслись на фабрики, гремели жалюзи магазинов, хлопали ставни на окнах, сверкали окна и витрины. Со сплющенным лицом и глазками в щелочку, с онемевшей спиной и намятыми боками, Марковальдо потрусил на работу… Перевод с итальянского Фёдора Самарина 117