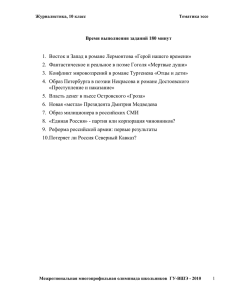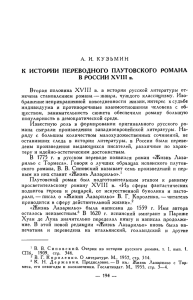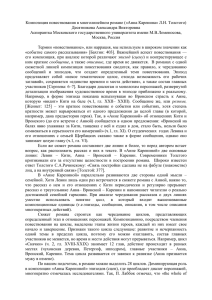О границах интерпретации и o значениях Анны Карениной
реклама
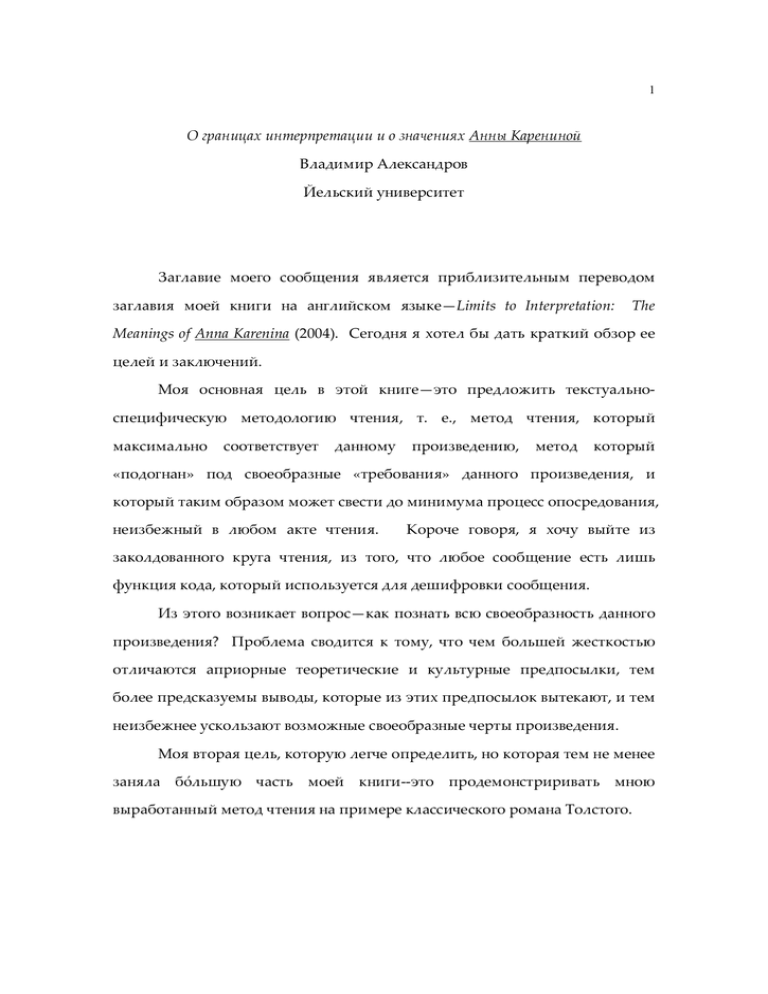
1 О границах интерпретации и o значениях Анны Карениной Владимир Александров Йельский университет Заглавие моего сообщения является приблизительным переводом заглавия моей книги на английском языке—Limits to Interpretation: The Meanings of Anna Karenina (2004). Сегодня я хотел бы дать краткий обзор ее целей и заключений. Моя основная цель в этой книге—это предложить текстуальноспецифическую методологию чтения, т. е., метод чтения, который максимально соответствует данному произведению, метод который «подогнан» под своеобразные «требования» данного произведения, и который таким образом может свести до минимума процесс опосредования, неизбежный в любом акте чтения. Короче говоря, я хочу выйте из заколдованного круга чтения, из тогo, что любое сообщение есть лишь функция кода, который используется для дешифровки сообщения. Из этого возникает вопрос—как познать всю своеобразность данного произведения? Проблема сводится к тому, что чем большей жесткостью отличаются априорные теоретические и культурные предпосылки, тем более предсказуемы выводы, которые из этих предпосылок вытекают, и тем неизбежнее ускользают возможные своеобразные черты произведения. Моя вторая цель, которую легче определить, но которая тем не менее заняла бóльшую часть моей книги--это продемонстриривать мною выработанный метод чтения на примере классического романа Толстого. 2 Что подтолкнуло меня на этот проект? Я выработал свою методологию в оппозиции к двум широко распространенным тенденциям среди литературоведов в США, и на западе вообще. Первая из этих тенденций—это их априорная зависимость от многочисленных идеологий, заимствованных из таких областей как философия, политика, рассовая теория, исследования пола, пост-колониальные исследования, и т. д. Вариант этой тенденции—взгляд, что совершенно тщетно стараться выйти из такого заколдованного «идеологического» круга так как мы все всегда обречены на проекцирование тех понятий, которые в нас заложены на все, что нас окружает. Результат этой тенденции—идеологически окрашенный подход к литературным произведениям, который, по моему, неизбежно умаляет их ценность и культурное значение. Вторая тенденция, которой я тоже хочу противостоять, это императив, испытываемый очень остро большинством литературоведов-вырабатывать новые интерпретации известных литературных произведений. Чаще всего, погоня за новизной и оригинальностью в интерпретации приводит к искажениям значений произведений, к мелочным спорам и к упрощенному пониманию сложных литературных явлений. Взамен этой тенденции, которая основана на оппозиционном или диалектическом подходе к литературному анализу, я предлагаю метод чтения, который старается определить каким образом данное прозведение может оновременно мотивировать множество интерпретаций--просто расходящихся или даже противоречивых, и без обращения внимания на то, являются ли отдельные интерпретации «старыми» или «новыми» в истории воспряития данного произведения. Меня интересует не уникальная интерпретация произведения, а проект создания карты возможных 3 интерпретаций. Но это не значит, что я допускаю анархическую возможность, что любая интерпретация данного произведения может быть приемлемой. Так же как карта подразумевает границы, так же есть границы в интерпретации. Проблема познания «другости» текста (т. е., того, что делает его своеобразным, уникальным, или «другим») является лишь частным случаем более широкой проблемы--познания другости вообще. Из этого следует, что было бы полезным подойти к проблеме «заколдованного круга» чтения не только с точки зрения исключительно литературоведческих и литературо-теоретических предпосылок, но и более широких соображений. В человеческом опыте самый яркий и основной пример другости это «другой» человек. Таким образом, мне кажется возможным провести аналогию между чтением и диалогом, так как диалог является самым прямым и основным способом общения между индивидуумами. А из этого неизбежно следует, что также нужно учесть ряд соображений этического и психологического характеров, так как этика и психология явно имеют прямое индивидуумами. отношение к проблеме общения между Как я сейчас постараюсь объяснить, эти добавочные соображения демонстрируют, что познание чужого или чуждого не только возможно, но обязательно и даже неизбежно в человеческой культуре, включая акт чтения. Мало кто усомнится в нравственной обязанности максимально точно воспринять мысль собеседника, пусть даже поначалу она кажется 4 совершенно чуждой или абсурдной. В противном случае, будь это из-за невнимательности, или из-за стремления использовать слова собеседника для своих собственных целей, не только возникают разного рода недоразумения, но высказывающийся субъект лишается немалой доли своего духовного суверенитета. Естественно, я исхожу из представления об абсолютной самоценности любого человеческого существа, каковое, можно утверждать, лежит в основе большинства современных либеральных обществ—по крайней мере теоретически. Конечно, понимание столь многогранного высказывания, как произведение литературы, сопряжено с куда большими затруднениями, чем понимание собеседника. Однако нравственные основания в обоих случаях одни и те же. Раз язык отличительное свойство человека, стало быть, все слова, пусть даже написанные, остаются высшим выражением некоего «я». Вопреки утверждению Ролана Барта о смерти автора, мало кто из наших современников старается последовать примеру Толстого, отказавшегося от авторского права на собственные книги и от гонораров, за них причитающихся. С точки зрения самоценности всякой человеческой личности, надобность понять высказывание на его собственных основаниях, в том смысле, который важен самому говорящему, и при всей ее трудности--такая задача остается моральным императивом. Это, в сущности, категорический императив Канта. Эта этическая позиция находит поддержку в области когнитивной психологии в том виде, в котором она развивалась в двадцатом веке. Например, познание «чуждого» или «другого», будь то неодушевленный предмет или личность, лежит в основе системы, созданной известным русским психологом Львом Выготским. Его американский последователь 5 Джером Брунер также выдвигает «конструктивистский» взгляд на человеческое развитие, как процесс познания и использования в новых сочетаниях уже существующих знаковых систем, т. е. языка. образуют в Концепция своей совокупности человеческого то, развития, что называют базирующегося Это и «культурой». на языке и необходимости «другого» для становления личности, находит дополнительную поддержку в теории нейрофизиолога, Нобелевского лауреата Джералда Эделмана. Все эти системы, выстроенные Выготским, Брунером и особенно Эделманом, напоминают концепцию диалога, разработанную Михаилом Михайловичем Бахтиным, которая, как известно, возникла на границах психологии, эпистемологии и теории языка. Она так же базируется на признании взаимосозидательной роли собеседников и так же рассматривает личность исключительно в ее словесном взаимодействии с «другим». Связь, которую психологические теории устанавливают между развитием личности и семиозисом, находит дополнительную опору в фундаментальных построениях таких крупнейших теоретиков языка и смыслообразования, как Соссюр, Пирс, Якобсон и Эко. В целом, все четверо сходятся на том, что минимально необходимым условием для смыслообразования является создание связи между двумя разными явлениями, будь то означающее и означаемое, знак и его объект, выражение и содержание, или два знака. На все эти темы много писал в последние годы своей жизни Юрий Михайлович Лотман. Одна из ключевых его идей состоит в том, что мысль, подобно смыслу, может возникнуть лишь в результате взаимодействия двух 6 личностей — через осознание другости и попытку выразить ее в терминах, уже находящихся в распоряжении личности, т. е., в языке. Вслед за Бахтиным, Лотман рассматривает сознание как «глубоко диалогическое» и утверждает: «чтобы активно работать, сознание нуждается в сознании». Особую ценность представляет собою лотмановская идея «непереводимости» различных языков, ибо в ней выражена ключевая роль другости в формировании того, что мы понимаем под «смыслом». «Непереводимость» не следует толковать как полную невозможность перевода, ибо ясно, что в таком случае между языками не могла бы вспыхнуть даже искорка смысла. Как говорит Цветан Тодоров, «любой анализ другости имеет с неизбежностью семиотический характер, точно так же, как семиотика непредставима вне контакта с другим». Таким образом, вслед за Лотманом можно в целом утверждать, что условия для формирования смысла всюду неизменны—внутри знака, между знаками, между фразами или изречениями, между языковыми подразделениями вроде диалекта или жаргона, между индивидуумами и, наконец, внутри того, что мы называем сознательной личностью. Следовательно, можно также утверждать, что соприродный нашей культуре нравственный императив, обязывающий признавать независимость другого, находит себе параллель в той роли, которую другой играет в психологических концепциях формирования личности; а они в свою очередь отражаются в наборе условий, необходимых для «означения» чего бы то ни было. Из этого следует, что безнравственность есть сдвиг внимания от другого к себе и последующее превращение другого в продолжение себя. Это напоминает многие современные идеологически мотивированные литературные теории. Как выразился на 7 эту тему Франк Лентрикия, когда объяснял почему он решил перестать заниматься литературной теорией: предскажу заранее, что вы «Назовите мне вашу теорию и я скажете о любом литературном произведении--в особенности о тех, которое вы еще не прочитали». Теперь я хочу перейти к Роману Осиповичу Якобсону и его известному анализу речевого акта. По-моему, именно этот анализ подсказывает способ, как перейти от диалога к анализу другости текста. Понять собеседника конечно не значит просто уловить поверхностное содержание его высказывания. Согласно известной формуле Якобсона, любому акту вербальной коммуникации присущи шесть языковых «функций», каждая из которых отражает черты шести элементов неизбежно участвующих в данном акте--говорящего, адресата, контекста сообщения, самого сообщения, контакта между собеседниками и, наконец, кода, в рамках которого совершается коммуникативный акт. Якобсон утверждает, что эти функции носят универсальный характер, они соприродны любому языку. Хотя в любом высказывании можно отыскать следы всех шести функций, реально проявляют себя, как правило, лишь некоторые из них, а доминирует одна; специфическое значение той или иной функции выявляется в ее взаимодействии с другими. Практический результат обращения к лингвистическим кодам, или к тому, что Якобсон называет «металингвистической функцией» языка, состоит в обнаружении культурно обусловленных семантических полей, из которых говорящий выбирает определенные слова, фразы и сопутствующие им идеи, что в совокупности и порождает высказывание. 8 Таким образом, восприятие «металингвистической функции» является необходимым и, как правило, естественным последствием сосредоточенности слушателя на денотативной или референциальной стороне высказывания. Иными словами, сосредотачиваясь на кодах высказывания, слушатель с неизбежностью раскрывает хотя бы некоторые из контекстов, нужных для понимания данного высказывания. Далее, обращаясь к взаимодействию кодов внутри данного высказывания, слушатель не только обнаруживает его смысл, но и улавливает процесс формирования смысла, независимо от того, глубок он или поверхностен, очевиден или потаен, ограничен тем или иным предметом или универсален и т.д. Короче говоря, если игнорировать «металингвистическое» измерение дискурса, собеседник просто не может быть понятым. Теперь перейдем к методологии литературного анализа, который вытекает из этих соображений. Центральным понятием в этой методологии, это то, что я называю «герменевтическими указателями». «Герменевтические указатели»--текстуальные моменты, являющиеся версиями якобсоновской «металингвистической функции». Т. е., это языковые конструкции, отличительная черта которых то, что они состоят из «стыка» или сопоставления семантически отдаленных значений. образом, они похожи на перекодировку, которая Таким характеризует «металингвистическую функцию» но являются шире и разнообразнее этой функции. Эти конструкции «герменевтичны», ибо имеют отношение к общим условиям формирования смысла; а «указателями» их можно назвать потому, что они определяют направления, по которым этот смысл 9 складывается. Образно говоря, герменевтические указатели являются знаками текстового самосознания. Простейшая форма герменевтического указателя, как всегда при зарождении смысла, складывается при условии взаимодействия двух семантических единиц. Далее, имея в виду характер литературного произведения как сложного переплетения различных высказываний, индивидуальные указатели неизбежно входят в смысловой контакт с другими указателями, в результате чего действие одного указателя распространяется на весь текст. Я хотел бы сейчас кратко проиллюстрировать, как можно использовать герменевтические указатели для прочтения романа «Анна Каренина». То что я буду говорить будет конечно весьма схематичным, так как анализ всего роман в моей книге занимает больше двухсот страниц. Сначала несколько отдельных примеров. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». целый пучок указателей, Это знаменитое начало романа создает которые порождают у читателя подбор герменевтических ожиданий. В частности, особый упор делается на семью как базовую единицу (Толстой не говорит «все счастливые люди похожи друг на друга»). Причем это единица, которая подразумевает «естественную» внутреннюю связь, т. е., взаимоотношения мужчин, женщин и детей, а не просто индивидов. Более того, похожесть обретает особую цену в свете того, что неповторимость и ее синонимы — оригинальность, индивидуальность, все исключительное — скрыто понижаются эпитетом «несчастлива». Все эти возможности по разному развиваются на протяжении романа. 10 Вот еще один, не столь явный, но не менее значительный, указатель. В ходе действия романа Анна говорит, что у нее есть две возможности— или сохранить женскую привлекательность в глазах Вронского, «или быть беременною, то есть больною». Беременность как болезнь — это уподобление показывает, как далеко Анна отошла от идеала домашней, семейной жизни, которую Толстой воплощает в судьбе Кити и Левина. Однако вот удивительный факт, которого не упустит читатель, внимательно приглядывающийся к герменевтическим указателям в романе: столь извращенную, казалось бы, подмену понятий совершает и Кити, вернее, повествователь по ее поводу: «Доктор подтвердил свои предположения... Нездоровье ее была беременность». Такое совпадение, конечно, не уничтожает нравственного и характерологического различия между двумя персонажами; помимо всего прочего, Кити, в противоположность Анне, счастлива своим положением. И тем не менее перекличка между эпизодами намекает на глубинную связь между героинями, что подтверждается общими рассуждениями повествователя об определенной женской натуре и другими подробностями. При этом он отклоняется от пронизывающей роман темы моральной ответственности, связанной с темой божественного воздаяния, как указано в эпиграфе романа. Герменевтические указатели могут иметь и металитературный характер. Почти в самом начале «Анны Карениной» возникает мотив чтения. Долли попадает на глаза записка Стивы гувернантке, из которой становится очевидно, что у них любовная связь. И хотя повествователь говорит о записке, как имеющей совершенно определенное значение—«с несчастною, открывшею все, запиской»—Долли ведет себя так, будто не может вполне понять ее смысла, и обращается к мужу за объяснениями. Другими словами, она так растеряна, что полагается на опосредующую 11 реакцию Стивы, на ложный код, который он может предложить для расшифровки записки, и который она может принять вместо бесспорного смысла самой записки. К несчастью для Стивы, его невольная физическая реакция в этой сцене ведет к разрыву. Но если бы, замечает повествователь, он повел себя иначе, возможно, что ему удалось бы представить содержание записки так, что это отвечало бы внутреннему стремлению Долли закрыть на нее глаза. Таким образом, судя по этому примеру, акт чтения превращается в чистую условность. внутри романа, который И так как этот пример находится пытается высказать целый ряд сложных соображений о жизни, то возникает попутный вопрос: воплотим и передаваем ли даже очевидный смысл в вербальной форме? И, стало быть, насколько можно доверять моральной дидактике самого романа, выраженной в его знаменитой первой фразе? Эта металитературная тема также развивается на протяжении романа и перекрещивается с метаэстетической в главах о живописи Михайлова. Как показывают эти примеры, индивидуальные указатели являют собою молекулярный уровень образования романного смысла. Выявляя их с максимальной полнотой и прослеживая существующие между ними внутренние связи, продвигаешься к раскрытию сложных закономерностей и противоречий, Герменевтические которые указатели и в порождают смысл таком сложном произведения. романе как «Анна Каренина» не дают, как правило, единственных ответов на все вопросы, порождаемые текстом. Они скорее очерчивают его смысловые зоны и устанавливают границы возможных интерпретаций. Что показывают герменевтические указатели в «Анне Карениной», 12 взятые в их совокупности? Если систематически интегрировать все многие сотни этих моментов, то можно прийти к нескольким выводам. На мой взгляд, пожалуй самый важный вывод такого анализа, это что все персонажи оказываются как бы замкнутыми в свою собственную личность. В результате, роман представляет собой коллекцию разрозненных точек зрения, факт который препятствует возможности найти какие бы то нибыло формы тематической последовательности или целостности на протяжении всего текста. Даже когда персонажи сходятся на эмоциональной почве, как Стива, который часто налаживает поверхностно дружеские отношения со многими окружающими, или как Каренин с Анной во время ее болезни, или когда персонажи влюбляются--все эти разные образы сближения всегда кончаются отчуждением. Эта черта романного мира усугубляется тем фактом, что повествователь высказывает свои суждения по поводу разных веских тем и вопросов, которые фигурируют в жизни персонажей относительно сдержанно. В отличии от многих других романах, как самого Толстого, так и других авторов 19-го века, повествователь в «Анне Каренине» избегает роль последовательного судьи и решающего авторитета по отношению ко многим важным темам, которые в романе выдвигаются. Эта доминирующая черта романного мира имеет важные последствия для других центральных тем, которые Толстой в нем развивает. На первом месте—тема нравственности. Все персонажи задумываются над добром и злом и над тем как они себя ведут при нормальных и необыкновенных обстоятельствах. Но из-за того, что эти соображения всегда переломляются через личные и ограниченные взгляды на жизнь данных персонажей, то понятия добра и зла, которые проявляются в результате, оказываются опосредованными и таким образом 13 относительными (вспомните, например, отказ Кити от самопожертвования в Содене). То же самое можно сказать о спонтанных этических импульсах, которые многие персонажи испытывают, когда они слышат голос совести или переживают что либо похожее (как, например, Стива, когда ему не охота идти мириться с Долли из-за того, что он просто ее разлюбил). В результате, мы находим в романе существенный разрыв между теми ценностями, которыми движимы персонажи и теми, казалось бы непреложными этическими принципами, которые провозглашаются библейским эпиграфом из Святого Павла и периодическими замечаниями повествователя. Пример Каренина это иллюстрирует особенно наглядно. Он обращается к Библии больше чем любой другой персонаж, но его отрицательная личность подрывает те учения, которые он цитирует. Причем есть параллель между верой Каренина и новой верой Левина, которую он обретает в конце романа, и которая действует как финальный аккорд для всей этической темы романа. Если присмотреться, то вера Левина оказывается основанной на таких же самых интуициях, как те, которые испытывает Каренин. Это лишь одна из подробностей, которые ставят под ворпос авторитетность и убедительность того нового моральнорелигиозного убеждения, к которому приходит Левин, и которым роман кончается. До какой-то степени, Анна может казаться исключением по отношению к теме опосредованной морали. Ее чувство виновности, ее страдания и ее смерть как бы вписывают ее в мир нравственности, в котором она наказывается за ее преступление против религиозных и общественных законов, включая запрет Святого Павла против личной мести. Но этой мнимой справедливости того, как Анна кончает в романе, противостоят другие важные показатели, относящиеся к ее 14 скомпрометированному сватовству и принужденной женитьбе, и к ее характеру. Причем нужно учесть, что Толстой в этом романе преподносит человеческий характер как определяющий личную судьбу (факт отраженный в том, что все персонажи всë видят по-своему и себя существенно переделать не могут). Это можно проследить почти во всех главных персонажах—Анне, Каренине, Стиве, Левине, Китти; пожалуй Вронский является единственным исключением. В результате, совсем не ясно, что в романном мире вообще есть достаточно личной свободы для того, чтобы персонажы были бы способны делать моральные выборы и существенно менять свое поведение. Это впечатление увеличивается в результате того, что роман можно рассматривать, как воплощающий мировоззрение, в котором действует рок или судьба. В тексте есть повторяющиеся образы, которые касаются снов Анны и Вронского, того как время по разному протекает в двух главных сюжетных линиях, и ряда других деталей. Эти повторы можно связать с двумя главными парами персонажей таким образом, что создается впечатление, что персонажи подвластны какой-то потусторонней силе, котороя торопит Анну и Вронского к трагическому концу и награждает Кити и Левина медленно протекающим временем. Причем, не одна Анна это туманно чувствует. У Левина тоже есть моменты вроде прозрения в потаенную суть вещей—когда он присутствует при смерти брата, или впервые видет новорожденного сына, или чувствует, что женщинам дано понять многое о смерти, что закрыто для мужчин. Все это соответствует «роковому» прочтению романа, потому что подталкивает на мысль, что есть скрытое измерение или сила, которые как-то влияют на земное. Но в «Анне Карениной» всегда можно найти подробности, которые противоречат любой теме или узору—и отстутстие таких «роковых» 15 деталей в жизне других персонажей привносит долю неуверенности в любую попытку объяснить роман исключительно метафизически. Также нужно учесть тот факт, что текстуальные узоры--т.е., определенная упорядоченность подробностей в тексте, которая может трактоваться как признак рока--присуща любому художественному произведению (хотя конечно далеко не каждое произведение открыто выдвигает тему судьбы или предопределенности). Тема искусства в «Анне Карениной» также противоречива. Толстой дает художнику Михайлову ряд интуиций, которые создают впечатление, что его картины получают свое начало в трансцендентальном мире. (Причем ряд повторяющихся образов в романе также намекает на то, что этот мир связан с преображением Кити на кануне ее родов). Но персонажи в романе так по разному воспринимают произведения искусства Михайлова (и вообще все семиотические объекты, включая музыку и словесные тексты), что весомость или авторитетность возможного метафизического происхождения его искусства—то что он вдохновлен чем то квази-божественным--распыляется или становится не существенным. Причем, стоит учесть, что крайне относительное восприятие исскуства разными персонажами паралельно тому как они все по-своему проявляют свои ценности и воспринимают мир. Неизбежность личной точки зрения в «Анне Каренине» в свою очередь влияет на то, как изображается общественная и коллективная жизнь. Братство единоверующих, на которых Левин ссылается в конце романа, является лишь интеллектуальной абстракцией, которая оттеняет насколько все коллективы или группировки размером больше семьи или артели ассоциируются в романе с безнравственностью. Большинство устойчивых современной, учреждений и коллективов, связанных с 16 элитарной, и в особенности городской культурой окрашены отрицательно. Почему? Потому что в мире Толстого такие учреждения и коллективы влияют отрицательно на отдельную личность тем, что они затмевают личное суждение, личную точку зрения. Таким образом мы опять возвращаемся к проблеме--как соотнести личные суждения и ценности с коллективными или универсальными? А такое соотношение, казалось бы, должно было бы быть краеугольным камнем любой морали. Как я постарался показать в этом кратком обзоре, «Анна Каренина» может рассматриваться как набор прочтений, которые расходятся и даже противоречат друг другу, но которые тем не менее вращаются вокруг одной парадоксальной центральной темы--противопоставления личной правды и универсальной правды. Я не думаю, что есть возможность разрешить эту проблему выбором только одной «правды», так как слишком много примеров каждой из них, чтобы можно было бы одну отбросить. В связи с этим показательно, что роман кончается на аналогичной парадоксальной ноте, когда Левин вдруг понимает, что тщетно ограниченному смертному, как он стараться понять божественное. Все на что он может надеяться это стараться делать добро, а это он понимает, как предлог продолжать жить по-старому (т. е., перемена опять не возможна). В романе есть моменты, когда повествователь сам осознает неизбежность этой проблемы-- например, когда он подчеркивает насколько вера Каренина поверхностна, и одновременно ее прощает и критикует. Я хотел бы закончить следующим соображением. По-моему, расходящиеся возможные прочтения «Анны Карениной», в особенности по отношению к проблеме правды и морали, вероятнее всего отражают то 17 кризисное духовное состояние, в котором Толстой пребывал в конце 1870-х годов, и предвещают его духовный перелом, связанный с «Исповедью». Но я отнюдь не рассматриваю внутреннюю противоречивость этого романа как его слабость. Наоборот--переслаивающиеся расходящиеся прочтения создают базу или фон для создания чрезвычайно богатого набора возможных значений, и конечно, гораздо более богатого, чем если бы в романе все темы развивались последовательно. Таким образом, «Анна Каренина» является превосходным генератором или стимулум мысли, причем мысли направленной по определенным руслам теми центральными проблемами, которые Толстой в романе драматизирует, но которые он не может полностью разрешить. И в этом, мне кажется, главная роль литературы вообще в нашей культуре.