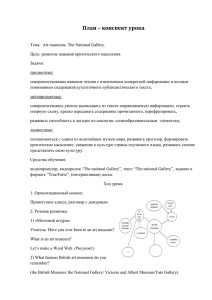Воспоминания о Марке Ротко
реклама

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, 2011 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, 2011 Ирвинг Сандлер Воспоминания о Марке Ротко Выставка тринадцати великих произведений Марка Ротко (1903–1970), открывшаяся 23 апреля 2010 года в московском Центре современной культуры «Гараж», пробудила воспоминания о моей дружбе с художником. Экспонируемые абстрактные полотна относятся к разным периодам его творчества, начиная с «мультиформ», созданных в 1949 году, когда Ротко заявил о себе как о вполне сложившемся художнике, и заканчивая глубоко трагичным «Пейзажем», написанным в 1970-м. В молодости мне, начинающему критику, посчастливилось наблюдать воочию за эволюцией абстракционизма Ротко – с 1956 года, когда мы познакомились, и до последних дней его жизни. Я записал шесть интервью с рассуждениями Ротко о творческих мотивациях и идеях. Без названия. 1955 Холст, масло 157,5 × 137,2 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк Untitled. 1955 Oil on canvas 157.5 × 137.2 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York 98 конце 1950-х мы частенько виделись в сквере нью-йоркского Музея современного искусства (МОМА) недалеко от мастерской Марка. Иногда отправлялись перекусить в соседний китайский ресторан или сидели в кафе за чашкой кофе. Ротко не всегда охотно говорил о своей работе. Порой ему важнее было услышать мое мнение о его творчестве, узнать, каковы мои ощущения. Это Марка действительно интересовало. Он мог неожиданно уйти в себя, полностью погрузиться в свои мысли и отрешиться от происходящего, но временами становился общительным и оживленным, заигрывал с покровительственным видом с моей женой Люси, называя ее «блондинкой». Внешний вид Марка казался мне забавным. Бытует мнение, что авангардисты должны выглядеть растрепанно и диковато. Среди моих знакомых молодых художников такого не наблюдалось, разве что некоторые из них казались слегка небрежными. Ротко же всегда одевался подчеркнуто строго и на публике вел себя, как истинный буржуа. Думаю, он хотел развенчать существующий стереотип «безумного художника». Марк считал себя изгоем, и его отчуждение было столь велико, что влиять на поведение богемы он, конечно, не мог. Впервые увидев полотна Ротко, я был глубоко потрясен. Они до сих пор В ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 вызывают во мне благоговейный трепет, а ведь я видел его работы гораздо чаще, чем творения других художников-абстракционистов. В течение вот уже 30 лет я работаю в библиотеке лондонской Галереи Тейт и по вечерам, как правило, захожу в зал, где выставлены большие панно Марка, созданные для Сигрем Билдинг в Нью-Йорке. Эти отталкивающие красно-серые полотна превращают окружающее пространство в зловещую пелену, в которой ощущается холодное дыхание смерти. Во время наших бесед Марк рассуждал об искусстве, которое было бы одновременно наполнено трагизмом и существовало бы вне времени. Ему удалось создать такое искусство... В 1940–1948 годах Ротко опубликовал несколько статей о своем творчестве. Затем он перестал печататься, но уже в 1958-м стало очевидно, что его абстрактные произведения воспринимаются совершенно неадекватно и необходимо вновь обратиться к публике. К этому Марка побудила статья в ежегодном издании “Art News Annual”. Ее автор Элейн де Кунинг сравнивала Ротко с Францем Клaйном и называла его художником «спонтанной живописи действия». Марк написал письмо редактору с опровержением этого тезиса, а затем в Институте Пратта выступил по тому же поводу с речью, широко растиражированнной средствами массовой информации. Ротко категорически отверг попытку отождествления его творчества с «самовыражением», присущим Клайну. Он настаивал на том, что пытается своими картинами передать внутреннее состояние человека. По его словам, в созданных им картинах есть семь ингредиентов, которые «тщательно дозируются». Прежде всего в них присутствует «ясно выраженная идея смерти – указание на конечность жизненного пути». Следующим элементом по значимости является «чувственность... сладострастная близость с тем, что тебя окружает». Третья составляющая – напряженность. Четвертая – ирония – «ингредиент, возникший в наши дни: некое самоуничижение... желание не высовываться, позволяющее переключиться с себя на другую тему». А чтобы осознание смерти не было невыносимым, необходимы еще три элемента: «остроумие и игра», «мимолетность и случайность» и, наконец, «надежда». «Ее всего 10%, но именно эти 10% необходимы, чтобы выдержать трагическую сущность всей концепции». Марк воспринимал данный перечень с полной серьезностью, но была в нем и доля иронии по отношению к популярному в то время формальному анализу, вызывавшему у него отвращение. Ротко перечислял элементы человеческой природы так, как будто они являются измеримыми величинами, такими как линия, форма или цвет. Выступая в Институте Пратта, он представлял себя как художника, чья роль заключается не в поиске решений существующих проблем и не в экспрессионизме с выворачиванием души наизнанку, но в том, чтобы быть заинтересованным наблюдателем, представляющим и раскрывающим сущность состояния человеческой души под влиянием внутреннего голоса. «Я должен упомянуть прекрасный трактат Кьеркегора “Страх и трепет”, в котором говорится о жертвоприношении Авраама. Его поступок абсолютно уникален. Есть и другие примеры жертвоприношений, но то, на что готов был пойти Авраам, выходит за пределы понимания. До него никто не решался на подобный посту- № 16. 1960 Холст, масло 240,3 × 177,8 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк No. 16. 1960 Oil on canvas 240.3 × 177.8 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York пок. Это сродни тому, что делает художник». Когда вскоре после этого мы увиделись вновь, я рассказал Марку, что вопрос о жертвоприношении Авраама волновал и Франца Кафку. Кафка задавался вопросом, что было бы, если бы Авраам неправильно понял послание Бога. Представьте себе Авраама, который не исполнил волю Бога! Это сродни тому, как если бы лучшему ученику полагалось торжественное вручение награды в конце года, а вместо этого, ослышавшись, с задней парты вперед вышел бы худший ученик, и весь класс взорвался бы от смеха. Что было бы, если бы Авраам, неправильно поняв, что хочет сказать ему Бог, убил бы своего сына? Трудно представить себе что-то более гротескное! Марк согласился: «Да, риск был велик!» И хотя Ротко оставался непоколебим в своем убеждении, что живопись может нести бремя глубоких философских идей, он не был уверен в том, что эти идеи доступны пониманию всех зрителей. С одной стороны, вроде бы есть публика, которая хочет, чтобы с ней говорили на языке живописи так, как это делает он. С другой стороны, непонятно, зачем ей это нужно. На своей ретроспективной выставке в МОМА, проходившей в 1961 году, Марк нередко, взяв меня под руку, ходил следом за посетителями и подслушивал их разговоры, так ему хотелось узнать, что ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 99 THE TRETYAKOV GALLERY SPECIAL ISSUE 2011 SPECIAL ISSUE 2011 Irving Sandler Remembering Mark Rothko № 15. 1949 Холст, масло 170 × 104,4 Фото: Элен Лабенски Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк No. 15. 1949 Oil on canvas 170 × 104.4 cm Photo by Elen Labenski Courtesy The Pace Gallery, New York The show of 13 great paintings by Mark Rothko at the Garage Centre for Contemporary Culture in Moscow prompts me to recall my friendship with the artist. The abstractions range in date from a “multiform” of 1949, the year that Rothko arrived at his mature style, to a profoundly tragic “landscape” of 1970, the year of his death. As a young art critic, I was fortunate to witness at first hand the evolution of Rothkoʼs abstractions from 1956, when I first met him, to the end of his life, and to interview the artist about six times about his motivations and ideas. 100 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 n the late fifties, Mark was often to be found in the garden of The Museum of Modern Art, which was near his studio. We would have coffee or go out for a bite to a nearby Chinese restaurant. He was not always easy to talk to about his work. He would keep turning the conversation back to me. What did I feel and think about his work? Really feel and think. He could suddenly turn distant, seeming to be lost in some private reverie. At other times, he was very convivial, for example, flirting in an avuncular fashion with my wife Lucy, whom he called “Blondie.” Mark’s appearance amused me. Avant-garde artists were supposed to look disheveled. None of my young artist friends were, but at least they were somewhat scruffy. Mark was always soberly dressed and performed in public as a middle-class burgher. I believe he did so to counter the popular caricature of “the crazed artist.” He considered himself an outcast of society, too seriously alienated to affect bohemian poses. When I first saw Mark’s paintings I was immediately gripped by them. They still produce in me a frisson, even though I have seen his work more often than that of any other abstract expressionist. Every summer for some three decades, I have worked in the library of London’s Tate Gallery and at the end of most days, I have visited the room with Mark’s murals for the Seagram Building – all brackish reds and grays, emitting an atmosphere that turned the space into a shrouded and haunting environment, pervaded by intimations of death. In my conversations with Mark, he spoke of creating an art that was tragic and timeless. He succeeded. During the forties, Mark published occasional statements about his painting. In 1949, he stopped, but in 1958, he felt that his abstraction was so misunderstood that he had to speak up. The goad was an article in the Art News Annual by Elaine de Kooning which coupled him with Franz Kline and treated him as a kind of spontaneous action painter. Mark then wrote a letter to the editor rejecting her I thesis, and to further make his point, delivered a talk at Pratt Institute, which was widely publicized. He strongly denied any concern with the kind of “selfexpression” identified with Kline and insisted instead that he had a “message” about the human condition to communicate. His painting, he said, contained seven ingredients which he “measured very carefully.” Above all, it had to possess “a clear preoccupation with death – intimations of mortality.” Next in order (of quantity) was “sensuality... a lustful relation to things that exist.” Three: “tension.” Four: “irony. This is a modern ingredient – the self-effacement... by which a man for an instant can go on to something else.” And to make the consciousness of death endurable, five, “wit and play”; six, the “ephemeral and chance”; and seven, “hope, 10% to make the tragic concept more endurable.” Mark meant this listing to be taken seriously, but it was also an ironic gloss on the then fashionable formalist analysis, which he detested. He enumerated elements of human nature as if they were measurable quantities, just as line, form, and color were supposed to be. In his talk at Pratt, Mark presented his self-image as an artist. His function was not that of a formal problem-solver or a self-revealing expressionist but of a contemporary seer who, on the authority of an inner voice, envisions and reveals truths about the human condition. “I want to mention a marvelous book, Kierkegaard’s Fear and Trembling/The Sickness Unto Death, which deals with the sacrifice of Isaac by Abraham. Abraham’s act was absolutely unique. There are other examples of sacrifice but what Abraham was prepared to do was beyond comprehension. There was no precedent for such an act. This is like the role of the artist.” When I met Mark next I told him that Franz Kafka had posed a related question. Kafka asked, What if Abraham got God’s message wrong? An Abraham who comes unsummoned! It is as if the best student were solemnly to receive a prize at the end of the year, and the worst student, because he has misheard, comes forward from his dirty back bench and the whole class roars with laughter. An Abraham who misheard God and ended up killing his own son. How grotesque! Mark nodded and said, “Yes, isn’t that the risk?” If Mark was unshaken in his conviction that painting could bear the burden Эскиз для «Панно № 7» (Эскиз декоративного панно для Сигрем Билдинг) 1958–1959 Холст, масло 267 × 427,4 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк of profound meanings, he was of mixed mind as to whether these meanings were being grasped by any spectator. On the one hand, he remarked, there seemed to be an audience waiting for a voice like his to speak to them. On the other hand, he could not understand why. He was so curious about the response of visitors to his retrospective at The Museum of Modern Art in 1961 that he – often with me in tow – would follow them around, eavesdropping on their conversations. Rothko’s doubts were on my mind when I took a New York University adult education class to the retrospective. Pausing in front of an orange-yellow painting, one of Mark’s most “beautiful,” I asked my students, most of them affluent women, “Which of you would like to own this?” Без названия (Из цикла картин для капеллы Ротко в Хьюстоне) 1965 Холст, масло 290,2 × 456,9 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк Untitled (Rothko Chapel Related Painting). 1965 Oil on canvas 290.2 × 456.9 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York No one responded – to my surprise – for they were fairly sophisticated and sympathetic. “Most of you can afford to buy it, but in case money is a consideration, you can have the painting free.” No takers. I began to press the point. “Think of your living rooms and imagine this picture on a wall instead of your wall paper. Think of it as decor.” Silence. “How about redesigning the room around the picture?” No one would. I asked why? Members of the class answered that the picture was unnerving, upsetting. It made them uneasy. I then said, “Rothko would be delighted that none of you would accept his works, even this one, as decoration.” When I told him this story he was pleased. However, I said, “If the painting is not decorative, it is beautiful.” He nodded. Sketch for “Mural No. 7” (Seagram Mural Sketch). 1958–1959 Oil on canvas 267 × 427.4 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 101 SPECIAL ISSUE 2011 № 30. 1962 Холст, масло 114,3 × 267,3 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк No. 30. 1962 Oil on canvas 114.3 × 267.3 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York № 213 [?] (Эскиз росписи для офиса Общества стипендиантовисследователей Гарвардского университета). 1962 Холст, масло 175,3 × 152,7 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк No. 213 [?] (Harvard Mural Sketch). 1962 Oil on canvas 175.3 × 152.7 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York This is a revised excerpt from Irving Sandler’s book “A SweeperUp After Artists: A Memoir” (Thames & Hudson, 2003) 102 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, 2011 Later, I encountered a sentence of Nietzsche’s, “There are no beautiful surfaces without a terrible depth,” and I mailed it to Mark. There was a spiritual aspect to Rothko’s painting but it was enigmatic. It reminded me of the God that never appeared in Samuel Beckett’s Waiting for Godot. My friend, the painter Paul Brach, once said, “It's a kind of visual Bible. You stand before it in reverent contemplation and it intones, ‘Come back tomorrow and I'll reveal the secret of life and its mysterious import.’ You come back the next day and hear the same message.” One day in the fall of 1959, I met Mark on the street and he told me that he had just completed murals for the trendy Four Seasons Restaurant in the Seagram Building. He invited me to see them, and we walked over to his studio on the Bowery. A former gymnasium, it was a cavernous space in which he had built a mock-up of the restaurant in order to paint the murals in situ. We sat silent in the midst of these somber paintings. At one point he said, “Can you imagine rich people eating dinner surrounded by this work?” I envisaged businessmen glancing at the decor between sips of their three whiskey’s and pauses in their deal-making. It was depressing to contemplate. But Rothko had agreed to accept this commission in “the most expensive restaurant ever built,” according to its press release. I hesitated in answering but then allowed that I could not imagine the mural in the Four Seasons. He said, “Neither can I. I just sent their advance back to them.” It was a considerable sum, and I knew it hurt Mark to part with it. Shortly before Mark died, he invited me to his studio. There were a series of the “landscapes” on paper on one wall and an unfinished oil painting on an easel. Each of the pictures consisted of a horizon line that divided in two a ground of varied ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 grays. What did I think? I was very moved and told him so. “The pictures are without hope,” I said. He smiled his crooked smile and appeared to accept my comment. His subsequent suicide shocked but did not surprise me. In my catalogue essay for Rothko’s show at the Garage, I summed up the man and his art by quoting Robert Motherwell, who was both a leading abstract expres- sionist painter and a spokesman for the group. In 1957, Motherwell said to me, “In his seriousness and utter devotion to art, Rothko is... able to internalize whatever he finds illuminating in modern art more completely and originally than any of his fellow artists.” Motherwell concluded that, “Mark is the most profound human being of any American painter living or dead.” они думают. Я вспомнил о сомнениях, одолевавших Ротко, когда привел на эту выставку группу взрослых слушателей вечернего отделения Нью-Йоркского университета. Остановившись перед полотном в оранжево-желтых тонах – одной из самых «красивых» картин Марка, – я спросил своих экскурсантов (в основном состоятельных дам): «Кто из вас хотел бы иметь дома это полотно?» Никто не ответил, что очень меня удивило, поскольку все они были в достаточной мере интеллектуальны и благожелательны. «Большинство из вас могут себе позволить приобрести эту картину, но если проблема в цене, представьте, что вам она достанется бесплатно». Опять никакой реакции. Я перешел в активное наступление: «Представьте себе вашу гостиную и вообразите, что на стене не обои, а эта картина. Пусть она будет украшением интерьера». И снова тишина. «А как насчет того, чтобы переоформить интерьер, дабы он соответствовал этому полотну?» Никто не захотел. Я поинтересовался, почему. Мои слушательницы ответили, что эта картина подавляет, несет негативные эмоции. Они ощущали дискомфорт, стоя перед ней. Тогда я произнес: «Ротко был бы счастлив, что никто из вас не захотел иметь его работу, даже эту, в качестве украшения интерьера». Когда я поведал художнику об этом эпизоде, он казался чрезвычайно удовлетворенным. Я же заметил: «Если полотно не является декоративным, его можно назвать красивым». Он кивнул в ответ. Позднее я наткнулся на следующую цитату из Ницше: «Не существует внешне красивых вещей, лишенных истинной глубины» (дословно: «Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины»). Я отправил ее по почте Марку. В произведениях Ротко присутствует духовное начало, но оно всегда остается загадкой. Они напоминают мне Бога из книги Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», который так и не явился миру. Мой друг художник Поль Брак однажды сказал: «Это своего рода визуальная Библия. Стоишь перед ней в благоговейном созерцании и слышишь, как она говорит тебе: “Приходи завтра, и я открою тебе тайну жизни и ее мистический смысл”. Ты приходишь на следующий день и слышишь то же самое». Как-то раз осенью 1959 года я встретил Марка на улице, и он сообщил мне о завершении серии больших полотен для оформления модного ресторана «Четыре времени года» в Сигрем Билдинг. Он пригласил меня посмотреть их, и мы зашли в мастерскую на улице Боуэри. Это было просторное помещение бывшего спортзала, в котором Ротко построил макет – некое подобие ресторана, чтобы работать, как бы находясь непосредственно в интерьере. Мы молча сидели среди темных, мрачных полотен. Вдруг он спро- № 12. 1954 Холст, масло 292,1 × 230,5 Фото: Г.Р.Кристмас Предоставлено The Pace Gallery, Нью-Йорк No. 12. 1954 Oil on canvas 292.1 × 230.5 cm Photo by G.R.Christmas Courtesy The Pace Gallery, New York сил: «Можешь ли ты вообразить богатую публику за ужином в окружении этих картин?» Я воочию представил себе бизнесменов, потягивающих виски и бросающих мимолетный взгляд на стены в паузах между обсуждением сделок. Зрелище, которое предстало бы их взору, было явно не «духоподъемное»… Однако Ротко все-таки согласился выполнить этот заказ для «самого дорогого ресторана в мире», как сообщалось в пресс-релизе. Я колебался с ответом, но потом все же признался, что мне трудно представить себе его полотна в «Четырех временах года». «Мне тоже, – согласился Марк. – Я только что отправил назад полученный аванс». Это была весьма солидная сумма, и я знал, что художнику нелегко с ней расстаться. Незадолго до своей смерти Ротко пригласил меня к себе в мастерскую. На одной стене я увидел серию «пейзажей», выполненных на бумаге, а на мольберте стояла незаконченная работа маслом. Каждая из картин, написанных в серых тонах, была разделена на две части горизонтальной линией. Что я об этом думал? Я был очень взволнован и не скрывал этого. «В этих картинах нет надежды», – сказал я. Он криво ухмыльнулся, как будто удовлетворен- ный моей реакцией. Последовавшее вскоре самоубийство художника шокировало, но не удивило меня. В своей статье для каталога выставки в «Гараже», подводя итог творчества Ротко, я привел слова Роберта Мазервелла, который был ярким представителем абстрактного экспрессионизма и выразителем идей этого направления в искусстве. В 1957 году Мазервелл сказал мне: «В своей самоотдаче и бесконечной преданности искусству Ротко... смог наиболее полно и самобытно воплотить все то, что он считал откровением в современном искусстве, и он сделал это лучше, чем ктолибо из современных художников». Заканчивая свою мысль, Мазервелл заметил: «Марк – самая глубокая личность среди всех американских художников – и тех, кто жив, и тех, кто мертв». В статье использован отрывок из книги воспоминаний Ирвинга Сандлера “A Sweeper-Up After Artists: A Memoir”, выпущенной в 2003 году издательством “Thames & Hudson”. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #2’2010 103