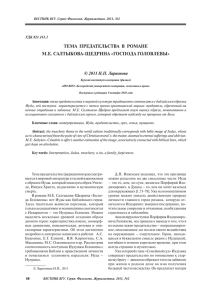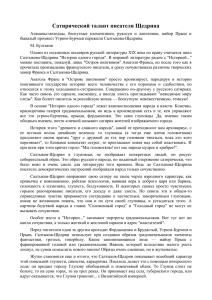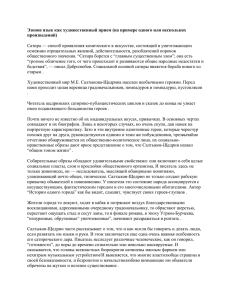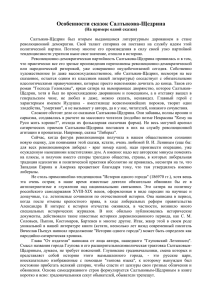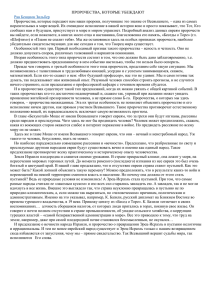ПРОРОЧЕСТВА В РОМАНЕ М.Е. САЛТЫКОВА
реклама
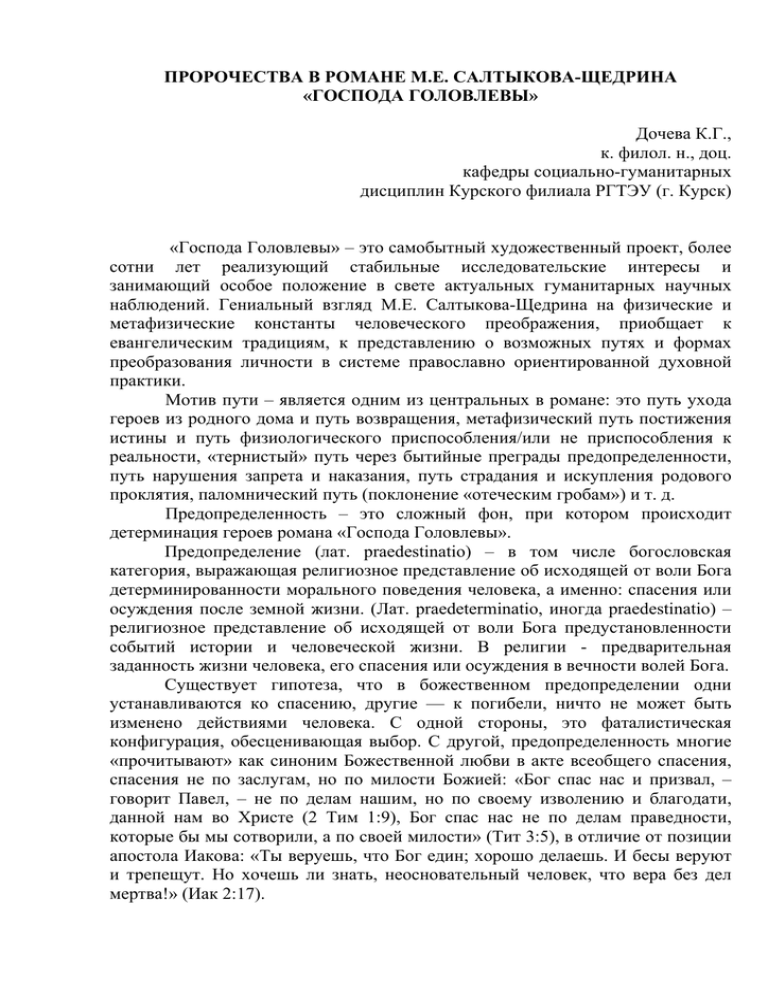
ПРОРОЧЕСТВА В РОМАНЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» Дочева К.Г., к. филол. н., доц. кафедры социально-гуманитарных дисциплин Курского филиала РГТЭУ (г. Курск) «Господа Головлевы» – это самобытный художественный проект, более сотни лет реализующий стабильные исследовательские интересы и занимающий особое положение в свете актуальных гуманитарных научных наблюдений. Гениальный взгляд М.Е. Салтыкова-Щедрина на физические и метафизические константы человеческого преображения, приобщает к евангелическим традициям, к представлению о возможных путях и формах преобразования личности в системе православно ориентированной духовной практики. Мотив пути – является одним из центральных в романе: это путь ухода героев из родного дома и путь возвращения, метафизический путь постижения истины и путь физиологического приспособления/или не приспособления к реальности, «тернистый» путь через бытийные преграды предопределенности, путь нарушения запрета и наказания, путь страдания и искупления родового проклятия, паломнический путь (поклонение «отеческим гробам») и т. д. Предопределенность – это сложный фон, при котором происходит детерминация героев романа «Господа Головлевы». Предопределение (лат. praedestinatio) – в том числе богословская категория, выражающая религиозное представление об исходящей от воли Бога детерминированности морального поведения человека, а именно: спасения или осуждения после земной жизни. (Лат. praedeterminatio, иногда praedestinatio) – религиозное представление об исходящей от воли Бога предустановленности событий истории и человеческой жизни. В религии - предварительная заданность жизни человека, его спасения или осуждения в вечности волей Бога. Существует гипотеза, что в божественном предопределении одни устанавливаются ко спасению, другие — к погибели, ничто не может быть изменено действиями человека. С одной стороны, это фаталистическая конфигурация, обесценивающая выбор. С другой, предопределенность многие «прочитывают» как синоним Божественной любви в акте всеобщего спасения, спасения не по заслугам, но по милости Божией: «Бог спас нас и призвал, – говорит Павел, – не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе (2 Тим 1:9), Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости» (Тит 3:5), в отличие от позиции апостола Иакова: «Ты веруешь, что Бог един; хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва!» (Иак 2:17). Симптомы предопределения актуализированы во всем пространстве романа. В начале романа мелкое предательство бурмистра Антона Васильева вырастает до мистического Суда семьи. Далее актуализируется предопределенность физиологическая – индивидуально-телесная предрасположенность человека к действиям и поступкам. В этом отношении примечательна редкая физиогномическая сметливость Арины Петровны касательно домашних: героиня прекрасно дешифрует малейшие телодвижения приближенных. Точно сбывается прозорливое предречение блаженного Порфиши и предопределение Степки-балбеса относительно судьбы брата. Знаком предрешенности становятся бессознательные интуиции героев, которых в произведении бесчисленное множество: «что-то шевелилось у нее внутри, в чем она не могла дать себе ясного отчета» [1, 19]. Данное Степаном брату прозвище отчасти устанавливает судьбу Порфирия Владимирыча (следует отметить принципиальное значение в мифопоэтической традиции настоящего имени). Прецедентное имя Иуда выделяет общий класс предателей и богоотступников и приобретает особый аксиологический статус, воспринимается не как ярлык, но как символ, как фатальное предначертание, экспликация глубинной сущности его носителя. Еще Павел Флоренский утверждал, что с новым именем в человека проникает «одержащее данный организм постороннее существо». Далее М.Е. Салтыков-Щедрин укрупняет евангелистические параллели. Порфирьюшка – обладатель странного «неестественного для ребенка баса («приласкайте меня, душенька!»), с увлечением целующий маменькины ручки и обнимающий ее за талию, и Иуда, с преступной любовной связью с собственной матерью. Нарочито проявятся в виде трех целковых тридцать сребреников, опять-таки знак пророчества Захарии и т.д. Прецедентные имена – это широко известные имена собственные, используемые в тексте не столько для обозначения конкретного человека, сколько в качестве культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб. Имя – судьба или судьба – имя? Отчасти М.Е. Салтыков-Щедрин решает ту же проблему, что и участники многочисленных теологических дискуссий: проблему воплощения и миссии в христианской истории самого Иуды, осмысление его выбора, предопределенного и неизбежного, как страдания Христа, или же спровоцированного, инициированного и даже, быть может, факультативного. Прославивший Господа (таким образом переводится имя Иуда) был изначально «научен» предательству: согласно «Сказанию Иеронима о Иуде предателе», уверовав предсказанию сна, родители евангельского Иуды отправляют своего новорожденного ребенка на верную погибель в ковчежце в море. Порфирий Владимирыч, не избегая бесконечных (провокационных) ритуальных диалогов, страшится родительского проклятия, и этот трепет, многократно усиливающий умственный и душевный хаос, имеет экзистенциальную природу: «он этих проклятиев – страх как трусит!» [1,81], ибо сам рожден в «неблагословенной семье» под тяжбой «пророчества». Известно, что благодаря интуиции, человек мгновенно представляет картину реальности в целом, предчувствует или даже ясно видит, как дальше развернутся события (по крайней мере, основные варианты). Вера героев в пророчество и в исполнения пророчеств – интенции романа. М.Е. Салтыков-Щедрин щедро реализует их в таких провокационных моментах, как выбор пути в отсутствии выбора, например, возвращение «блудного сына» Степана Владимирыча, который идет в Головлево, «знает, что ожидает там его, и все-таки идет, и не может не идти (курсив мой, Д.К.) Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба – он один ничего не может. Эта мысль словно впервые проснулась в нем» [1, 30]; в иррациональных пророчествах старика Головлева: «Старик дремал в постели, покрытый белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал. – Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! – крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: – съест! съест! Съест! – Съест! – словно эхо, откликнулось и в его душе. Предвидения его оправдались»[1,31]. Установлено, что основой пророчества является человеческая способность предвосхищения, и это весьма сложный природно-социальный процесс. Согласно концепции И.А. Величко, проявлениями пророчеств являются: видение глубокого прочувствованного яркого образа; неосознанность оснований; интуитивность; многосмысленность, требующая дополнительного истолкования; истинность, подтверждающаяся практикой. В романе яркие, детализированные видения посещают Арину Петровну: «Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю; "прррощай, брат!" – восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполоборота к Улитушке и говорит: кутьюто, кутью-то не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертцу поставьте... братца опять в доме помянуть! Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. "Ах, брат! брат! Не захотел ты с нами пожить!" – восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение. Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней"[1, 30]. Видения находят совершенное подтверждение в реальности. Герои используют формы опережающего развития действительности. Бессмысленные ритуальные речевые действия героев, заговаривание действительности, стирают грань между реальностью и сверхреальностью. Поскольку интуиция оперирует символами, знаками, архетипами, евангельские реминисценции обретают дополнительное значение в романе, порой удостоверяя причинно-следственные связи по логике горнего мира (в пример тому – финал романа). В произведении использованы архетипы блудного сына, Каина и Авеля, мытаря и фарисея, вавилонской башни, кающейся блудницы, родового проклятия и вкушения запретного плода и др. Через совокупность реминисценций и аллюзий автор формирует новую реальность, комментируя ее с очень глубоких, поистине сакральных, позиций. В повседневности человек, порой, не замечает знаки, которые имеют важную сущность. Герои Салтыкова-Щедрина пытаются прочитывать и фиксировать «излишние» знаки, впадая в предрассудки и невежество, когда важное заменяется неважным, несущественное возводится в статус архиважного. Происходит смешение горнего и дольнего, сакрального и профанного, например, Порфирий, позабыв помянуть брата, воспринимает непотушенные в доме лампады божественным знаком: «Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. <…> Только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: "Лампадки-то боковые тушить, что ли?" А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: не тронь! Христос с ними, пускай погорят! Ан вот оно что» [1,114]. То есть повседневность сакрализируется, в ней отыскиваются новые знаки, важные идеологические коды профанируются, погружаются в густую атмосферу невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее: так, Иудушка узнает, что Наполеон III уже не царствует, лишь через год после смерти императора, от станового пристава, при этом не выражает никакого особенного ощущения, только крестится, шепча: «царство небесное!». М.Е. Салтыков-Щедрин маркирует и сближает предугадываемое и реальное в таком взаимодействии как соотносятся миф и реальный образ. Как правило, героям «открывается» незримое в момент духовной одержимости и агрессии, в ситуации лицемерия, пошлости. То есть дар прозорливости, например, у Порфирия Головлева имеет ярко выраженную греховную природу и обостряется в ситуации духовной деградации героя: например, в священную и торжественную минуту рождения сына, Иудушка отрекается от него, и сразу же, «некстати», предугадывает имя, видя в этом «божественное произволение»; напрочь позабыв день смерти брата, считает, озарением и интуицией зажженые в доме лампады. В ситуации раскаяния и духовного равновесия у героев полностью исчезает дар предчувствия, мир уже не кажется таким предсказуемым: лампада сообщает предметам обманчивый характер, от свечей исходит сомнительный свет[1,98] и Порфирий Владимирыч, умеющий (логически) предвидеть практически все, что касается утилитарных идей, а именно: за какую сумму можно продать в год молока, «что трескают попы», сколько плодов даст по осени дерево, в период духовного прозрения «рапортуется», глядя на кибитку, не угадывает погорелковскую барышню, в последние минуты жизни не только лишается дара пророчеств, но и в целом понимания идей происходящего. Предугадывание у Салтыкова-Щедрина осмысливается как феномен, концентрирующий спиритуалистические, антидуховные, рациональные и иррациональные направления философствования, синтезировавшие церковноритуальный и утилитарный способы мышления. Эта позиция находится в диалогическом конфликте с христианской моралью и православной традицией, поскольку по библейских канонам пророки по мере своей праведности и по степени духовной зрелости были способны видеть будущее и знать волю Бога. Писатель мастерски отразил ту эстетическую антитезу Иудушки, его прекрасно-безобразую двойственность в облике и поступках, в чаровстве и молитве: маслянисто-пронзительный голос, живое и мертвое, борющееся внутри его. Сакральное может войти в сущность человека через молитву, проповедь, ритуалы, через священные предметы культа, откровение. Относительно этой парадигмы у религии мало отличий от мистицизма. Несомненно, ритуал привносит в жизнь Порфирия Владимирыча содержательность и регламент: герой обуздывает себя дисциплиной церковного ритуала: беспрестанно крестится «то на церковь, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний» [1,44], внимательно прослушивает евангельские сказания, стукается лбом в землю, при этом, как животное, навостряет уши, осклабляется в пене собственной слюны, его голос – змей, глаза – яд, жесты – парализуют волю. Так мистик ощущает сакральное в самом себе (возможно, поэтому и владеет пророчествами). Истинная духовность, возможность реального Богообщения и обожения возможна, по мнению автора, только при условии адекватного сопоставления себя с горним миром, хотя наряду с духовной практикой, сюда могут входить стратегии бессознательного. 1. Ссылки: Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений: В 20 т. / М.Е., Салтыков-Щедрин, –- М.: Художественная литература, 1971. – Т. 13. – 814 с.