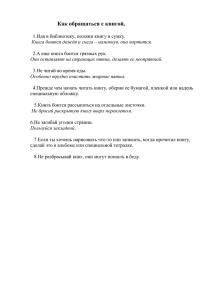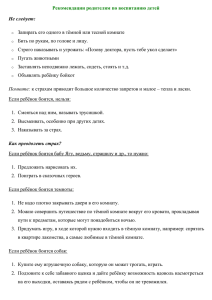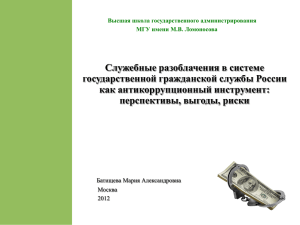XIX ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 132
реклама

132 XIX ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В дальнейшем мы можем встретить упоминание об этой песне даже в некоторых вариантах “Nursery Rhymes” (“Tom, Tom the Piper’s Son”), сохраняющих ритм и размер песни-оригинала21. В наше время песня получила второе рождение, прежде всего благодаря творчеству фольклорного певца Джона Тамза, сыгравшего одну из главных ролей в фильмах о королевском стрелке Шарпе. Будучи знатоком английского фольклора, Тамз в полной мере использовал его вариативность — все написанные им четверостишия к фильмам очень гармонично сочетаются с традиционными вариантами песни “Over the Hills and far away”22. Период истории, изображенный в фильме — начало XIX века, наполеоновские войны. Английские войска в это время прошли почти тем же маршрутом, что и в начале XVIII века “Trough Flanders, Portugal and Spain”. Слова песни были оценены и современными военными на мемориальной триумфальной арке Королевской военной академии Канады выбиты слова: Hark, now the drums beat up again For true Soldiers Gentlemen23 Итак, две песни, чрезвычайно популярные во время их появления на свет прошли очень долгий путь, зафиксировав важные моменты жизни английского народа. Обе песни в своих текстах отразили важные составляющие английского национального характера: патриотизм (ставший важной частью общественного сознания с XVI века, со времен Елизаветы I), неразрывно связанный с протестантской верой как элементом национальной самоидентификации, свободолюбие и ощущение себя имперской нацией, способной посылать своих солдат: Over the hills, and o’er the main To Flanders, Portugal and Spain. Рыбина П. Ю., к. ф. н. (ПСТГУ) ТЕХНИКА РАЗОБЛАЧЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ СЕРЕДИНЫ ХХ В. Интересно, что практически все знаменитые американские пьесы ХХ века, пользовавшиеся громким сценическим и кинематографическим успехом1, обращаются к драме из семейной жизни. Именно пьеса, действие которой ограничено узкими рамками семьи и предельно эмоционально напряжено, стала визитной карточкой американского театра. Семья оказалась идеальным пространством современной психологической драмы. В кругу семьи персонаж в полной мере раскрывает потаенные стороны своего сознания, оказывается один на один с теми, кто определил его психику генетически и в процессе воспитания (конфликт отцов и детей), с теми, кто повлиял на окончательное формирование личности (муж и жена). Здесь, безусловно, прослеживается увлечение психоанализом З. Фрейда и аналитической психологией К. Юнга. Восприняв элементы фрейдистского разоблачения сознания и теорию архетипов, а также европейский театральный опыт (Ибсен, Стриндберг), такие драматурги как Ю. О’Нил и Т. Уильямс закрепили за американской сценой особые, «современные» правила осмысления психологии персонажей: важность эпизодов из прошлого для понимания человеческой психики, умение как деликатно, так и вызывающе неделикатно касаться самых сокровенных сторон жизни. Разоблачение персонажа стало, в связи с этим, важнейшим сюжетным элементом. Такие пьесы оказались востребованы американским театром середины века (О’Нил, А. Миллер, Л. Хеллман, Уильямс успешно и неоднократно ставились в знаменитых бродвейских театрах «Мартин Бек Тиэтр», «Тиэтр Гилд»). Существовал «спрос» на современный психологический репертуар, во многом бла21 http://en.wikipedia.org/wiki/Tom,_Tom,_the_Piper%27s_Son http://www.compleatseanbean.com/sharpe30.html 23 http://en.wikipedia.org/wiki/Over_the_Hills_and_Far_Away_(traditional)#See_also 1 Достаточно назвать «Страсть под вязами» (Desire under the Elms, постановка 1924 г.) Ю. О’Нила, «Трамвай “Желание”» (A Streetcar Named Desire, пост. 1947) Т. Уильямса, «Смерть коммивояжера» (Death of a Salesman, постановка 1949 г.) А. Миллера, «Кто боится Вирджинии Вулф» Э. Олби. 22 ФИЛОЛОГИЯ 133 годаря растущему влиянию театрального реализма, так называемому «методу» Ли Страсберга. Страсберг, художественный руководитель Актерской студии в Нью-Йорке, использовал основные положения системы К. С. Станиславского для создания актерской техники, основанной на повторяющемся каждый спектакль переживании роли актером, эмоциональной идентификации актера с персонажем для достижения эффекта психологической достоверности. Параллельно возникает сходный режиссерский подход к материалу. Надо сказать, что Э. Казан, известный своими театральными и кинематографическими интерпретациями Т. Уильямса, вместе со Страсбергом стоял у истоков «Групп Тиэтр», театрального коллектива, где в начале 1930-х гг. успешно применялись принципы театрального натурализма. В связи с заявленной темой мне представляется плодотворным обратиться к трем пьесам: «Лисички» (The Little Foxes, постановка 1939 г.) Л. Хеллман, «Долгий день уходит в ночь» (Long Day’s Journey into Night, 1940 г.; постановка 1956 г.) Ю. О’Нила и «Кто боится Вирджинии Вулф» (Who’s Afraid of Virginia Woolf, постановка 1962 г.) Э. Олби. Все эти пьесы могут быть причислены к американской семейной драме по той очевидной причине, что в центре каждой из них — эпизод или один день из жизни семьи. Их объединяет важность одного и того же сюжетного элемента. Этот элемент — разоблачение персонажа. Я постараюсь ответить на вопрос, как это разоблачение выполнено технически и с какой целью оно происходит. Как данный элемент сюжета «работает» на тот смысл, который отстаивается пьесой в целом? У каждого разоблачения есть «детективная сторона»: раскрытие тайных обстоятельств, неизвестных зрителю/читателю. Начнем с самого «детективного» сюжета. В пьесе «Лисички» совершается два преступления. Логично предположить, что разоблачений будет тоже два. Оба преступления совершены с одной целью: обладание долей в новом семейном предприятии Хаббардов-Гидденсов. Жертва у обоих преступлений тоже одна — Горацио Гидденс, тяжело больной человек, обладатель облигаций Юнион Пасифик на сумму 88 000 долларов. Первое преступление совершает племянник Горацио, укравший по совету отца облигации больного дяди, чтобы вложить их в семейное предприятие. Второе преступление, более страшное, — жена Горацио, Реджина. Ссора с ней провоцирует у Горацио сердечный приступ, а лекарство Реджина дать мужу отказывается. Реджина готова пойти на убийство, потому что больной муж —единственное препятствие между ней и блестящим будущим, которое открывается перед обладательницей облигаций, а значит — доли в семейном деле. Хеллман прибегает к замысловатому построению сюжета, развитие которого непредсказуемо. Главное заключается в том, что ожидаемых разоблачений не происходит. Горацио узнаёт о поступке племянника, но готов «замять дело». Дочь Реджины Александра подозревает, что мать виновна в смерти отца, но никто ничего не знает наверное. Для Хеллман важнее всего продемонстрировать, как преступление, пусть скрытое и не получившее огласки за пределами семьи, разрушает эту семью изнутри. Именно поэтому Хеллман отходит от хрестоматийных кульминационных моментов (каким могло бы стать разоблачение обмана с облигациями), именно поэтому ей нужны изощренные мотивировки поступков персонажей: Реджина играет на отцовских чувствах мужа, заставляя его вернуться из клиники, Горацио готов не выдавать племянника, чтобы оставить украденную сумму у него и таким образом отомстить жене, лишив ее средств к существованию и независимости. Конфликт вырастает из взаимной ненависти, той семейной ситуации, которой Ф. Мориак дал название «клубок змей». Ни в первом, ни во втором случае за преступлением не последовало явного наказания. Подлинное разоблачение (далекое, кстати, от марксистского разоблачения сознания, которое стремились увидеть критики, разделявшие политические убеждения драматурга) у Хеллман строится на взаимоотношении между содержанием пьесы и особой перспективой, возникающей благодаря библейской аллюзии в названии. «Лисички» (или по-русски точнее — «лисенята») — цитата из «Песни Песней»: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» (2. 15). Реджина разоряет семейный «виноградник», как лисенок, перегрызающий корни цветущей виноградной лозы. Ирония в том, что «виноград», ради которого она это делает, еще не созрел, семейное предприятие еще только формируется, Реджина жертвует всем, чтобы найти деньги для выгодной инвестиции в будущее. Но что это за будущее? То будущее, которое воплощено в ее дочери Александре, ускользает. Александра собирается уйти из семьи, разрывает отношения с матерью по очень серьезной причине: эти отношения губительны для ее души. «Лисички» — камерная драма на тему вечного выбора между обретением «всего мира» («I wanted the world», — говорит Реджина своему больному мужу) и утратой души. Делая акцент на психологических мотивировках поступков, Хеллман спорит с «хорошо сделанными» коммерческими драмами, в которых главное — сами поступки героев, их действия, ведущие к разоблачениям. 134 XIX ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Стилистика коммерческого театра (с его штампами, драматургическими «ходами») чужда также О’Нилу. В пьесе «Долгий день уходит в ночь» разоблачения, как правило, выполнены в «ибсеновской» технике: до начала пьесы происходит некое событие, о котором мы ничего не знаем, но которое самым существенным образом влияет на развитие действия. Постепенно (от действия к действию) информация об этом событии просачивается в пьесу, и к концу последнего акта мы знаем правду. Это — постепенное разоблачение путем хорошо продуманной, дозированной подачи новой информации. Первое действие «Долгого дня» содержит целый набор недоговоренностей и загадок, которые интригуют зрителя: всех Тайронов беспокоит затянувшаяся простуда Эдмунда, отец и сыновья подчеркнуто оберегают душевное спокойствие матери (много раз повторяется, что ей нельзя волноваться). Любая из затронутых в разговоре тем оказывается щекотливой. Нельзя упоминать, что Мэри ночью не спалось, нельзя говорить о плохой прислуге, нельзя говорить о непрофессионализме врачей, нельзя упрекать в безденежье старшего сына Джейми. Нельзя потому, что необходимо поддерживать в семье атмосферу мира и покоя, нельзя волновать Мэри. Почему Мэри надо от всего оберегать? В первой части второго действия поведение Мэри меняется. Чтобы сделать это изменение сценически эффектным, О’Нил заставляет ее страдать как бы «раздвоением личности»: она то прежняя (нервная, трогательная, любящая), то новая (отстраненная, безразличная, чужая). Тайроны мгновенно разгадывают загадку ее метаморфозы и абсолютно раздавлены происходящим. Зритель/ читатель вынужден гадать, что же происходит на самом деле. Лишь в следующей части появится первое, прямое объяснение. «Еще один укол в руку», — говорит Джейми, провожая взглядом поспешно уходящую в свою комнату морфинистку. Уверенность в том, что Мэри излечилась от наркотической зависимости, поддерживала шаткую гармонию взаимоотношений в семье Тайронов. Ее срыв становится началом кошмара, началом «долгого путешествия в ночь»: именно так О’Нил метафорически обозначает поток взаимных обвинений и разоблачений, который захватывает отчаявшихся Тайронов. Начинает стремительно раскручиваться «клубок» разоблачений. Однажды возникнув, тайна из прошлого появляется затем с навязчивой периодичностью и обрастает новыми подробностями: оказывается, что впервые морфий Мэри дали после тяжелых родов, и ребенок, Эдмунд, несет бремя вины за болезнь матери. Но такой способ обезболивания, как выясняется, мог предложить только неквалифицированный врач, чьи услуги стоят дешево. И вина ложится на отца — старшего Тайрона, который экономит на всем. Так постепенно прошлое затягивает персонажей. Единственное, что вызывает вопросы в о’ниловской манере разоблачений, — это слишком длительное неведение, в котором он оставляет зрителя. Это неведение зачастую не позволяет оценить некоторые ключевые эпизоды, реплики, для понимания которых знание правды существенно. Но это замечание скорее можно отнести к драме «Разносчик льда грядет», чем к «Долгому дню». Каков смысл разоблачений у О’Нила? Во-первых, важный момент в пьесе заключается в том, что разоблачения происходят лишь с точки зрения зрителя/читателя. Ужас ситуации Тайронов в том, что чем дальше в прошлое — тем меньше для них неизвестного, тем больше того, о чем уже давно знают, но с чем приходится жить изо дня в день. Но как в таком кошмаре можно жить? И О’Нил дает парадоксальный ответ: нет такой страшной правды, такого шокирующего разоблачения, которое может заставить Тайронов разлюбить друг друга. Они не могут сказать друг другу ничего, что прервет эту удивительную, всепрощающую семейную привязанность. Здесь очевидна разница с пьесой Хеллман, в которой дочь, уверенная в виновности матери, готова оставить ее в одиночестве и не готова ее простить. Пожалуй, прощению нет места и в пьесе Э. Олби. С самого начала драмы «Кто боится Вирджинии Вулф?» зритель чувствует конфликтность, напряженность атмосферы, в которой живут супруги — Джордж и Марта. Первое разоблачение происходит благодаря киноцитате. Невинный, казалось бы, вопрос Марты о том, как называется фильм с Бет Дейвис, в котором есть вспомнившаяся ей сцена, мгновенно ведет к ссоре. Это потому, что эпизод из фильма значим. Героиня Бет Дейвис приходит домой из бакалейной лавки и произносит, оглядывая свою гостиную: «Ну и дыра!» (“What a dump!”)2. Марта цитирует эту фразу и с удовольствием, в подробностях описывает мужу сцену из фильма, потому что хочет дать ему понять: она ассоциирует саму себя с этой женщиной, неудовлетворенной жизнью, мужем, браком. Недовольство друг другом, отчаяние супругов от того, что их надежды не оправдались, лежит в основе конфликта. Для Джорджа и Марты есть только один способ поддерживать совместное существование — это игра, театрализация их неудавшейся жизни. В театр (только это своего рода «театр жестокости», если вос2 «За лесом» (“Beyond the Forest”, 1949 г.). ФИЛОЛОГИЯ 135 пользоваться обыденным пониманием образа А. Арто) превращается все — семейные конфликты, общие воспоминания, встреча гостей. Особенно встреча гостей, потому что Джордж и Марта нуждаются в новых зрителях, перед которыми можно разыгрывать свои семейные драмы. Разоблачения в пьесе Олби происходят во время неких психологических игр, в которые вовлечены четверо персонажей. Правила игры заключаются в следующем: один из собеседников нападает, другой защищается. «Нападающий» рассказывает о том эпизоде из жизни «жертвы», который является неприятным воспоминанием и о котором «жертва» предпочла бы забыть. Эти разрушительные и опасные, абсурдные игры давно стали частью супружеской жизни Марты и Джорджа. Теперь в них втягиваются и гости — молодая пара (Ник и Ханни). Пример. Ник провоцирует Марту на рассказ о никогда не печатавшемся романе ее мужа Джорджа. Джордж протестует, но тщетно. Марта не может остановиться и рассказывает слишком много. Ее рассказ становится не только ударом по самолюбию несостоявшегося писателя, но и по человеческому самолюбию: оказывается, что роман Джорджа был автобиографическим. Джордж на время превращается в жертву Марты, Ника и Ханни, проигрывает раунд. Но тут же наверстывает упущенное, становясь инициатором следующей разоблачительной игры. Возникает вопрос, насколько уместно слово «игра», когда речь идет о материях, весьма болезненных для всех присутствующих. Дело в том, что у игры — две стороны. Да, она жестока и, с одной стороны, олицетворяют невозможность гармоничного супружества (название второго действия — «Вальпургиева ночь» — вызывает ассоциацию с ведьминым шабашем). С другой стороны, важное место в словесных дуэлях Марты и Джорджа занимает комизм. Порой грубый, порой слишком откровенный, но именно комизм. Диалоги Джорджа и Марты — это соревнование в остроумии и жизненной силе в той же мере, в какой это соревнование — в жестокости. Их словесные битвы подобны боксерскому матчу. Выигрывает тот, кто оказывается более «толстокожим» и изобретательным, кто умеет уходить от удара и наносит ответный удар, попадая в цель. Они же сами выступают судьями. Именно они — главные ценители новых острот, находчивости и изощренности друг друга. Есть лишь одна тема, которая неприкосновенна, есть секрет, который не подлежит разоблачению: Марта и Джордж не должны говорить о своем сыне. Но Марта нарушает это правило. Жизнь сына Джорджа и Марты окутана тайной. Нежелание Джорджа отвечать на вопрос о детях, странно построенная фраза («так задумано, что завтра у него день рождения»), путаница с местоимениями (то одушевленное, то неодушевленное), вопросы о сыне, которые Джордж задает Марте и которые предполагают не знание фактов, а импровизацию, — все это создает загадку. Она проясняется в последнем третьем действии. Во время очередной игры Джордж сообщает Марте о том, что их сын погиб в автокатастрофе, и ее реакция — «ты не можешь так с ним поступить» — все объясняет. Ребенка никогда не было. Разговоры о ребенке были их общей абсурдной игрой, иллюзией, что есть, для кого жить, или что могло бы быть. Джордж решает прекратить эту игру раз и навсегда, поскольку для него очевидно состояние Марты: заигравшись, она все больше утрачивает контакт с реальностью, перестает замечать разницу между иллюзией и действительностью. С этим связан и придуманный песенный рефрен «Кто боится Вирджинии Вулф» (вместо песенки из диснеевского мультфильма «Кто боится большого плохого волка»). Академическая шутка (имя классика модернизма в известной детской песенке) принадлежит Марте и в ходе пьесы получает значение: кто боится разоблачений? Кто боится остаться без единой иллюзии? Кто боится жить без иллюзий? Впервые этот смысл становится ясен в конце первого действия, когда Марта «разоблачает» профессиональную несостоятельность Джорджа, а он параллельно напевает «Кто боится...», вроде «Нам не страшен серый волк», показывая этим, что не желает слышать правду, не желает думать о реальном положении вещей. Когда же этот вопрос «Кто боится Вирджинии Вулф» возникает в конце пьесы, Марта отвечает: «Я». Ее страх разделяет и Джордж, что заставляет героев держаться вместе. Они из тех, кого иллюзии спасают и поддерживают. Они — разочарованные романтики, мечтатели, превратившиеся в циников. Игра для них, какой бы жестокой она ни была, лучше реальности. Так, все три рассмотренные пьесы сообщают о вреде и бесполезности разоблачений, о драматизме разоблачений и ценности иллюзий, демонстрируя (и с этим, на наш взгляд, связана популярность американских пьес) глубокое и тактичное отношение к человеку и его внутренней жизни, которую нельзя описать, пользуясь категориями нормально/ненормально, пристойно/непристойно, но которая открывается пониманию и сопереживанию.