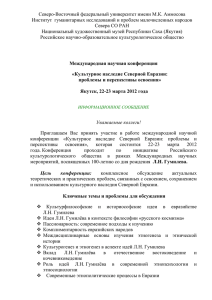Отечественная история - МГУ им. адм. Г.И. Невельского
реклама

Министерство транспорта Российской Федерации Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ХРЕСТОМАТИЯ Рекомендовано методическим советом Морского государственного университета в качестве учебного пособия для студентов Гуманитарного института и Института Восточной Азии Владивосток 2005 УДК 94 (47+57) (07) Отечественная история: Хрестоматия / Сост. Л. В. Шепотько. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2005. – 279 с. Представлены материалы, отражающие различные точки зрения на одну из важнейших проблем отечественной истории – проблему взаимоотношений России с Европой и Азией, проблему определения места России в мировом историческом процессе. Соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. Предназначена для студентов Гуманитарного института и Института Восточной Азии. Рецензенты: Н. А. Беляева, канд. ист. наук, профессор ВФ РТА С. В. Каменев, канд. филос. наук, доцент ПИППКРО © Шепотько Л. В., сост. © Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского, 2005 2 Содержание От составителя ............................................................................................................ 6 Н. М. Карамзин О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ (1802) ............................ 10 Н. М. Карамзин ЗАПИСКА О НОВОЙ И ДРЕВНЕЙ РОССИИ В ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ ОТНОШЕНИЯХ (1811) ............................................................. 14 А. С. Пушкин ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА (1822).................................... 18 Н. И. Надеждин ЕВРОПЕИЗМ И НАРОДНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ К РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (1836) ........................................................................................... 20 П. Я. Чаадаев ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА (1828–1831)........................................................ 26 В. Г. Белинский РОССИЯ ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО (1841) ............................................................... 33 А. С. Хомяков О СТАРОМ И НОВОМ (1839) ................................................................................. 46 А. С. Хомяков МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ (1845)...................................................... 49 А. С. Хомяков МНЕНИЕ РУССКИХ ОБ ИНОСТРАНЦАХ (1845) ................................................ 54 М. П. Погодин ЗА РУССКУЮ СТАРИНУ (1845) ............................................................................ 60 И. В. Киреевский О ХАРАКТЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНОШЕНИИ К ПРОСВЕЩЕНИЮ РОССИИ (1825)........................................... 63 К. С. Аксаков ОБ ОСНОВНЫХ НАЧАЛАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ (1849).................................. 84 К. С. Аксаков О ТОМ ЖЕ (предположительно 1850)..................................................................... 85 К. С. Аксаков О РУССКОЙ ИСТОРИИ (1850) ............................................................................... 86 А. И. Герцен О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ (1850) ........................... 89 Д. И. Писарев БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ (1862)..................................................................... 102 С. М. Соловьев ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ (1872) ......................................... 107 3 Н. Я. Данилевский РОССИЯ И ЕВРОПА (1869).................................................................................. 122 Ф. М. Достоевский ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (1873).............................................................................. 149 Ф. М. Достоевский ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (1877).............................................................................. 156 Исмаил бей Гаспринский (Гаспралы) РУССКОЕ МУСУЛЬМАНСТВО. МЫСЛИ, ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА (1881)..................................................................................... 165 Исмаил бей Гаспринский (Гаспралы) РУССКО-ВОСТОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЫСЛИ ЗАМЕТКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО (1896) ..................................... 169 Д. И. Менделеев К ПОЗНАНИЮ РОССИИ (1907) ........................................................................... 171 Д. И. Менделеев ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ РОССИИ (1907)............................................... 174 П. А. Столыпин РЕЧЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ БЫТА КРЕСТЬЯН И О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ (1907)..................................................................................... 177 П. А. Столыпин РЕЧЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ (1907)...................................................... 179 П. А. Столыпин РЕЧЬ О СООРУЖЕНИИ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1908) ................ 180 П. Н. Милюков "ИСКОННЫЕ НАЧАЛА" И "ТРЕБОВАНИЯ ЖИЗНИ" В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ (1905) .......................................... 181 Л. Мартов ОБЩЕСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ 1870–1905 (конец 90-х гг. – 1910) .......................................................................... 190 В. И. Вернадский ЗАДАЧИ НАУКИ В СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ В РОССИИ (1917).......................................................................... 205 С. М. Соловьев ПУТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (1916) ................................................................... 207 В. И. Ленин ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1918)...................................... 217 Н. С. Трубецкой ЕВРОПА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (1920).................................................................... 218 И. В. Сталин ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА XVI СЪЕЗДУ ВКП(б) (1930) .................................................................................. 228 4 Г. П. Федотов СУДЬБА ИМПЕРИЙ (1947) ................................................................................... 230 Г. В. Вернадский ОПЫТ ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ (1934) ..................................................................... 234 А. Д. Сахаров ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ (1972) ........................................... 245 А. И. Солженицын КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ. ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ (1990)................................................................ 246 Л. А. Андреева ХРИСТИАНСТВО И ВЛАСТЬ В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ (2001).................................................................. 252 В. А. Мельянцев РОССИЯ ЗА ТРИ ВЕКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ (2003) ....................................................................... 264 Сведения об авторах и произведениях ........................................................ 274 5 ОТ СОСТАВИТЕЛЯ В центре собранных в хрестоматии материалов стоит проблема определения места России в мировом историческом процессе, понимание характера и значения ее взаимосвязей с мировыми цивилизациями Запада и Востока. До настоящего времени не изжито ошибочное представление, будто данная проблема носит сугубо умозрительный характер и, родившись в славянофильских и западнических салонах, в тиши кабинетов профессоров истории и религиозных мыслителей, к реальной действительности имеет весьма слабое отношение. В действительности это не так. Геополитическое положение России объективно выдвигает проблему взаимоотношений России с Западом и Востоком как неотъемлемую часть становления российской государственности, вне связи с данной проблемой невозможно осмыслить русскую историю. Поначалу проблема, определившая содержание хрестоматии, сводилась не к вопросу о месте России между Европой и Азией, а только к взаимоотношениям России и Европы. Речь идет прежде всего о направлениях, формах проведения и результатах реформ Петра I и продолжении их в политике его преемников. У представителей царствующей династии и их окружения никогда не возникало сомнения в том, что Россия является европейской державой. Главное отличие ее от Европы, как они считали, состоит в особом характере взаимоотношений самодержавной власти и народа, которое основывается на вере народа в божественное происхождение власти. Это позволяет сохранить единство власти и общества и противостоять пагубным влияниям Запада. «Философические письма» П. Я. Чаадаева отрицают официальную точку зрения на место России как части европейского мира. П. Я. Чаадаев был прежде всего религиозным мыслителем. Он объяснял превосходство европейской цивилизации, вне которой оказалась Россия, ролью западного христианства (в первую очередь – католичества), сумевшего обеспечить единство духовной и культурной жизни Европы и обеспечить ее органическое развитие. Обособление России 6 от истинного духа религии, отсутствие у православной церкви той власти и возможностей, которыми располагало католичество, и обусловило, по мнению П. Я. Чаадаева, печальную участь Российского государства. Этот тезис не был воспринят ни одним из последующих направлений западничества как либерального, так и радикального толка. И те, и другие исходили из твердого убеждения в том, что Россия принадлежит европейской цивилизации, однако сильно отстает в своем развитии. С 40-х годов ХIХ века в дискуссии об отношениях России и Европы появляется проблема внутреннего раскола русского общества как следствие реформ Петра I. Раскол носил не только социальный, но и культурный и мировоззренческий характер. Проблема раскола присутствует уже в воззрениях славянофилов. Заимствование из Европы чуждых русскому народу ценностей и обычаев, считали славянофилы, разрушило существовавшее до реформ единство русского общества, создало угрозу «исконным» началам народной жизни, уходящим в глубину истории. Отличия России от Европы состояли для славянофилов в особенностях формирования власти в России и в той роли, которую играла православная церковь. Воспитание ею в народе глубокой религиозности, духа любви и сострадания (вместо царящих на западе культа собственности и наживы), освящение союза самодержавного монарха со своими подданными создавало гарантию славного будущего Отечества. Для западников как радикального (А. И. Герцен, В. Г. Белинский), так и либерального (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) направления тема раскола русского общества вообще не существует. Русское государство шло теми же путями, что и остальные страны Европы, но отстало от них благодаря роковому стечению обстоятельств. Особенно подчеркивалось пагубное влияние догматического, склонного к аскезе и нетерпимости византийского христианства и последствия монголотатарского ига. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы по мере возможностей стремиться к преодолению воздействия этих негативных факторов, мешающих двигаться по пути прогресса. 7 Новый взгляд на проблему места России в мировом историческом процессе связан с появлением работы Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», идеи которого оказали влияние на оформление такого своеобразного явления русской жизни, как евразийство. Данилевский одним из первых выступил против отождествления европейской цивилизации с общечеловеческой. Он утверждал, что она представляет собой лишь цивилизацию германо-романского образа жизни и организации общества. Данилевскому принадлежит и попытка переосмысления последствий монголо-татарского ига в жизни нашей страны. Положение Данилевского о России как правопреемницы монголо-татарской империи получило развитие во взглядах интереснейшего мыслителя российского мусульманства И. Гаспринского. Он вслед за Данилевским обратил внимание на то, что монгольские власти не стремились поработить духовный мир русского народа и объективно препятствовали осуществлению религиозной экспансии Запада. Совпадение границ Российской империи с контурами бывшей империи Чингис-хана он рассматривал как проявление закономерного процесса объединения русско-мусульманского мира, ставшего объектом давления как с Запада, так и с Дальнего Востока (со стороны Китая и Японии). Вариант восточного аспекта проблемы получил отражение в работах Д. И. Менделеева. Признавая принципиальные различия в мировоззрении Европы и Азии, он считал, что историческая роль России состоит в примирении интересов двух великих континентов. Менделеев обосновывал свою точку зрения не ссылками на некие особые качества русского народа, или на превосходство православия над другими религиями, а геополитической спецификой российского государства. Ее определяло наличие в России огромных ресурсов и пригодных для колонизации земель, расположенных главным образом на востоке страны. Первые десятилетия ХХ века определили новый поворот в отношении к обсуждаемой проблеме. Вновь получают звучание, но уже под другим углом зрения, идеи, уже звучавшие ранее. В попытках осмыслить трагических опыт трех русских революций возникает тре- 8 вожная тема раскола русского общества. Она стала возникать уже в 1909 г. в полемике вокруг появления сборника «Вехи», авторы которого составили целый обвинительный акт против российской интеллигенции, выводя ее «отщепенство» из зависимости от чуждых народу европейских влияний, помноженных на чисто русскую действительность. В 20-30 гг. оформляется классическое евразийство, исходившее больше из религиозного, чем из геополитического момента. Евразийцы утверждали, что на территории Евразии сложился религиознокультурный мир, тяготеющий к русскому православию, в то время как славяно-русский мир не представляет собой единого культурного целого. Отдельные представители евразийцев находили в политике большевиков объективно евразийские тенденции. Надежды на преодоление большевизма они связывали с возрождением здоровых сил в самой России, а не с упованием на помощь Запада. В более позднее время эта мысль получила отражение в работах А. И. Солженицына. Современное преломление западнических концепций нашло отражение в идеях А. Д. Сахарова, выступавшего за конвергенцию капитализма и социализма, в ходе которой каждой из систем предстоит избавиться от негативных сторон своего общественного и политического устройства. В настоящей хрестоматии составитель не ставил целью представить всех авторов, высказывавшихся по проблеме взаимоотношений России с Европой и Азией. Целью было отразить лишь наиболее важные аспекты дискуссии, динамику ее развития. Хронологически хрестоматия ограничена рамками ХIХ, ХХ и началом ХХI века, т. е. временем, когда проблема, составившая ее содержание, оказалась в центре наиболее острых и оживленных споров. Материал в хрестоматии располагается по хронологическому принципу. Сохраняется орфография и пунктуация издания, по которому печатается работа. 9 Н. М. Карамзин О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ (1802) Я не смею думать, чтобы у нас в России было не много патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, чтобы любовь к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее, ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского, станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостию. Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелию народа русского, а победа вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы. Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться и которые отличались от других северных народов не только своею храбростию, но и каким-то рыцарским добродушием. Героя наши в девятом и десятом веке играли и забавлялись ужасом тогдашней новой столицы мира: им надлежало только явиться под стенами Константинополя, чтобы взять дань с царей греческих. В первом-надесять веке русские, всегда превосходные храбростию, не уступали другим европейским народам и в просвещении, имея по религии тесную связь с Царем-градом, который делился с нами плодами учености; и во время Ярослава были переведены на славянский язык многие греческие книги. К чести твердого русского характера служит то, что Константинополь никогда не мог присвоить себе политического влияния на отечество наше. Князья любили разум и знание греков, но всегда готовы были оружием наказать их за малейшие знаки дерзости. 10 Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наши долговременные бедствия. Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастии являют свое величие. Так Россия, терзаемая лютым врагом, гибла со славою; целые города предпочитали верное истребление стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Киева принесли себя в жертву народной гордости и тем спасли имя русских от поношения. Историк, утомленный сими несчастными временами, как ужасною бесплодною пустынею, отдыхает на могилах и находит отраду в том, чтобы оплакивать смерть многих достойных сынов отечества. Но какой народ в Европе может похвалиться лучшею судьбою? Который из них не был в узах несколько раз? По крайней мере завоеватели наши устрашали восток и запад. Тамерлан, сидя на троне самаркандском, воображал себя царем мира. И какой народ так славно разорвал свои цепи? Так славно отмстил врагам свирепым? Надлежало только быть на престоле решительному, смелому государю: народная сила и храбрость, после некоторого усыпления, громом и молниею возвестили свое пробуждение... Петр Великий, соединив нас с Европою и показав нам выгоды просвещения, ненадолго унизил народную гордость русских. Мы взглянули, так сказать, на Европу и одним взором присвоили себе плоды долговременных трудов ее. Едва великий государь сказал нашим воинам, как надобно владеть новым оружием, они, взяв его, летели сражаться с первою европейскою армиею. Явились генералы, ныне ученики, завтра примеры для учителей. Скоро другие могли и должны были перенимать у нас; мы показали, как бьют шведов, турков – и наконец французов. Сии славные республиканцы, которые еще лучше говорят, нежели сражаются, и так часто твердят о своих ужасных штыках, бежали в Италии от первого взмаха штыков русских. Зная, что мы храбрее многих, не знаем, еще кто нас храбрее. Мужество есть великое свойство души; народ, им отличенный, должен гордиться собою. 11 В военном искусстве мы успели более, нежели в других, оттого, что им более занимались как нужнейшим для утверждения государственного бытия нашего; однако ж не одними лаврами можем хвалиться. Наши гражданские учреждения мудростию своею равняются с учреждениями других государств, которые несколько веков просвещаются. Наша людскость, тон общества, вкус в жизни удивляют иностранцев, приезжающих в Россию с ложным понятием о народе, который в начале осьмого-надесять века считался варварским. Завистники русских говорят, что мы имеем только в вышней степени переимчивость, но разве она не есть знак превосходного образования души? Сказывают, что учителя Лейбница находили в нем также одну переимчивость. В науках мы стоим еще позади других, для того – и для того единственно, что менее других занимаемся ими и что ученое состояние не имеет у нас такой обширной сферы, как, например, в Германии, Англии и прочее. Если бы наши молодые дворяне, учась, могли доучиваться и посвящать себя наукам, то мы имели бы уже своих Линнеев, Галлеров, Боннетов. Успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели собственно так называемые науки) доказывают великую способность русских. Давно ли знаем, что такое слог в стихах и прозе? И можем в некоторых частях уже равняться с иностранцами. У французов еще в шестнадцатом веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими, как в живописи мыслей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно по крайней мере внимание русских. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богатее гармониею, нежели французский; способнее для излияния души в тонах; представляет более ана- 12 логических слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обрабатыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при мне, что "язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, по его замечанию, не разумеют друг друга и тотчас должны прибегать к французскому". Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заключениям? Язык важен для патриота; и я люблю англичан за то, что они лучше хотят свистать и шипеть по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них. Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть сам собою, чтобы сказать: "Я существую морально!" Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем ездят и как убирают домы? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником! До сего времени Россия беспрестанно возвышалась как в политическом, так и в моральном смысле. Можно сказать, что Европа год от году нас более уважает — и мы еще в средине нашего славного течения! Наблюдатель везде видит новые отрасли и развития; видит много плодов, но еще более цвета. Символ наш есть пылкий юноша: сердце его, полное жизни, любит деятельность; девиз его есть: труды и надежда. Победы очистили нам путь ко благоденствию; слава есть право на счастие. 13 Н. М. Карамзин ЗАПИСКА О НОВОЙ И ДРЕВНЕЙ РОССИИ В ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ ОТНОШЕНИЯХ (1811) Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных. Началось новое творение: явились новые народы, новые нравы, и Европа восприняла новый образ, доныне ею сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов германских. В сию новую, общую систему вошла и Россия. Скандинавия, гнездо витязей беспокойных – оfficina gentium, vagina nationum , дала нашему отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами, обитавшими на берегах Ильменя, Белаозера и реки Великой. "Идите, – сказали им чудь и славяне, наскучив своими внутренними междоусобиями, – идите княжить и властвовать над нами. Земля наша обильна и велика, но порядка в ней не видим". Сие случилось в 862 г., а в конце X века Европейская Россия была уже не менее нынешней, то есть, во сто лет, она достигла от колыбели до величия редкого... Великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием. Во глубине Севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашею долговременною связью с монголами, – византийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами. Сии последние черты, свойственные народу мужественному, вольному, еще были заметны в обыкновении судебных поединков, в утехах рыцарства и в духе местничества, 14 основанного на родовом славолюбии. Заключение женского пола и строгое холопство оставались признаком древних азиатских обычаев. Двор царский уподоблялся византийскому. Иоанн III, зять одного из Палеологов, хотел как бы восстановить у нас Грецию соблюдением всех обрядов ее церковных и придворных: окружил себя Римскими Орлами и принимал иноземных послов в ЗОЛОТОЙ ПАЛАТЕ, которая напоминала Юстинианову. Такая смесь в нравах, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природною, и россияне любили оную, как свою народную собственность. Хотя двувековое иго ханское не благоприятствовало успехам гражданским искусств и разума в нашем отечестве, однако ж Москва и Новгород пользовались важными открытиями тогдашних времен: бумага, порох, книгопечатание сделались у нас известны весьма скоро по их изобретении. Библиотеки царская и митрополитская, наполненные рукописями греческими, могли быть предметом зависти для иных европейцев. В Италии возродилось зодчество: Москва в XV в[еке] уже имела знаменитых архитекторов, призванных из Рима, великолепные церкви и Грановитую палату; иконописцы, резчики, золотари обогащались в нашей столице. Законодательство молчало во время рабства, Иоанн III издал новые гражданские уставы, Иоанн IV – полное Уложение, коего главная отмена от Ярославовых законов состоит в введении торговой казни, неизвестной древним, независимым россиянам. Сей же Иоанн IV устроил земское войско, какого у нас дотоле не бывало: многочисленное, всегда готовое и разделенное на полки областные. Европа устремила глаза на Россию: государи, папы, республики вступали с нею в дружелюбные сношения, одни для выгод купечества, иные – в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной Турецкой империи, Польши, Швеции. Даже из самой глубины Индостана, с берегов Гангеса в XVI веке приезжали послы в Москву, и мысль сделать Россию путем индийской торговли была тогда общею. Политическая система государей московских заслуживала удивление своей мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всяко- 15 го участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных, или опасных, желая сохранять, а не приобретать... Царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым. Явился Петр... Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг – и все переменилось! Сею целью было не только величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских... Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам... Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного?... Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную и, что не менее важно, учредили твердое в ней правление единовластное?...Петр нашел средства делать великое – князья московские приготовляли оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования? Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могу- 16 щество государства, подобно физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, беззаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: "Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого", – но не сказал: "Противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни". В сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом. Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми признаками наружности и в обыкновениях – со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний... Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить от старых. "Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, – говорит умный Маккиавелли, – то удержите хотя имя их для народа". 17 Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет, и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если История справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? А. С. Пушкин ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА (1822) По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество оби18 тало при дворе. Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили число дворян и заградили для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; ныне же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться. Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званных и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению 19 потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в северной Турции. Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Н. И. Надеждин ЕВРОПЕИЗМ И НАРОДНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ К РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (1836) Я обращаюсь ко всем безпристрастным любителям отечественнаго просвещения и отечественной литературы, обращаюсь к их совести, и спрашиваю откровенно: ужели тот ренегат и отступник – кто с прискорбием видит, что у нас нет своеземнаго, роднаго образования, что наш мощный, роскошный, великолепный язык ноет и чахнет под игом чуждаго рабства, что наша словесность жалко пресмыкается во прахе низкаго убийственного подражания, что наши знания суть жалкие побеги разнородных семян, навеваемых на нашу девственную почву чужим ветром, побеги без корня – кто с негодованием видит, что у нас нет ничего своего, нет даже русской грамматики, не только русской философии – кто с ожесточением вопиет против тех, кои, из слепой ли гордости, или может, быть по другим, не подлежащим нашему суду побуждениям, усиливаются задержать наше просвещение, нашу литературу, в том состоянии чужеядства и пустоцвета, которое доныне возбуждает к нам одно жалкое презрение Европейских наших собратий?.. 20 Известно, что все образование новых европейских народов и их литератур началось и развилось под сению христианства. Священное Писание, сие живое слово живаго Бога, было для них всем: и первой учебной книгой, и первым кодексом законов, и, наконец, первым источником творческаго одушевления, первым образцем литературного совершенства. Точно так случилось и с нашей святой Русью: в струях Почайны восприяла она, с новой верой, новую жизнь во всех отношениях; вместе с Евангелием получила письмена для своего языка, сделалась книжною. Но заметьте: какое важное различие представляет сие первое пробуждение жизни в народе русском от всех других европейских народов! Везде, в прочих странах Европы, Слово Божие проповедывалось на чуждом языке – языке латинском. Я говорю: чуждом; ибо, хотя западные языки новых европейских народов и сохраняют доныне много сходства с латинским, из обломков коего составились, это сходство есть более внешнее, материальное, оно состоит в сходстве слов, а не в сходстве внутренняго духа языка, который везде остался тевтоническим. Чем более укреплялись и выработывались эти языки, тем ощутительней становилось в них тевтоническое начало, тем более отклонялись они от латинского. И вот почему Священное Писание не могло иметь на них прямаго непосредственного влияния. Доступное разумению только избранной касты духовенства, оно сделалось исключительно ея достоянием; и эта каста, в то же время исключительно владевшая писалом и тростию, видя невозможность покорить ему живую народную речь, кончила тем, что совершенно исключила ее из книг, оставила только в устах для разговорнаго обихода и стала писать мертвой латинью... Таким образом письменность и речь разделились с первого шага в обновленной христианством Европе; и это имело самыя благодетельныя следствия для последней: благодаря презрительному небрежению пишущей касты, она спаслась от всякого насильственного искажения; педантизм книжников ворочался с своей варварской латинью и спокойно оставлял живые народные языки изливаться звонкой, чистой, свободной струей из уст менестрелей и труверов. Такое независимое развитие народных языков продолжалось до тех пор, пока они укрепились, возросли и осамились так, что латинь 21 книжников невольно начала отступать пред ними, постепенно сдала им трибуну и кафедру, впустила их в книги, и, наконец, сама, дряхлым, увечным инвалидом, скончалась в архивной пыли, под грудою фолиантов. Таким образом, влияние христианства не убило, не могло убить народности в литературах новой Европы; оно сообщило им новый дух, не сокрушая тела; вино новое принесено было издалека, но мех остался свой, тот же! Совсем противное должно было случиться у нас, с нашими предками. Священное Писание перешло к ним на языке сродном, близком, общепонятном... Что могло, что должно было произойти отсюда, как не отречение от своей грубой, необразованной речи, в пользу слова столь великолепнаго, столь могущественнаго?.. Таким образом, при первом введении письма на Русь, письменность сделалась церковно-славянскою; и эта церковно-славянская письменность, по своей близости и вразумительности каждому, тотчас получила авторитет народности. Это не был отдельный, священный язык, достояние одной известной касты – но книжный язык всего народа! Кто читал, тому нечего было читать, кроме книг церковнославянских; кто писал, тот не смел иначе писать, как приближаясь елико возможно к церковно-славянскому! Что же сделалось с русской живой, народной речью? Ей оставлены были в удел только низкия житейския потребы; она сделалась языком простолюдинов! Единственное поприще, где она могла развиваться свободно, под сению творческаго одушевления, была народная песня; но и здесь над ней тяготело отвержение, гремело проклятие... Так, в продолжение многих веков, последовавших за введением христианства, язык русский, лишенный всех прав на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, in status quo – без образования, без грамматики, даже без собственной азбуки, приноровленной к его свойствам и особенностям. И между тем предки наши, в ложном ослеплении, не сознавали своей безсловесности; они считали себя грамотными: у них были книги, были книжники; у них была литература! Но эта литература не принадлежала им; она была южнославянская по материи, греческая – по форме; ибо кто не знает, что богослужебный язык наш отлит весь в формы греко-византийския, может быть даже с ущербом славянизма?... 22 Настали времена бурныя; Иоаннова Русь потряслась в своих основаниях; Запад хлынул на Восток и грозил поглотить его... Но вот началась кровавая борьба – месть за месть, око за око! Москва двинулась сама на Запад... Киев сделался снова русским... Жадно устремилась Русь к горнилу роднаго просвещения, открывшемуся для ней в святом граде Владимира; и вскоре Киевская Академия сделалась розсадником всего русскаго образования. Это был университет во всей обширности слова. Она приготовляла шляхетное юношество для государственной службы; на ея лавках сидели первые русские поэты: Кантемир и великий Ломоносов; но в особенности, по теологическому своему устройству, она наполняла все высшия духовныя степени своими питомцами. И сии-то последние, срастаясь теснее с ея духом и привычками, вынесли из ней язык, запечатленный клеймом польского рабства, отворили ему широкий путь на русскую землю... В конце XVII и в начале XVIII века, духовныя кафедры наши зазвучали польско-латинским наречием, поэзия начала низаться в силлабическия вирши. Впрочем, по естественному порядку вещей, этот враждебный натиск не мог совершенно одолеть русское слово и завладеть им исключительно. Православная Русь хранила нерушимое благоговение к славяно-греческой богослужебной письменности: она не могла отказаться от ней, пожертвовать ею латини. И вот почему первое высшее училище в Москве, учрежденное по уставу тогдашних европейских университетов, знаменитая Заиконоспасская Академия наименована была Славяно-Греко-Латинскою. Название весьма верное и глубоко знаменательное! В самом деле, по направлению, формам и духу, вся тогдашняя русская образованность, и след, литература – была в собственном смысле славяно-греко-латинская. Ей не доставало только безделицы: быть русскою! В таком положении застал русскую грамотность и русский язык Петр Великий!.. Это был не язык, а смешение языков – настоящее вавилонское столпотворение!.. Трудно вообразить хаос спутаннее и безобразнее! Но Петру было не до того, как говорил народ: он начал с дела, оставя в покое слово. Одна мысль наполняла, теснила его великую душу: он видел, что народ его, народ юный и бодрый, полон сил, 23 кипит жизнию: но этим силам не было простора, этой жизни не доставало воздуха. Ему тяжело было ждать, пока медленным действием природы дитя укрепится, и само раздвинет свою тесную сферу, само добудет себе питания. И вот, одним взмахом могучей руки, бросил он это дитя на шумное раздолье Европы, прорубив мечем глухую стену, за которой оно скрывалось. Велики были следствия этой крупной меры! Дитя-народ не легко оторвался от домашнего очага, где ему было так привольно: он дичился и упрямился. Надо было приневолить его и физически и нравственно: надо было выгнать из него лень и родить недовольство собою, возбудить потребность соревнования. Воля Петра сделала то и другое: она действовала грозой и насмешкой. Скоро цель была достигнута: азиятская лень спала с плечь вместе с широким охабнем; азиятское самодовольство облетело вместе с бородою. Россия двинулась с Востока – и примкнула к европейскому Западу!... Но такой переворот был слишком поспешен. Потеряв центр своей тяжести, Русь не имела сил остановиться в данном ей направлении; она предалась безусловно эксцентрическому движению!.. Самодержец, требовавший единства во всех наружных формах своего народа по образцу европейскому, ведал, что слово, одно, не покорно ничьим велениям, что его нельзя сбрить как бороду, обрезать и перекроить как платье. Он сделал с ним все, что было в его власти: согласно с своей идеей, изменил буквенный костюм его по-европейски, и остальное предоставил самому себе! Вот почему литературный характер царствования Петрова представляет такое удивительное разнообразие. С одной стороны, церковно-славянский язык достиг высшей степени развития... с другой – школьно-латинское направление звучало устами Феофана, мужа совета и разума, обратившего свою европейскую образованность на политическое служение вере с современными нуждами. Между тем, под непосредственным влиянием Правительства, при Дворе и в Приказах, возник новый язык, приобретший вскоре законную, официальную важность. В силу новаго заграничнаго направления, все гражданские должности и отношения были переименованы по немецкому, иностранному маниру; новыя понятия и вещи ворвались оттуда с собственными именами; и язык дьяков, бывший дотоле 24 единственным хранилищем русскаго самоцветнаго красноречия, вдруг наводнился потоком чуждых, заморских слов, запестрел самой чудовищной смесью. Эта макароническая тарабарщина возрасла наконец до такой силы, что грозила оглушить совсем Россию!... Под народностью я разумею совокупность всех свойств, наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и нравственных, из которых слагается физиономия русскаго человека, отличающая его от всех прочих людей – европейцев столько ж, как и азиятцев. Как ни резки оттенки, положенные на нас столь различными влияниями столь разных цивилизаций, русской человек, во всех сословиях, на всех ступенях просвещения и гражданственности, имеет свой отличительный характер, если только не прикидывается умышленно обезьяною. Русской ум имеет свой особый сгиб; русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостью и гибкостью; точно так же как русское лицо имеет свой особый склад, отличается особенным, ему только свойственным выражением. У нас стремление к европеизму подавляет всякое уважение, всякое даже внимание к тому, что именно русское, народное. Я совсем не вандал, который бы желал отшатнуться опять в век, задвинутый от нас Петром Великим... Но позволю себе сделать замечание, что в Европе, которую мы принимаем за образец, которую так усердно копируем всеми нашими действиями – народность, как я ее понимаю, положена во главу угла цивилизации, столь быстро, столь широко, столь свободно распространяющейся. Если мы хотим в самом деле быть европейцами, походить на них не одним только платьем и наружными приемами, то нам должно начать тем, чтобы выучиться у них уважать себя, дорожить своей народной личностью сколько-нибудь, хотя не с таким смешным хвастовством, как француз, не с такой чванной спесью, как англичанин, не с таким глупым самодовольством, как немец. Обольстительныя идеи космополитизма не существуют в нынешней Европе: там всякой народ хочет быть собою, живет своей, самобытной жизнью. Ни в одной из них цивилизация не изгладила родной физиономии; она только просветляет ее, очищает, совершенствует... И никто из них не стыдится себя, не гнушается собой; напротив, все убеждены 25 твердо и непоколебимо, что лучше их, выше их, умней и просвещенней нет в свете!... Отчего ж мы, русские, боимся быть русскими?... Да и что такое Европа – Европа? Кто-то раз шутя говорил, что он хочет переделать географию и разделить землю не на пять, а на шесть частей: Европу, Азию, Африку, Америку, Океанию и Россию. Эта шутка для меня имеет в себе много истины. В самом деле, наше отечество, по своей безпредельной обширности, простирающейся чрез целыя три части света, по своему физическому разнообразию...по разнообразию своих жителей... имеет полное право быть особенною, самобытною, самостоятельною частью вселенной. Ему ли считать для себя честью быть примкнутым к Европе, к этой частичке земли, которой не достанет на иную из губерний? Знаю, что теперь нам надо еще учиться да учиться у Европы; но не с тем, чтобы потерять свою личность, а чтоб укрепить ее, возвысить!... У русского человека довольно ума, чтобы не жить всегда чужим умом, довольно силы, чтоб работать из себя и для себя, а не на европейской барщине!... Пусть он питается европейскою жизнью, чтоб быть истинно русским; пусть литература его, освежаясь воздухом европейского просвещения, остается тем, чем должна быть всякая живая, самобытная литература – самовыражением народным! П. Я. Чаадаев ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА (1828–1831) Мы... явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишенные наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования. Каждому из нас приходится самому искать путей для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье. То, что у других народов просто привычка, инстинкт, то нам приходится вбивать в свои головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последст26 вие культуры, всецело заимствованной и подражательной. Внутреннего развития, естественного прогресса у нас нет, прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не вырастают из первых, а появляются у нас откуда-то извне. Мы воспринимаем идеи только в готовом виде; поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед, но в косвенном направлении, т. е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставляли самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего, все их знание на поверхности, вся их душа – вне их. Таковы же и мы. Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей – годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. И, конечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы испытываем до свершения наших судеб? Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство; несмотря на их разделение на отрасли латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует связывающая их в одно целое черта, явная для всякого, кто углубится в общие их судьбы. Вы знаете, еще не так давно вся Европа носила название христианского мира, и слово это значилось в публичном праве. Помимо общего всем обличья, каждый из народов этих имеет свои особые черты, но все это коренится в истории и в традициях и составляет наследственное достояние этих народов. А в их недрах каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследства, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Сравните то, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи можем почерпнуть в повседневном обиходе мы, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руководства в жизни. Заметьте при этом, что дело идет 27 здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, охватывающих ребенка в колыбели, нашептываемых ему в ласках матери, окружающих его среди игр, о тех, которые в форме различных чувств проникают в мозг его вместе с воздухом и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Вам надо назвать их? Это идеи долга, справедливости, права, порядка. Они имеют своим источником те самые события, которые создали там общество, они образуют составные элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейца. А что вы взамен этого поставите у нас? Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; но ясно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда народ этот не в силах сосредоточить своей мысли ни на каком ряде идей, которые постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие в общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому подражанию другим народам. Вот почему, как вы можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам чужд. В лучших умах наших есть что-то еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные вспышки, парализуются в нашем мозгу. В природе человека – теряться, когда он не в состоянии связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность. Раз он не руководим ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас – это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, которое когда-то ставили в упрек французам и которое, в конце концов, было не чем иным, как легким способом воспринимать окружающее, что не исключало ни глубины ума, ни широты кругозора и 28 вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут – бессмысленность жизни без опыта и предвидения, не имеющей отношения ни к чему, кроме призрачного бытия особи, оторванной от своего видового целого, не считающейся ни с требованиями чести, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с наследственными стремлениями данной семьи и со всем сводом предписаний и точек зрения, которые определяют и общественную, и частную жизнь в строе, основанном на памяти прошлого и на заботе о будущем. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособленно, и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее обличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на юге, где лица так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица моих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших выражений. Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беззаветную отвагу, особенно замечаемую в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что та самая причина, которая делает нас подчас столь смелыми, постоянно лишает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к случайностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют людей на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги даже и высшие классы – как ни тяжело, а приходится признать это – не свободны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и здоровых, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, отнюдь нет. Но я говорю, 29 что, судя о народах, надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера... А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим – на Германию, мы бы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы – воображение и разум и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль предоставило нам Провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем обычном благодетельном влиянии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не захотело ни в чем вмешиваться в наши дела, не захотело ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Наблюдая нас, можно бы сказать, что здесь сведен на нет всеобщий закон человечества. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения, и из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Удивительное дело. Даже в области той науки, которая все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если бы полчища варваров, потрясших мир, не прошли по занятой нами стране прежде нашествия на Запад, мы бы едва ли дали главу для всемирной истории. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подня- 30 ли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своей славной судьбе, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные понятия и гибельные заблуждения, последствием которых была катастрофа, откинувшая нас назад на полвека. В крови у нас есть что-то такое, что отвергает всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем лишь для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования... В то время, когда среди борьбы между исполненным силы варварством народов севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов. Только что перед тем эту семью вырвал из вселенского братства один честолюбивый ум, вследствие этого мы и восприняли идею в искаженном людской страстью виде. В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там из него истекало, все там сосредоточивалось. Все умственное движение той поры только и стремилось установить единство человеческой мысли, и всякий импульс истекал из властной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые этому чудотворному принципу, мы стали жертвой завоевания. И когда затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, если бы только не были отторгнуты от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжелому, и притом освященному самым фактом избавления нас от ига. Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося мрака, покрывавшего Европу. Большинство знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже предугадывалось в умах; характер нового общества уже определился, и, обращаясь назад к языческой древности, мир христианский снова обрел формы прекрасного, кото31 рых ему еще недоставало. До нас же, замкнутых в нашей схизме, ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не было дела до великой всемирной работы. Выдающиеся качества, которыми религия одарила современные народы и которые в глазах здравого смысла ставят их настолько выше древних, насколько последние выше готтентотов или лапландцев; новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; нравы, которые под влиянием преклонения перед безоружной властью стали столь же мягкими, как ранее они были жестоки, – все это прошло мимо нас. Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величественно шествовало по пути, указанному божественным его основателем, и увлекало за собой поколения людей, мы не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревешек и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас совершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства. Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся и притом под прямым и явным воздействием одной нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, да еще не дав себе ясного отчета в том, как он совершился?.. Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по европейскому образцу? Да, мы без всякого сомнения христиане, но не христиане ли и абиссинцы? И можно быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе, разве не цивилизованна Япония, да еще и в большей степени, чем Россия, если верить одному из наших соотечественников. Но разве вы думаете, что христианство абиссинцев и цивилизация японцев водворяет тот строй, о котором я только что говорил и который составляет конечное назначение человеческого рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления от Божеских и человеческих истин низведут небо на землю?.. Наша чужеядная цивилизация так двинула нас в Европу, что, хотя мы и не имеем ее идей, у нас нет другого языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться. Если ничтожное количество установившихся у нас навыков ума, традиций, воспоминаний, если ничто вообще из нашего прошлого не объединяет нас ни с одним на32 родом на земле, если мы на самом деле не принадлежим ни к какой нравственной системе вселенной, то, во всяком случае, внешность нашего социального быта связывает нас с западным миром. Эта связь, надо признаться, очень слабая, не соединяющая нас с Европой так крепко, как это воображают, и не заставляющая нас ощущать всем своим существом великое движение, которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судьбы европейского общества. Потому чем более мы будем стараться с нею отождествиться, тем лучше нам будет. До сих пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других, осталось вне нас, как простое украшение, не проникая в глубину наших душ; в наши дни силы ведущего общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем и телом и духом, это несомненно: нам никак не удастся долго еще пребыть в нашем одиночестве. Сделаем же, что в наших силах, для расчистки путей нашим внукам. Не в нашей власти оставлять им то, чего у нас не было, – верований, разума, созданного временем, определенно обрисованной личности, убеждений, развитых ходом продолжительной духовной жизни, оживленной, деятельной, богатой результатами, – передадим им по крайней мере несколько идей, которые, хотя бы мы и не сами их нашли, переходя из одного поколения в другое, тогда получат нечто, свойственное традиции, и этим самым приобретут некоторую силу, несколько большую способность приносить плод, чем это дано нашим мыслям. Этим мы бы оказали услугу потомству и не прошли бы без всякой пользы свой земной путь. В. Г. Белинский РОССИЯ ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО (1841) Мы, русские, беспрестанно упрекаем самих себя в холодности ко всему родному, в равнодушии ко всему отечественному, русскому... Что такое любовь к своему без любви к общему? Что такое любовь к родному и отечественному без любви к общечеловеческому? Разве русские сами по себе, а человечество само по себе? Сохрани бог!.. Только какие-нибудь китайцы особны и самостоятельны в отно33 шении к человечеству; но потому-то они и представляют собою карикатуру, пародию на человечество, и человечество отвращается от братства с ними. Но и китайцы еще не пример в этом вопросе, потому что было время, когда и китайцы были связаны с человечеством, выразив собою первый момент его сознания в форме гражданского общества; этому и обязаны они своим дивным государственным устройством, в котором все определено и ничего не оставлено без сознания и которое теперь потому только смешно, что, лишенное движения, представляет собою как бы окаменевшее прошедшее или египетскую мумию довременного общества. Нет, здесь в пример идут разве какиенибудь якуты, буряты, камчадалы, калмыки, черкесы, негры, которые действительно ничего общего с человечеством не имели, которых человечество не признает живою, кровною частию самого себя и для которых, может быть, есть только будущее... Итак, разве Петр Великий только потому велик, что он был русский, а не потому, что он был также человек и что он более, нежели кто-нибудь, имел право сказать о самом себе: я человек – и ничто человеческое не чуждо мне! Разве мы можем сказать о себе, что любим Петра и гордимся им, если мы не любим Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Густава Адольфа, Фридриха Великого и других представителей человечества? Что он к нам ближе всех других, что мы связаны с ним более родственными, более, так сказать, кровными узами – об этом нет и спора, это истина святая и несомненная; но все-таки мы любим и боготворим в Петре не то, что должно или может принадлежать только собственно русскому, но то общее, что может и должно принадлежать всякому человеку, не по праву народному, а по праву природы человеческой. Гений, в смысле превосходных способностей и сил духа, может явиться везде, даже у диких племен, живущих вне человечества; но великий человек может явиться только или у народа, уже принадлежащего к семейству человечества, в историческом значении этого слова, или у такого народа, который миродержавными судьбами предназначено ему, как, например, Петру, ввести в родственную связь с человечеством. И потому-то есть разница между великими людьми человечества и гениями племен и, так сказать, заштатных народов; есть великая разница между Александром Македонским, Юлием Цезарем, Карлом Великим, Петром Великим, Наполеоном – и между 34 Аттилою, Чингисом, Тамерланом: первые должны называться великими людьми, вторые – les grands kalmuks.. . (монголами – Л. Ш.) Записные наши исторические критики заняты вопросом " откуда пошла русь" – от Балтийского или от Черного моря. Им как будто и нужды нет, что решение этого вопроса не делает ни яснее, ни занимательнее баснословного периода нашей истории. Норманны ли забалтийские или татары запонтийские – все равно: ибо если первые не внесли в русскую жизнь европейского элемента, плодотворного зерна всемирно-исторического развития, не оставили по себе никаких следов ни в языке, ни в обычаях, ни в общественном устройстве, то стоит ли хлопотать о том, что норманны, а не калмыки пришли княжити над словены; если же это были татары, то разве нам легче будет, если мы узнаем, что они пришли к нам из-за Урала, а не из-за Дона и вступили в словенскую землю правою, а не левою ногою?.. Ломать голову над подобными вопросами, лишенными всякой существенной важности, которая дается факту только мыслию, – все равно, что пускаться в археологические изыскания и писать целые томы о том, какого цвета были доспехи Святослава и на которой щеке была родинка у Игоря... Даже и собственно история московского царства есть только введение, разумеется, несравненно важнее первого, – введение в историю государства русского, которое началось с Петра. В этом введении встречаются интересные лица, сильные и могучие характеры, даже драматические положения целого народа; но все это имеет чисто человеческий, а не исторический интерес; все это так же интересно в русской истории, как и в истории всякого другого народа во всех пяти частях света. История есть фактическое жизненное развитие общей (абсолютной) идеи в форме политических обществ. Сущность истории составляет только одно разумно необходимое, которое связано с прошедшим, и в настоящем заключает свое будущее. Содержание истории есть общее: судьбы человечества. Как история народа не есть история мильонов отдельных лиц, его составляющих, но только история некоторого числа лиц, в которых выразились дух и судьбы народа, – точно так же и человечество не есть собрание народов всего земного шара, но только нескольких народов, выражающих собою идею человечества... 35 Чтоб лучше показать, какая разница между интересным характером народа, не жившего жизнию человечества, и интересным характером всемирно-исторического народа, сравним Иоанна Грозного и Лудовика XI. Оба они – характеры сильные и могучие, оба ужасны своими делами: но Иоанн Грозный – важное лицо только для частной истории России: он довершил уничтожение уделов, окончательно решил местный вопрос, многозначительный только для России, – между тем как тирания Лудовика XI имела великое значение для Франции и, следовательно, для Европы: Лудовик нанес ужасный удар феодализму, сколько можно было сосредоточил государство, поднял среднее сословие, установил почты, хитрою и коварною своею политикою отстоял Францию от Карла Смелого и других опасных врагов, и пр. В характере и действиях Лудовика XI выразился дух эпохи, конец средних веков и начало новейшей истории Европы. Иоанн интересен как человек в известном положении, даже как частно-историческое лицо; Лудовик XI – как лицо всемирно-историческое. Иоанн пал жертвою условий жизни народа, на котором вымещал свою погибель; Лудовик, чувствуя на себе влияние времени, был в то же время не только рабом его, но и господином, ибо давал ему направление и управлял его ходом... Что же до самой интереснейшей эпохи нашей истории – царствования Петра Великого, ее как будто и не существует в глазах наших ученых, поглощенных общими местами о происхождении Руси. А между тем каждый, если случится ему написать имя Петра, почитает за долг выйти из себя, накричать множество громких фраз, зная, что бумага все терпит. Иные из писавших о Петре, впрочем люди благонамеренные, впадают в странные противоречия, как будто влекомые по двум разным, противоположным направлениям: благоговея перед его именем и делами, они на одной странице весьма основательно говорят, что на что ни взглянем мы на себя и кругом себя – везде и во всем видим Петра; а на следующей странице утверждают, что европеизм – вздор, гибель для души и тела, что железные дороги ведут прямо в ад, что Европа чахнет, умирает и что мы должны бежать от Европы чуть-чуть не в степи киргизские... 36 В чем заключается дело Петра Великого? В преобразовании России, в сближении ее с Европою. Но разве Россия и без того находилась не в Европе, а в Азии? В географическом отношении, она всегда была державою европейскою; но одного географического положения мало для европеизма страны. Что же такое Европа и что такое Азия? – Вот вопрос, из решения которого только можно определить значение, важность и великость дела Петра. Азия – страна так называемой естественной непосредственности, Европа – страна сознания; Азия – страна созерцания, Европа – воли и рассудка. Вот главное и существенное различие Востока и Запада, причина и исходный пункт истории того и другого. Азия была колыбелью человеческого рода и до сих пор осталась его колыбелью: дитя выросло, но все еще лежит в колыбели, окрепло – но все еще ходит на помочах... Что общего между монахом средних веков, в тишине кельи, при свете лампы, писавшим свои простодушные хроники, и профессором нашего времени, с кафедры критически рассматривающим наивную летопись монаха? Что общего между алхимиком средних веков, таинственно, с опасностию подвергнуться пытке и сожжению за колдовство, отыскивавшим философский камень, и Кювье, Жоффруа де Сент-Илером, Гумбольдтом, открыто, перед всем человечеством совлекающими с природы таинственные ее покровы? Что общего между бродячим трубадуром средних веков, украшавшим своими песнями пиры царей, и между поэтом новейшей Европы, или гонимым от общества, или носившим ливрею знатных бар, и наконец – между Байронами, Гете, Шиллерами, Вальтер Скоттами – этими гордыми властелинами нашего времени? Что общего? – Ничего! Однако ж все эти противоположности – не иное что как крайние звенья одной и той же великой цепи духовного развития и цивилизации. Самое непостоянство мод в платье и мебели выходит в Европе из глубокого начала движущейся и развивающейся жизни и имеет великое значение. Год для Европы – век для Азии; век для Европы – вечность для Азии. Все великое, благородное, человеческое, духовное взошло, выросло, расцвело пышным цветом и принесло роскошные плоды на 37 европейской почве. Разнообразие жизни, благородные отношения полов, утонченность нравов, искусство, наука, порабощение бессознательных сил природы, победа над матернею, торжество духа, уважение к человеческой личности, святость человеческого права, – словом, все, во имя чего гордится человек своим человеческим достоинством, через что считает он себя владыкою всего мира, возлюбленным сыном и причастником благости божией, – все это есть результат развития европейской жизни. Все человеческое есть европейское, и все европейское – человеческое... Россия не принадлежала, и не могла, по основным элементам своей жизни, принадлежать к Азии: она составляла какое-то уединенное, отдельное явление; татары, по-видимому, должны были сроднить ее с Азиею; они и успели механическими внешними узами связать ее с нею на некоторое время, но духовно не могли, потому что Россия держава христианская. Итак, Петр действовал совершенно в духе народном, сближая свое отечество с Европою и искореняя то, что внесли в него татары временно азиатского... Национальные пороки бывают двух родов: одни выходят из субстанционального духа, как, например, политическое своекорыстие и эгоизм англичан; религиозный фанатизм и изуверство испанцев; мстительность и склонный к хитрости и коварству характер итальянцев; другие бывают следствием несчастного исторического развития и разных внешних и случайных обстоятельств, как, например, политическое ничтожество итальянских народов. И потому одни национальные пороки можно назвать субстанциальными, другие – прививными. Мы далеки от того, чтобы думать, что наша национальность была верх совершенства: под солнцем нет ничего совершенного; всякое достоинство условливает собою и какой-нибудь недостаток. Всякая индивидуальность уже по тому самому есть ограничение, что она индивидуальность; всякий же народ – индивидуальность, подобная отдельному человеку. С нас довольно и того, что наши национальные недостатки не могут нас унизить перед благороднейшими нациями в человечестве. Что же до прививных – чем громче будем мы о них говорить, тем больше покажем уважения к своему достоинству; чем с 38 большею энергиею будем их преследовать, тем больше будем способствовать всякому преуспеянию в благе и истине. Внутренний порок есть болезнь, с которою родится нация, отвержение которой иногда может стоить жизни; прививной порок есть нарост, который, будучи срезан, хотя бы и не без боли, искусною рукою оператора, ничего не лишает тело, а только освобождает его от безобразия и страдания. Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, но из неблагоприятного исторического развития. Варварские тевтонские племена, нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастие столкнуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Рима – с этими благородными почвами, на которых выросло широколиственное, величественное древо европеизма. Дряхлый, изнеможенный Рим, передав им истинную веру, впоследствии времени передал им и свое гражданское право; познакомив их с Виргилием, Горацием и Тацитом, он познакомил их с Гомером, и с трагиками, и с Плутархом, и с Аристотелем. Разделяясь на множество племен, они как будто столпились на пространстве, недостаточном для их многолюдства, и беспрестанно, так сказать, ударялись друг о друга, как сталь о кремень, чтобы извлекать из себя искры высшей жизни. Жизнь России, напротив, началась изолированно, в пустыне, чуждой всякого человеческого и общественного развития. Первоначальные племена, из которых впоследствии сложилась масса ее народонаселения, занимая одинаково долинные страны, похожие на однообразные степи, не заключали в себе никаких резких различий и не могли действовать друг на друга в пользу развития гражданственности. Богемия и Польша могли бы ввести Россию в соотношения с Европою и сами по себе быть полезны ей, как племена характерные; но их навсегда разделила с Россиею враждебная разность вероисповеданий. Следовательно, от Запада она была отрезана в самом начале; а Византия, в отношении к цивилизации, могла подарить ее только обыкновением чернить зубы, белить лица и выкалывать глаза врагам и преступникам. Княжества враждовали между собою, но в этой вражде не было никакого разумного начала, и потому из нее не вышло никаких хороших результатов... Нахлынули татары и спаяли разрозненные члены России ее же кровью. В этом состояла ве- 39 ликая польза татарского двухвекового ига; но сколько же сделало оно и зла России, сколько привило ей пороков! Затворничество женщин, рабство в понятиях и чувствах, кнут, привычка зарывать в землю деньги и ходить в лохмотьях, боясь обнаружиться богачом, лихоимство в деле правосудия, азиатизм в образе жизни, лень ума, невежество, презрение к себе – словом, все то, что искоренял Петр Великий, что было в России прямо противоположно европеизму, все это было не наше родное, но привитое к нам татарами. Самая нетерпимость русских к иностранцам вообще была следствием татарского ига, а совсем не религиозного фанатизма: татарин огадил в понятии русского всякого, кто не был русским, и слово басурман от татар перешло и на немцев... В России до Петра Великого не было ни торговли, ни промышленности, ни полиции, ни гражданской безопасности, ни разнообразия нужд и потребностей, ни военного устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не законом, а обычаем. А нравы? – какая грустная картина! Сколько тут азиатского, варварского, татарского! Сколько унизительных для человеческого достоинства обрядов, например, в бракосочетании, и не только простолюдинов, но и высших особ в государстве! Сколько простонародного и грубого в пирах! Сравните эти тяжелые яденья, это невероятное питье, эти грубые целования, эти частые стуканья лбом о пол, эти валяния по земле, эти китайские церемонии, сравните их с турнирами средних веков, с европейскими пиршествами XVII столетия... Хороши были наши брадатые рыцари и кавалеры! Да не дурны были и наши бойкие дамы, потягивавшие "горькое"! Славное было житье: женились, не зная на ком, ошибившись в выборе, били и мучили жен, чтобы насильно возвысить их до ангельского чину, а не брало это – так отравляли зельями; ели гомерически, пили чуть не ушатами, жен прятали и, только разгоревшись от полусотни перечных кушаний и нескольких ведер вина и меду, вызывали их на поцелуи... Все это столько же нравственно, сколько и эстетично... Но все это опять-таки нисколько не относится к унижению народа ни в нравственном, ни в философском отношении, ибо все это было следствием изолированного от Европы исторического 40 развития и следствия влияния татарщины. И, как скоро отворил Петр двери своему народу на свет божий, мало-помалу тьма невежества рассеялась – народ не выродился, не уступил своей родной почвы другому племени, но уже стал не тот и не такой, как был прежде... И потому, господа защитники варварской старины нашей, воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства русского!.. Только азиатские души могут ставить Петру в упрек то, что он придал вельможеству характер бюрократии, сделав его доступным людям низкого происхождения, но высокого духа, людям даровитым и способным. Если бы наше вельможество и могло когда-нибудь превратиться в чистую бюрократию, то в этом Петр нисколько не виноват: значит, так должно, так нужно быть; значит, иначе быть не может; значит, нет в вельможестве субстанциональной силы, которая дала бы ему возможность, не изменяясь, пройти сквозь все изменения гражданского устройства и быта России. Что такое аристократия? – Привилегированное сословие, исторически развившееся, которое, стоя на вершине государства, посредствует между народом и высшею властью и развивает своим бытом и деятельностью идеальные понятия о личной чести, благородстве, неприкосновенности их прав, из рода в род передает высшую образованность, идеальное изящество в формах жизни. Такова была аристократия в Европе до конца прошлого века, такова и теперь аристократия в Англии. Если в средние века короли могли употреблять во зло свою власть над могучими вассалами, всетаки они могли лишить их только жизни, но не чести, – отрубить голову, а не бить батогами, плетьми или кнутом. И лишить жизни своего вассала король мог не иначе, как по форме судопроизводства и приговору (хотя бы и не всегда справедливому) суда. Понятие о чести, составляющее душу и кровь истинной аристократии, вышло в Европе из того, что все аристократы были сперва сами владетельными особами, а рыцарство еще более придало благородный и человечественный характер их понятиям о чести. Наши бояре тоже были сперва владетельными особами; но, перестав быть государями, тотчас же сделались только почетными слугами: татарское иго, сокрушившее феодальную систему, было для наших воображаемых феодалов тем же, чем было 41 рыцарство для феодалов Запада. Невыгодное тождество!.. И потому наш боярин не считал себе за бесчестье не знать грамоты, не иметь ни познаний, ни образования: все это, по старинным понятиям, было приличнее последнему холопу, чем боярину. По этому же самому он считал для себя бесчестием не розги, не батоги, не плети, не кнут, не застеночную пытку, не тюрьму, а "место" за царским столом ниже боярина, равного с ним по породе, но не равного по чести своих предков, или высшего заслугами, но низшего родом. По этому же самому наши бояре, по выражению Кошихина, лаяли друг на друга, а не переведывались оружием по-рыцарски. Защитники патриархальных нравов против цивилизованных с особенным торжеством ссылаются на непоколебимую верность и беспрекословное повиновение народа высшей власти во времена старой России. Но исторические факты слишком резко противоречат этому убеждению и слишком ясно доказывают старинную истину, что "крайности сходятся"... Защитники нашей патриархальной старины обыкновенно говорят, что и в Европе во времена варварства было не лучше, чем у нас. Но во времена ее варварства, а у нас в XVIII веке (до царствования Екатерины Великой) было то, что в Европе было в IV и V веках – были пытки, изуверство, суеверие, но не было кнута, подаренного нам татарами. Но, что всего важнее, в Европе было развитие жизни, движение идеи; подле яду там росло и противоядие – за ложным или недостаточным определением общества тотчас же следовало и отрицание этого определения другим, более соответствующим требованию времени определением. И потому-то невольно миришься со всеми ужасами, бывшими в Европе тех времен, миришься с ними за их благородный источник, за их благие результаты. Но Россия была скована цепями неподвижности, дух ее был сперт под толстою ледяною корою и не находил себе исхода. Некоторые думают, что Россия могла бы сблизиться с Европою без насильственной реформы, без отторжения, хотя бы и временного, от своей народности, но собственным развитием, собственным гением. Это мнение имеет всю внешность истины и потому блестяще и обольстительно; но внутри пусто, как большой, красивый, но гнилой орех: его опровергает самый опыт, факты истории. Никогда Россия не 42 сталкивалась с Европою так близко, так лицом к лицу, как в эпоху междуцарствия. Димитрий Самозванец, с своею обольстительною Мариною Мнишек, с своими поляками, был не чем иным, как нашествием немецких обычаев на русские, но главнейшая причина его гибели, кроме дерзости, была та, что он после обеда не спал на лавке, а осматривал публичные работы, ел телятину и по субботам не ходил в баню... Есть факт, еще более поразительный: это – Новгород. Прекрасно русское выражение "новгородская вольница", и странно мнение многих ученых, которые от чистого сердца, то есть не шутя, видели в Новгороде республику и живой член ганзеатического союза. Правда, новгородцы были друзья "немцам", беспрестанно обращались с ними, но немецкие идеи и не коснулись их. Это была не республика, а "вольница", в ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность холопей, как-то отделавшихся от своих господ, – и порабощение Новгорода Иоанном III и Иоанном Грозным было делом, которое оправдывается не только политикою, но и нравственностию. От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики. Они возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкою и уже не в силах справиться с ним, как должно: она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает. Оба Иоанны понимали это: они не завоевывали, но усмиряли Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину. Усмирение это не стоило им никаких особенных усилий: завоевание Казани было в тысячу раз труднее для Грозного. Нет! была стена, отделявшая Россию от Европы: стену эту мог разрушить только какой-нибудь Сампсон, который и явился Руси в лице ее Петра. Наша история шла иначе, чем история Европы, и наше очеловечение должно было совершиться совсем иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловным подражанием цивилизованным. Сама Европа доказывает это: Италия называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всем – даже в пороках. Могла ли Россия начинать с начала, когда перед ее глазами был уже конец? Неужели ей нужно было начать, например, военное искусство с той точки, с которой оно началось в Европе во времена феодализма, когда в нее стреляли из пушек и мортир, а нестройные толпы ее могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшиеся 43 по команде одного человека? Смешная мысль! Если же Россия должна была учиться военному искусству, в каком было оно состоянии в Европе XVII века, то должна была учиться и математике, и фортификации, и артиллерийскому и инженерному искусству, и навигации, а если так, – могла ли она приниматься за геометрию не прежде, как арифметика и алгебра уже укоренятся в ней и их изучение окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа. Однообразие в одежде для солдат есть не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской униформы, следовательно, необходимо должно было принять европейскую; а как же можно было сделать это с одними солдатами, не победивши отвращения к иностранной одежде в целом народе? И что бы за отдельную нацию в народе представляли собою солдаты, если бы все прочее ходило с бородами, в балахонах и безобразных сапожищах? Чтобы одеть солдат, нужны были фабрики (а их, благодаря патриархальности диких нравов, не было): неужели же для этого надо было ожидать свободного и естественного развития промышленности? При солдатах нужны офицеры (кажется, так, господа старообрядцы и антиевропейцы?), а офицеры должны быть из высшего сословия против того, из которого набирались солдаты, и на их мундиры нужно было сукно потоньше солдатского: так неужели же это сукно следовало покупать у иностранцев, платя за него русскими деньгами, или дожидаться, пока (лет в 50) фабрики солдатского сукна придут в совершенство и из них разовьются тонкосуконные фабрики? Что за нелепости! Нет: в России надо было начинать все вдруг, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатского сукна фабрикам мужицко-сермяжного сукна, академию – уездным училищам, корабли – баркам... Да, у нас все должно было начинать сверху вниз, а не снизу вверх, ибо в то время, как мы почувствовали необходимость сдвинуться с места, на котором дремали столько веков, мы уже увидели себя на высоте, которую другие взяли приступом. Разумеется, на этой высоте увидел себя не народ (в таком случае ему не для чего было бы и подыматься), а правительство, и то в лице только одного человека – царя своего. Петру некогда было медлить: ибо дело шло уже и не о будущем величии России, а о спасении ее в настоящем. Петр явился вовремя: опоздай он четвертью века, и тогда – спасай, или спасайся 44 кто может... Провидение знает, когда послать на землю человека. Вспомните, в каком тогда состоянии были европейские государства, в отношении к общественной, промышленной, административной и военной силе, и в каком состоянии была тогда Россия во всех этих отношениях! Мы так избалованы нашим могуществом, так оглушены громом наших побед, так привыкли видеть стройные громады наших войск, что забываем, что всему этому только 132 года (считая от победы под Лесным – первой великой победы, одержанной русскими регулярными войсками над шведами). Мы как будто все думаем, что это было у нас искони веков, а не с Петра Великого... Нет, без Петра Великого для России не было никакой возможности естественного сближения с Европою, ибо в ней не было живого зерна развития... Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею... Некоторые приписывают реформе Петра Великого то вредное следствие, что она поставила народ в странное положение: не привив ему истинного европеизма, только отторгла его от родной сферы и сбила с здравого и крепкого природного смыслу. Несмотря на всю ложность этого мнения, оно имеет основание и, по крайней мере, достойно опровержения. В самом деле, если реформа развязала, так сказать, душевные силы даровитых людей, подобных Шереметеву, Меншикову и другим, зато из большинства сделала каких-то кривляк и шаркунов... Да, все это правда, но только за все это Петра так же нелепо обвинять, как и врача, который, чтобы вылечить человека от горячки, сперва ослабляет и истощает его до последней крайности кровопусканиями, а выздоравливающего мучает строгою диетою. Вопрос не в том, что Петр сделал нас полуевропейцами и полурусскими, а следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, то не упрекать Петра, а удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное, от начала мира, такое исполинское дело!.. 45 А. С. Хомяков О СТАРОМ И НОВОМ (1839) Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее. Все, что можно разобрать в первых началах истории русской, заключается в немногих словах. Правительство из Варягов представляет внешнюю сторону; областные веча – внутреннюю сторону государства. Во всей России исполнительная власть, защита границ, сношения с державами соседними находятся в руках одной варягорусской семьи, начальствующей над наемной дружиной; суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правления внутреннего предоставлены народному совещанию. Везде по всей России устройство почти одинаковое; но совершенного единства обычаев не находим не только между отдаленными городами, но ниже между Новгородом и Псковом, столь близкими и по месту, и по выгодам, и по элементам народонаселения. Где же могла находиться внутренняя связь? Случайно соединено несколько племен славянских, мало известных друг другу, не живших никогда одною общею жизнью государства; соединены они какой-то федерациею, основанною на родстве князей, вышедших не из народа, и, может быть, отчасти единством торговых выгод; как мало стихий для будущей России! Другое основание могло поддержать здание государственное, это единство веры и жизнь церковная; но Греция посылала нам святителей, имела с нами одну веру, одни догматы, одни обряды, а не осталась ли она нам совершенно чуждою? Без влияния, без живительной силы Христианства не восстала бы земля русская; но мы не имеем 46 права сказать, что одно Христианство воздвигло ее. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в Церкви, но в Церкви возможной, в Церкви просвещенной и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле. Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательною, но деятельною и сухопрактическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазительный, но обреченный на гибель, мир католицизма и реформаторства. Иная была судьба церкви восточной. Долго боролась она с заблуждениями индивидуального суждения, долго не могла она успокоить в правоте веры разум, взволнованный гордостью философии эллинской и мистицизмом Египта или Сирии. Прошли века, яснилось понятие, смирилась гордость ума, истина явилась в свете ясном, в формах определенных; но Промысл не дозволил Греции тогда же пожать плоды своих трудов и своей прекрасной борьбы. Общество существовало уже на основании прочном, выведенном историей, определенном законами положительными, логическими, освещенном великою славою прошедшего, чудесами искусства, роскошью поэзии; и между тем все это – история, законы, слава, искусство, поэзия – разногласило с простотой духа христианского, с истинами его любви. Народ не мог оторваться от своей истории, общество не могло пересоздать свои законы: Христианство жило в Греции, но Греция не жила Христианством... Такова была Греция, таково было ее Христианство, когда угодно было Богу перенести в наш Север семена жизни и истины. Не могло духовенство византийское развить в России начала жизни гражданской, о которой не знало оно в своем отечестве. Полюбив монастыри сперва, как я сказал, поневоле, Греция явилась к нам со своими предубеждениями, с любовью к аскетизму, призывая людей к покаянию и к совершенствованию, терпя общество, но не благословляя его, повинуясь государству, где оно было, но не созидая там, где его не было. Впрочем, и тут она заслужила нашу благодарность! Чистотой учения она улучшила нравы, привела к согласию обычаи разных племен, обняла всю Русь цепью духовного единства и приготови47 ла людей к другой, лучшей эпохе жизни народной... Грубость России, когда она приняла Христианство, не позволила ей проникнуть в сокровенную глубину этого святого учения, а ее наставники утратили уже чувство первоначальной красоты его. Оттого-то народ следовал» за князьями, когда их междоусобицы губили землю Русскую; а духовенство, стараясь удалить людей от преступлений частных, как будто бы и не ведало, что есть преступления общественные. При всем том, перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые. На нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедывала детям своим уроков неправосудия и насилия. Простота до татарского устройства областного не чужда была истины человеческой, и закон справедливости и любви взаимной служил основанием этого быта, почти патриархального. Теперь, когда эпоха создания государственного кончилась, когда связались колоссальные массы в одно целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому. Таким образом, мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории Церкви и законов ее – светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью. 48 А. С. Хомяков МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ (1845) В Европе стали много говорить и писать о России. Оно и неудивительно: у нас так много говорят и пишут о Европе, что европейцам хоть из вежливости следовало заняться Россиею... И сколько во всем этом вздора, сколько невежества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь: на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как кого-то мы спасли от неизбежной гибели; как другого, порабощенного, мы подняли, укрепили; как третьего, победив, мы спасли от мщения, и т. д. Досада нас позволительна; но досада скоро сменяется другим, лучшим чувством – грустью истинной и сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданиям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв – насмешка и ругательство; всегда одно чувство – смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека. Трудно объяснить эти враждебные чувства в западных народах, которые развили у себя столько семян добра и подвинули так далеко человечество по путям разумного просвещения. Европа не раз показывала сочувствие даже с племенами дикими, совершенно чуждыми ей и не связанными с нею никакими связями кровного или духовного родства. Конечно, в этом сочувствии высказывалось все-таки какое-то презрение, какая-то аристократическая гордость крови или, лучше сказать, кожи; конечно, европеец, вечно толкующий о человечестве, никогда не доходил вполне до идеи человека; но все-таки хоть изредка высказывалось сочувствие и какая-то способность к любви. Странно, что Россия одна имеет как будто бы привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца. Кажется, у нас и кровь индоевропейская, как и у наших западных соседей, и кожа индо49 европейская (а кожа, как известно, дело великой важности, совершенно изменяющее все нравственные отношения людей друг с другом), и язык индо-европейский, да еще какой! самый чистейший и чуть-чуть не индейский; а все-таки мы своим соседям не братья. Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде пред этою самостоятельною силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов. Отказать нам в наших правах они не могут: мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслуженными они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое духовное начало, не вполне еще проникнутое человеческою любовью, имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать уважения... Много веков прошло, и историческая жизнь России развилась не без славы, несмотря на тяжелые испытания и на страдания многовековые. Широко раскинулись пределы государства, уже и тогда обширнейшего в целом мире. Жили в ней и просвещение и сила духа, которые одни могли так победоносно выдерживать такие сильные удары и такую долгую борьбу; но в тревогах боевой и треволненной жизни, в невольном отчуждении от сообщества других народов Россия отстала от своей западной братии в развитии вещественного знания, в усовершенствованиях науки и искусства. Между тем жажда знания давно уже пробудилась, и наука явилась на призыв великого гения, изменившего судьбу государства. Отовсюду стали стекаться к нам множество ученых иностранцев со всеми разнообразными изобретениями Запада. Множество было отдано русских на выучку к этим новым учителям, и, разумеется, по русской смышленности, они выучились довольно легко; но наука не пустила крепких корней. В учение к иностранцам отдавались люди, принадлежавшие к высшему и служилому сословию; другие заботы, другие привычки, наследственные и родовые, отвлекали их от поприща, на которое они были призваны новыми государственными потребностями. В науке видели они 50 только обязанность свою и много-много общественную пользу. С дальних берегов Северного Океана, из рядов простых крестьян– рыбаков, вышел новый преобразователь. Много натерпелся он в жизни своей для науки, много настрадался, но сила души его восторжествовала. Он полюбил науку ради науки самой и завоевал ее для России. Быстры были наши успехи; жадно принимали мы всякое открытие, всякое знание, всякую мысль и, как бы ни был самолюбив Запад, он может не стыдиться своих учеников. Но мы еще не приобрели права на собственное мышление или если приобрели, то мало им воспользовались. Наша ученическая доверчивость все перенимает, все повторяет, всему подражает, не разбирая, что принадлежит к положительному знанию, что к догадке, что к общечеловеческой истине и что к местному, всегда полулживому направлению мысли; но за эту ошибку нас строго судить не должно. Есть невольное, почти неотразимое обаяние в этом богатом и великом мире Западного просвещения. Строгого анализа нельзя требовать от народа в первые минуты его посвящения в тайну науки. Ошибки были неизбежны для первых преобразователей. Великий гений Ломоносова подчинился влиянию своих ничтожных современников в поэзии германской. Понимая строгую последовательность и, так сказать, рабство науки (которая познает только то, что уже есть), он не понял свободы художества, которое не воспринимает, но творит, и оттого надолго пошло наше художество по стезям рабского подражания. В народах, развивающихся самобытно, богатство содержания предшествует усовершенствованию формы. У нас пошло наоборот. Поэзия наша содержанием скудна, красотою же наружной формы равняется с самыми богатыми словесностями и не уступает ни одной. Разгадка этого исключительного явления довольно проста. Свобода мысли у нас была закована страстью к подражанию, а внешняя форма поэзии (язык) была выработана веками самобытной русской жизни. Язык словесности, язык так называемого общества (т. е. язык городской) во всех почти землях Европы мало принадлежал народу. Он был плодом городской образованности, и от этого происходит какая-то вялость и неповоротливость всех европейских наречий. Тому с небольшим полвека во Франции не было еще почти 51 ни одной округи (за исключением окрестностей Парижа), где бы говорили по-французски. Все государство представляло соединение диких и нестройных говоров, не имеющих ничего общего с языком словесности. Зато французский язык, создание городов, быть может и не совсем скудный для выражения мысли, без сомнения богатый для выражения мелких житейских и общественных потребностей, носит на себе характер жалкого бессилия, когда хочет выразить живое разнообразие природы. Рожденный в городских стенах, только по слухам знал он о приволье полей; о просторе Божьего мира, о живой и мужественной простоте сельского человека. В новейшее время его стали, так сказать, вывозить за город и показывать ему села, и поля, и рощи, и всю красоту поднебесную. В этом-то и состоит не довольно замеченная особенность слога современных нам французских писателей; но мертвому языку жизни не привьешь. Пороки французского языка более или менее принадлежали всем языкам Европы. Одна только Россия представляет редкое явление великого народа, говорящего языком своей словесности, но говорящего, может быть, лучше своей словесности. Скудость содержания дана была нашим прививным просвещением; чудная красота формы была дана народною жизнью. Этого не должна забывать критика художества. Направление, данное нам почти за полтора столетия, продолжается и до нашего времени. Принимая все без разбора, добродушно признавая просвещением всякое явление западного мира, всякую новую систему и новый оттенок системы, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно в своем беспрестанном волнении называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли. Как будто бы не постигая разницы между науками положительными, какова, напр., математика 52 или изучение вещественной природы, и науками догадочными, мы принимаем все с одинаковою верою. Так, например, мы верим на слово, что процесс философского мышления совершался в Германии совершенно последовательно, хотя логическое первенство субъекта перед объектом у Шеллинга основано на ошибке в истории философской терминологии, и никакая сила человеческая не свяжет Феноменологии Гегеля с его Логикой. Мы верим, что статистика имеет какое-нибудь значение отдельно от истории, что политическая экономия существует самобытно, отдельно от чисто нравственных побуждений, и что, наконец, наука права, наука, которою так гордится Европа, которая так усовершенствована, так обработана, которая стоит на таких твердых и несокрушимых основах, имеет действительно право на имя науки, действительную основу, действительное содержание... Русский человек, как известно, охотно принимает науку; но он верит также и в свой природный разум. Наука должна расширять область человеческого знания, обогащать его данными и выводами; но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она также скудна, как жизнь без нее, может быть еще скуднее... Прежде всего надобно узнать, т. е. полюбить ту жизнь, которую хотим обогатить наукою. Эта жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду России, прежде чем иностранная наука пришла позолотить ее верхушки. Эта жизнь хранит много сокровищ не для нас одних, но, может быть, и для многих, если не для всех народов. По мере того, как высшие слои общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались все более и более в образованность, истекающую из иноземного начала; по мере того, как их отторжение становилось все резче и резче, умственная деятельность ослабела и в низших слоях. Для них нет отвлеченной науки, отвлеченного знания; для них возможно только общее просвещение жизни, а это общее просвещение, проявляемое только в постоянном круговращении мысли (подобно кровообращению в человеческом теле), становится невозможным при раздвоении в мысленном строении общества. В высших сословиях проявлялось знание, но знание вполне отрешен- 53 ное от жизни; в низших – жизнь, никогда не восходящая до сознания. Художеству истинному, живому, свободно творящему, а не подражательному, не было места, ибо в нем является сочетание жизни и знания, – образ самопознающейся жизни. Применение было невозможно: наука, хотя и односторонняя, не могла отказаться от своей гордости, ибо она чувствовала себя лучшим плодом великого Запада; жизнь не могла отказаться от своего упорства, ибо она чувствовала, что создала великую Россию. Оба начала оставались бесплодными в своей болезненной односторонности... Сверх того, наука, в своей, может быть, подчиненной форме опыта или наблюдения, есть опять только плод стремления духа человеческого к знанию, плод жизни, отчасти созревающей, следовательно, в обоих случаях она требует жизненной основы. У нас она не была плодом нашей местной, исторической жизни. С другой стороны, самым перенесением своим в Россию и на нашу почву она отторгалась от своих западных корней и от жизни, которая ее произвела. В таком-то виде представлялись до сих пор у нас просвещение и общество, принявшее его в себя: оба носили на себе какой-то характер колониальный, характер безжизненного сиротства, в котором все лучшие требования души невольно уступают место эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости. А. С. Хомяков МНЕНИЕ РУССКИХ ОБ ИНОСТРАНЦАХ (1845) Мнение Запада о России выражается в целой физиономии его литературы, а не в отдельных и никем не замечаемых явлениях. Оно выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание есть ругательство над Россиею, а единственное достоинство – явно высказанная ненависть к ней; оно выражается в тоне и в отзывах всех европейских журналов, верно отражающих общественное мнение Запада... В статье моей "Мнение иностранцев о России" я отдал добросовестный отчет в чувствах, которые Запад питает к нам. Я сказал, что эта смесь страха и ненависти, которые внушены нашею 54 вещественною силою, с неуважением, которое внушено нашим собственным неуважением к себе. Это горькая, но полезная истина. Nosce te ipsum (знай самого себя) – начало премудрости. Я не винил иностранцев, их ложные суждения внушены им нами самими; но я не винил и нас, ибо наша ошибка была плодом нашего исторического развития. Пора признаться, пора и одуматься... Правда, мы, по-видимому, строже прежнего судим явления западного мира, мы даже часто судим слишком строго... В своих односторонних суждениях, утратив понятие об жизненном единстве, мы часто произвольно отделяем жизненные явления, которые в действительности неразлучны друг с другом и связаны между собою узами неизбежной зависимости. Таким образом, мы даем себе вид строгих и беспристрастных судей, свободных от прежнего рабского поклонения и от прежней безразборчивой подражательности. Но все это не иное что, как обман. Нас уже нельзя назвать поклонниками Франции, или Англии, или Германии – мы не принадлежим никакой отдельной школе: мы эклектики в своем поклонении; но точно так же рабски преклоняем колена пред своими кумирами. Свобода мысли и суждений невозможна без твердых основ, без данных, сознанных или созданных самобытною деятельностью духа, без таких данных, в которые он верит с твердою верою разума, с теплою верою сердца. Где эти данные у нас? Эклектизм не спасает от суеверия, и едва ли даже суеверие эклектизма не самое упорное изо всех; оно соединяется с какою-то самодовольною гордостью и утешает себя мнимою деятельностью ленивого рассудка... Лишенная самобытных начал, неспособная создать себе собственную творческую деятельность, оторванная от жизни народной, наша наука питается беспрестанным приливом из тех областей, в которых она возникла и из которых к нам перенесена. Она всегда учтена задним числом, а общество, которое служит ей сосудом, поневоле и бессознательно питает раболепное почтение к тому миру, от которого получает свою умственную пищу. Как бы оно, по-видимому, ни гордилось, как бы оно строго ни судило о разнообразных явлениях Запада, которых часто не понимает (как рассудок вообще никогда не понимает жизненной полноты), оно более чем когда-нибудь рабствует бессознательно перед своими западными учителями, и, к несчастью, 55 еще рабствует охотно, потому что для его гордости отраднее поклоняться жизни, которую оно захотело (хотя и неудачно) к себе привить, чем смириться, хоть на время, перед тою жизнью, с которою оно захотело (и, к несчастью, слишком удачно) разорвать все свои связи... В успехах науки строгий и всеразлагающий анализ постоянно сопровождается творческою силою синтеза, тем ясновидящим гаданием, которое в людях, одаренных гением, далеко опережает медленную поверку опыта и анализа, предчувствуя и предсказывая будущие выводы и всю полноту и величие еще не созданной науки. Это явление есть явление жизненное; оно заметно в Кеплерах, в Ньютонах, в Лейбницах, в Кювье и в других им подобных подвижниках мысли; но оно невозможно там, где жизнь иссякла или заглохла. Сверх того, самая способность аналитическая разделяется на многие степени, и высшие из них доступны только тому человеку или тому обществу, которые чувствуют в себе богатство жизни, не боящейся анализа и его всеразлагающей силы. У них, и только у них, наука имеет истинную и внутреннюю свободу, необходимую для ее развития и процветания. У нас анализ возможен, но только в своих низших степенях. При нашей ученической зависимости от западного мира мы только и можем позволить себе поверхностную поверку его частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому допросу общие начала или основы его систем... Люди, оторванные от жизни народной и, следовательно, от истинного просвещения, лишенные всякого прошедшего, бедные наукой, не признающие тех великих духовных начал, которые скрывают в себе жизнь России и которые время и история должны вызвать наружу, не имеют разумных прав на самохвальство и гордость перед тем миром, из которого почерпали они свою умственную жизнь, хоть неполную, хоть и скудную. Раболепные подражатели в жизни, вечные школьники в мысли, они в своей гордости, основанной на вещественном величии России, напоминают только гордость школьника-барчонка перед бедным учителем. Слова их изобличаются во лжи всею их жизнью. Зато это раболепство перед иноземными народами явно не только для русского на- 56 рода, но и для наблюдателей иностранных. Они видят наш разрыв с прошедшею жизнью и говорят о нем часто, русские с тяжким упреком, а иностранцы с насмешливым состраданием... Часто видим людей русских и, разумеется, принадлежащих к высшему образованию, которые без всякой необходимости оставляют Россию и делаются постоянными жителями чужих краев. Правда, таких выходцев осуждают, и осуждают даже очень строго. Мне кажется, они более заслуживают сожаления, чем осуждения: отечества человек не бросит без необходимости и не изменит ему без сильной страсти; но никакая страсть не движет нашими равнодушными выходцами. Можно сказать, что они не бросают отечества, или лучше, что у них никогда отечества не было. Ведь отечество находится не в географии. Эта не та земля, на которой мы живем и родились и которая в ландкартах обводится зеленой или желтой краской. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которою я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло. Тот, кто бросает отечество в безумии страсти, виновен перед нравственным судом, как всякий преступник, пожертвовавший какою бы то ни было святынею вспышке требования эгоистического. Но разрыв с жизнью, разрыв с прошедшим и раздор с современным лишают нас большей части отечества; и люди, в которых с особенною силою выражается это отчуждение, заслуживают еще более сожаления, чем порицания. Они жалки, как всякий человек, не имеющий отечества, жалки, как Жид или Цыган, или еще жалче, потому что Жид еще находит отечество в исключительности своей религии, а Цыган в исключительности своего племени. Они – жертва ложного развития. За всем тем, несмотря на наше явное или худо скрытое смирение перед Западом, несмотря на сознаваемую нами скудость нашего существования, образованность наша имеет и свою гордость, гордость резкую, неприязненную и вполне убежденную в своих разумных пра57 вах. Эту гордость бережет она для домашнего обихода, для сношений с жизнью, от которой оторвалась. Тут она является представительницею иного, высшего мира; тут она смела и самоуверенна, тут гордость ее получает особый характер. Как гордость рода опирается на воспоминание о том, что "предки наши Рим спасли", так эта гордость опирается на всех более или менее справедливых правах Запада. "Правда, мы ничего не выдумали, не изобрели и не создали; зато, чего не изобрели и не создали наши учители, наши, так сказать, братья по мысли на Западе?" Образованность наша забывает только одно, именно то, что это братство не существует. Там на Западе образованность – плод жизни, и она жива: у нас она заносная, не выработанная и не заслуженная трудом мысли, и мертва. Жизнь уже потому, что жива, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию. Впрочем, это соперничество между историческою жизнью, с одной стороны, и прививною образованностью, с другой, было неизбежно. Такие два начала не могли существовать в одной и той же земле и оставаться друг к другу равнодушными: каждое должно было стараться побороть или переделать стихию, ему противоположную. В этой неизбежной борьбе выгода была на стороне образованности. От жизни оторвались все ее высшие представители, Весь круг, в котором замыкается и сосредоточивается все внутреннее движение общественного тела, в котором выражается его самосознание. Разрозненная жизнь ослабла и сопротивлялась напору ложной образованности только громадою своей неподвижной силы. Гордая образованность, сама по себе ничтожная и бессильная, но вечно черпающая из живых источников западной жизни и мысли, вела борьбу неутомимо и сознательно, губя мало-помалу лучшие начала жизни и считая свои губительные успехи истинным благодеянием, веря своей непогрешимости и пренебрегая жизнью, которой не знает и знать не хочет... Эти простые истины ясны для некнижного ума и недоступны для нашего просвещения. Перенесенное как готовый плод, как вещь, как формула из чужой стороны, оно не понимает ни жизни, из которой оно возникло, ни своей зависимости от нее; он вообще ни с какою жизнью и ни с чем живым сочувствовать не может. Ему доступны только одни результаты, в которых скрывается и исчезает все предше58 ствовавшее им жизненное движение. Так, вообще весь Запад представляется ему в своем устройстве общественном и в своем художественном или ученом развитии как сухая формула, которую можно перенести на какую угодно почву, исправив мелкие ошибки, разграфив по статьям и сверив статью со статьею, как простую конторскую книгу, между тем как сам Запад создан не наукою, а бурною и треволненною историей и в глазах строгого рассудка не может выдержать ни малейшей аналитической поверки... С детства мы лепечем чужестранные слова и питаемся чужестранною мыслью; с детства привыкаем мы мерить все окружающее нас на мерило, которое к нам не идет, привыкаем смешивать явления самые противоположные: общину с коммуною, наше прежнее боярство с баронством религиозность с верою, семейность свою с феодальным понятием англичанина об доме (home) или с немецкою кухонносентиментальною домашностью (Hauslichkeit), лишаемся живого сочувствия с жизнью и возможности логического понимания ее. Какие же нам остаются пути или средства к достижению истины? За всем тем мы можем и должны ее достигнуть. Борьба между жизнью и иноземною образованностью началась с самого того времени, в которое встретились в России эти два противоположные начала. Она была скрытою причиною и скрытым содержанием многих явлений нашего исторического и бытового движения и нашей литературы; везде она выражалась в двух противоположных стремлениях; к самобытности, с одной стороны, к подражательности – с другой. Вообще, можно заметить, что все лучшие и сильнейшие умы, все те, которые ощущали в себе живые источники мысли и чувства, принадлежали к первому стремлению; вся бездарность и бессилие – ко второму... Мы начали понимать не только темным инстинктом, но истинным и наукообразным разумением всю шаткость и бесплодность духовного мира на Западе. Очевидно, что он сам сомневается в себе и ищет новых начал, утратив веру в прежние, и только утешает себя тем, что называет нашу эпоху эпохою перехода, не понимая, что это самое название доказывает уже отсутствие убеждений: ибо там, где есть убеждение и вера, там есть уже радостные чувства жизни, узнавшей новые цели, а не горькое чувство перехода неизвестного. Но нам предоставлено было возвести инстинктивные сомнения западного ми59 ра в наукообразные отрицания, и этот подвиг должно считать лучшею заслугою нашей современной науки, заслугою, которую наше образованное общество начало уже оценять, хотя, конечно, оценило не вполне... Разумеется, анализ на этом остановиться не может: он пойдет далее и покажет, что современная шаткость духовного мира на Западе – не случайное и преходящее явление, но необходимое последствие внутреннего раздора, лежащего в основе мысли и в составе обществ; он покажет, что начало той мертвенности, которая выражается в XIX веке, заключалось уже в составе германских завоевательных дружин и римского завоеванного мира, с одной стороны, и в односторонности римско-протестантского учения, с другой, ибо закон развития общественного лежит в его первоначальных зародышах, а закон развития умственного – в вере народной, т. е. в высшей норме его духовных понятий. Этой истины доказывать не нужно; ибо тот, кто не понимает, что иное должно было быть развитие просвещения при соборных учениях, а иное было бы под влиянием арианства или несторианства, тот не дошел еще до исторической азбуки. Примером же можно бы представить в самом западном мире Англию, которой современная жизненность и исключительное значение объясняются только тем, что она (т. е. англосаксонская Англия) никогда не была вполне завоевана, никогда не была вполне римскою и никогда вполне протестантскою. М. П. Погодин ЗА РУССКУЮ СТАРИНУ (1845) У нас не было рабства, не было пролетариев, не было ненависти, не было гордости, не было инквизиции, не было феодального тиранства, зато было отеческое управление, патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение, была мирская сходка: одним словом, в среднем веке было у нас то, об чем так старался Запад уже в Новом, не успел еще в Новейшем, и едва ли может успеть в Будущем. Мы явили свои добродетели и свои пороки, мы совершили свои подвиги, мы имели свои прекрасные моменты, мы можем указать на своих великих людей... 60 Доказывать, что Русская История имела свой Средний век, не значит ли доказывать, что белокурый может также называться человеком, как и черноволосый? Не значит ли доказывать, что между всякими двумя краями всегда бывает средина?... Разве нужно сказывать, разве нужно кому-нибудь напоминать, что на Руси не было, например, Парижа или Лондона? Это знает всякий, и не будет спорить никто. У нас, разумеется, не было Парижа, но была Москва; у нас не было Товера, но был Кремль; у нас не было Западного Среднего века, но был Восточный, Русский, – что и хотел я доказать, довести до сведения автора и его читателей, а может быть и последователей. Петр Первый по необходимости, вследствие естественных географических отношений России к Европе, должен был остановить народное развитие и дать ему на время другое направление... Но прошло уже слишком сто лет, как он скончался, и полтораста, как он начал действовать, а новое время идет быстрее древнего. Период Петров оканчивается: главнейшие дела его довершены, первая задача его решена, ближайшая цель его достигнута, то есть: Северные враги наши смиренны, Россия заняла почетное место в политической системе государств Европейских, приняла в свои руки Европейское оружие и привыкла обращать оное с достаточною ловкостью, может по усмотрению употреблять все Европейские средства и пособия для дальнейшего развития своей собственной, на время замиравшей жизни во всех ее отраслях. Занимается заря новой эры: Русские начинают припоминать себя и уразумевать требования своего времени; для избранных становится тяжким иностранное иго, умственное и ученое; они убеждаются, что, склоняясь под оным, они не могут произвести ничего самобытного, что чужеземные семена не принимаются, не пускают корней или производят один пустоцвет; они убеждаются, что для собрания собственной богатой жатвы нельзя поступать пока иначе, как возделывать свою землю, то есть разрабатывать свой язык, углубляться в свою историю, изучать характер, проникать в дух своего народа, во всех сокровенных тайниках его сердца, на всех горных высотах его души, 61 одним словом, познавать самих себя. Они убеждаются, что настало время испытывать свои силы, – и блестящий успех вознаграждает некоторые усилия! Время безусловного поклонения Западу миновало, разве от лица людей запоздалых, которые не успели еще доучить старого курса, между тем как начался уже новый. Им можно посоветовать, чтобы они постарались догнать уходящих, и стать наравне со своим веком, в чувствах уважения с своим веком, в чувствах уважения к самобытности, следовательно, своенародности и, следовательно, старины. Только таким образом, продолжу я им наставление, можем мы исполнить ожидания самой Европы, ожидания всех друзей общего блага; только таким образом можем мы исполнить свои человеческие обязанности. Мы должны явиться на Европейской сцене, стану употреблять их любимые выражения, своеобразными индивидуумами, а не безжизненными автоматами; мы должны показать там свои лица, а не мертвенные дагерротипы каких-то западных идеалов. Своим голосом должны мы произнести наше имя, своим языком должны мы сказать наше дело, а не на чуждом жаргоне, переводя из Немецкого компендиума и Французской хрестоматии; наконец – посредством своих мотивов мы должны выразить наш пафос: иначе нас не примет наша старшая братия; с презрением, или много-много со состраданием, они отвратят взоры от жалких подражателей, которые тем несчастнее, чем кажутся себе счастливее. В гармонии не допускаются отголоски, даже самые верные, не только фальшивые, а одни самобытные звуки... На нас разносят клевету, будто мы не уважаем Запада. Нет, мы не уступим нашим противникам в этом чувстве уважения; мы изучали Запад, по крайней мере, не менее их; мы дорого ценим услуги, оказанные им человечеству; мы свято чтим тяжелые опыты, перенесенные им для общего блага; мы питаем глубокую благодарность за спасительные указания, которые сделал он своим собратьям; мы сочувствуем всему прекрасному, высокому, чистому, где бы оно ни проявлялось – на Западе и Востоке, Севере и Юге, – но мы утверждаем, что старых опытов повторять не нужно, что указаниями пользоваться должно, что не все чужое прекрасно, что время оказало на Западе 62 многие существенные недостатки, что, наконец, мы должны иметь собственный взгляд на вещи, а не смотреть по-прежнему глазами Французов, Англичан, Итальянцев, Прусаков, Австрийцев, Баварцев, Венгерцев и Турок. Ясно ли теперь для читателей, что эту клевету разносят на нас напрасно!... Напрасно взводят на нас клевету, будто мы поклоняемся нечестиво неподвижной старине. Нет, неподвижность старины нам противна столько же, как и бессмысленное шатанье новизны. Нет, не неподвижность, а вечное начало, Русский дух, веющий нам из заветных недр этой старины, мы чтим богобоязненно, и усердно молимся, чтоб он никогда не покидал Святой Руси, ибо только на этом краеугольном камне она могла стоять, прежде чем пройти все опасности, – поддерживается теперь, и будет стоять долго, если Богу угодно ее бытие. Старина драгоценна нам как родимая почва, которая упитана – не скажу кровью, кровью упитана Западная земля, – но слезами наших предков, перетерпевших и Варягов, и Татар, и Литву, и жестокости Иоанна Грозного... и нашествие двадцати языков, и наваждение легионов духов, в сладкой, может быть, надежде, что отдаленные потомки вкусят от плода их трудной жизни, а мы, несмышленые, мы ходим только плясать на их священных могилах, радуемся всякому пустому поводу, ищем всякого предлога, даже несправедливого, надругаться над их памятью, забывая пример нечестивого Хама, пораженного на веки веков, в лице всего потомства, за свое легкомыслие. И. В. Киреевский О ХАРАКТЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНОШЕНИИ К ПРОСВЕЩЕНИЮ РОССИИ (1825) Общее мнение было таково, что различие между просвещением Европы и России существует только в степени, а не в характере и еще менее в духе или основных началах образованности. У нас (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается с той минуты, как мы начали подражать Европе, бесконечно опередившей нас в умственном развитии. Там науки процветали, когда у 63 нас их еще не было; там они созрели, когда у нас только начинают распускаться. Оттого там учители, мы ученики; впрочем – прибавляли обыкновенно с самодовольством, – ученики довольно смышленные, которые так быстро перенимают, что скоро, вероятно, обгонят своих учителей. "Кто бы мог подумать, братцы, – говорил Петр в 1714 году в Риге, осушая стакан на новоспущенном корабле, – кто бы мог думать тому 30 лет, что вы, русские, будете со мною здесь, на Балтийском море строить корабли и пировать в немецких платьях? Историки, – прибавил он, – полагают древнее седалище наук в Греции; оттуда перешли они в Италию и распространились по всем землям Европы. Но невежество наших предков помешало им проникнуть далее Польши, хотя и поляки находились прежде в таком же мраке, в каком сперва были и все немцы и в каком мы живем до сих пор, и только благодаря бесконечным усилиям своих правителей могли они наконец открыть глаза и усвоить себе европейское знание, искусства и образ жизни. Это движение наук на земле сравниваю я с обращением крови в человеке, и мне сдается, что они опять когда-нибудь покинут свое местопребывание в Англии, Франции и Германии и перейдут к нам на несколько столетий, чтобы потом снова возвратиться на свою родину, в Грецию". Эти слова объясняют увлечение, с которым действовал Петр, и во многом оправдывают его крайности. Любовь к просвещению была его страстью. В нем одном видел он спасение для России, а источник его видел в одной Европе. Но его убеждение пережило его целым столетием в образованном или, правильнее, в переобразованном им классе его народа, и тому тридцать лет едва ли можно было встретить мыслящего человека, который бы постигал возможность другого просвещения, кроме заимствованного от Западной Европы. Между тем с тех пор в просвещении западно-европейском и в просвещении европейско-русском произошла перемена. Европейское просвещение во второй половине XIX века достигло той полноты развития, где его особенное значение выразилось с очевидной ясностью для умов, хотя несколько наблюдательных. Но 64 результат этой полноты развития, этой ясности итогов был почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Не потому западное просвещение оказалось неудовлетворительным, чтобы науки на Западе утратили свою жизненность; напротив, они процветали, повидимому, еще более, чем когда-нибудь; не потому, чтобы та или другая форма внешней жизни тяготела над отношениями людей или препятствовала развитию их господствующего направления; напротив, борьба с внешним препятствием могла бы только укрепить пристрастие к любимому направлению, и никогда, кажется, внешняя жизнь не устраивалась послушнее и согласнее с их умственными требованиями. Но чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которых мысль не ограничивалась тесным кругом минутных интересов именно потому, что самое торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений; потому что при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; потому что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь лишена была своего существенного смысла, ибо, не проникнутая никаким общим, сильным убеждением, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. Многовековый холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого начала своего развития, так что собственные его коренные начала, из которых оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, противоречащими его последним результатам, между тем как прямою собственностью его оказался этот самый разрушивший его корни анализ, этот самодвижущийся нож разума. Начала просвещения русского совершенно отличны от тех элементов, из которых составилось просвещение народов европейских. Конечно, каждый из народов Европы имеет в характере своей образованности нечто особое, но эти частные, племенные и государственные или исторические особенности не мешают им всем составлять вместе то духовное единство, куда каждая особая часть входит как живой 65 член в одно личное тело. Оттого посреди всех исторических случайностей они развивались всегда в тесном и сочувственном соотношении. Россия, отделившись духом от Европы, жила и жизнью, отдельною от нее. Англичанин, француз, итальянец, немец никогда не переставал быть европейцем, всегда сохраняя притом свою национальную особенность. Русскому человеку, напротив того, надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью западною, ибо и наружный вид, и внутренний склад ума, взаимно друг друга объясняющие и поддерживающие, были в нем следствием совсем другой жизни, проистекающей совсем из других источников. Кроме разностей племенных еще три исторические особенности дали отличительный характер всему развитию просвещения на Западе: особая форма, через которую проникало в него христианство, особый вид, в котором перешла к нему образованность древнеклассического мира и, наконец, особые элементы, из которых сложилась в нем государственность. Христианство было душою умственной жизни народов на Западе, так же как и в России. Но в Западную Европу проникало оно единственно через церковь римскую. Образованность древнего дохристианского мира – второй элемент, из которого развилось просвещение Европы, – была известна Западу до половины XV века почти исключительно в том особенном виде, какой она приняла в жизни древнего языческого Рима; но другая сторона ее, образованность греческая и азиатская, в чистом виде своем почти не проникала в Европу до самого почти покорения Константинополя. Между тем Рим, как известно, далеко не был представителем всего языческого просвещения: ему принадлежало только господство материальное над миром, между тем как умственное господство над ним принадлежало и языку и образованности греческой. Потому всю опытность человеческого ума, все достояние его, которое он добыл себе в продолжение шеститысячелетних усилий, принимать единственно в той форме, какую оно получило в образованности римской, значило принимать его в виде совершенно одностороннем и неминуе- 66 мо подвергаться опасности сообщить эту односторонность и характеру собственной своей образованности. Так действительно и совершилось с Европою. Когда же в XV веке греческие изгнанники перешли на Запад с своими драгоценными рукописями, то было уже поздно. Образованность Европы, правда, оживилась; но смысл ее остался тот же: склад ума и жизни был уже заложен. Греческая наука расширила круг знания и вкуса, разбудила мысли, дала умам полет и движение, но господствующего направления духа уже изменить не могла. Наконец, третий элемент просвещения, образованность общественная, представляет ту особенность на Западе, что почти ни в одном из народов Европы государственность не произошла из спокойного развития национальной жизни и национального самосознания, где господствующие религиозные и общественные понятия людей, воплощаясь в бытовых отношениях, естественно вырастают, и крепнут, и связываются в одно общее единомыслие, правильно отражающееся в стройной цельности общественного организма. Напротив, общественный быт Европы по какой-то странной исторической случайности почти везде возник насильственно, из борьбы на смерть двух враждебных племен: из угнетения завоевателей, из противодействия завоеванных и, наконец, из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждующих, несоразмерных сил. Эти три элемента Запада: римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность – были совершенно чужды древней России. Приняв учение христианское от Греции, она постоянно находилась в общении со вселенскою церковью. Образованность древнеязыческого мира переходила к ней уже сквозь учение христианское, не действуя на нее односторонним увлечением только впоследствии, утвердившись в образованности христианской, начинала она усваивать себе последние результаты наукообразного просвещения древнего мира, когда провидению, видимо, угодно было остановить дальнейший ход ее умственного развития, спасая ее, может быть, от вреда той односторонности, которая неминуемо стала бы ее уделом, если бы ее рассудочное образование началось прежде, чем Европа докончила круг своего умственного раз- 67 вития, и когда, не обнаружив еще последних выводов своих, она могла тем безотчетнее и тем глубже завлечь ее в ограниченную сферу своего особенного развития. Христианство, проникнув в Россию, не встретило в ней тех громадных затруднений, с какими должно было бороться в Риме и Греции и в европейских землях, пропитанных римскою образованностью. Чистому влиянию его учения на внутреннюю и общественную жизнь человека словенский мир не представлял тех неодолимых препятствий, какие оно находило в сомкнутой образованности мира классического и в односторонней образованности народов западных. Во многом даже племенные особенности словенского быта помогали успешному осуществлению христианских начал. Между тем основные понятия человека о его правах и обязанностях, о его личных, семейных и общественных отношениях не составлялись насильственно из формальных условий враждующих племен и классов – как после войны проводятся искусственные границы между соседними государствами по мертвой букве выспоренного трактата. Но, не испытав завоевания, русский народ устраивался самобытно. Враги, угнетавшие его, всегда оставались вне его, не мешаясь в его внутреннее развитие, Татары, ляхи, венгры, немцы и другие бичи, посланные ему провидением, могли только остановить его образование и действительно остановили его, но не могли изменить существенного смысла его внутренней и общественной жизни... Главная особенность умственного характера Рима должна была отразиться и в умственной особенности Запада. Но если мы захотим эту господствующую особенность римского образования выразить одною общею формулою, то не ошибемся, кажется, если скажем, что отличительный склад римского ума заключался в том именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутреннею сущностью вещей... Достойно замечания, что... духовная философия восточных отцов церкви, писавших после X века, – философия прямо и чисто христианская, глубокая, живая, возвышающая разум от рассудочного механизма к высшему, нравственно свободному умозрению, философия, которая даже и для неверующего мыслителя могла бы быть поучи- 68 тельною, по удивительному богатству, и глубине, и тонкости своих психологических наблюдений, – несмотря, однако же, на все свои достоинства (я говорю здесь единственно о достоинствах умозрительных, оставляя в стороне значение богословское), была так мало доступна рассудочному направлению Запада, что не только никогда не была оценена западными мыслителями, но, что еще удивительнее, до сих пор осталась им почти вовсе неизвестною. По крайней мере ни один философ, ни один историк философии не упоминает об ней, хотя в каждой истории философии находим мы длинные трактаты о философии индейской, китайской и персидской. Самые творения восточных писателей оставались долго неизвестными в Европе; многие до сих пор еще остаются незнакомы им; другие хотя известны, но оставлены без внимания, ибо не были поняты; иные изданы еще весьма недавно и тоже не оценены... Отсюда кроме различия понятий на Востоке и Западе происходит еще различие и в самом способе мышления богословскофилософском. Ибо, стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; западные – более о внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума: того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины, возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они нравственное; другим – изящное; полезное – опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда ее действие совершится. Каждый путь, как предполагают они, ведет к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение. Бесчувственный холод рассуждения и крайнее увлечение сердечных движений почитают они равно законными состояниями человека, и когда в XIV веке узнали ученые Запада о стремлении восточных созерцателей сохранять безмятежность внутренней цельности ду- 69 ха, то издевались над этою мыслью, изобретая для нее всякого рода насмешливые прозвания... Вообще можно сказать, что центр духовного бытия ими не ищется. Западный человек не понимает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других; то равновесие внутренней жизни, которое отличает даже самые наружные движения человека, воспитанного в обычных преданиях православного мира, ибо есть в его движениях даже в самые крутые переломы жизни что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная мерность, достоинство и вместе смирение, свидетельствующие о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания. Европеец, напротив того, всегда готовый к крайним порывам, всегда суетливый, когда не театральный, всегда беспокойный в своих внутренних и внешних движениях, только преднамеренным усилием может придать им искусственную соразмерность. Учения св. отцов православной церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта. Обширная русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества всегда сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования в церковные постановления. Ибо ее необозримое пространство было все покрыто как бы одною непрерывною сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными нитями духовного общения. Из них единообразно и единомысленно разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их образовательное влияние, опять от них возвращались в общественное сознание, приняв одно общее направление. Безразлично составляясь изо всех классов народа, из высших и низших ступеней общества, духовенство, в свою очередь, во все классы и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая ее 70 прямо из первых источников, из самого центра современного просвещения, который тогда находился в Цареграде, Сирии и на Святой горе. И образованность эта так скоро возросла в России и до такой степени, что и теперь даже она кажется нам изумительною, когда мы вспомним, что некоторые из удельных князей XII и ХШ веков уже имели такие библиотеки, с которыми многочисленностью томов едва могла равняться первая тогда на Западе библиотека парижская; что многие из них говорили на греческом и латинском языке так же свободно, как на русском, а некоторые знали притом и другие языки европейские, что в некоторых уцелевших до нас писаниях XV века мы находим выписки из русских переводов таких творений греческих, которые не только не были известны Европе, но даже в самой Греции утратились после ее упадка и только в недавнее время и уже с великим трудом могли быть открыты в неразобранных сокровищницах Афона; что в уединенной тишине монашеских келий, часто в глуши лесов, изучались и переписывались и до сих пор еще уцелели в старинных рукописях словенские переводы тех отцов церкви, которых глубокомысленные писания, исполненные высших богословских и философских умозрений, даже в настоящее время едва ли каждому немецкому профессору любомудрия придутся по силам мудрости (хотя, может быть, ни один не сознается в этом); наконец, когда мы вспомним, что эта русская образованность была так распространена, так крепка, так развита и потому пустила такие глубокие корни в жизнь русскую, что, несмотря на то, что уже полтораста лет прошло с тех пор, как монастыри наши перестали быть центром просвещения; несмотря на то, что вся мыслящая часть народа своим воспитанием и своими понятиями значительно уклонилась, а в некоторых и совсем отделилась от прежнего русского быта, изгладив даже и память об нем из сердца своего, – этот русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел почти неизменно в низших классах народа: он уцелел, хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании, уже не связанный господством образующей мысли, уже не оживляющийся, как в старину, единомысленными воздействиями высших классов общества, уже не 71 проникающийся, как прежде, вдохновительным сочувствием со всею совокупностью умственных движений отечества... Какое бы ни было наше мнение о пришествии варягов: добровольно ли вся русская земля призвала их, или одна партия накликала на другую; но ни в каком случае это пришествие не было нашествием чужого племени; ни в каком случае также оно не могло быть завоеванием, ибо если через полтораста лет так легко можно было выслать их из России, или, по крайней мере, значительную их часть, то как же могли бы они так легко завоевать ее прежде? Как могли бы так безмятежно держаться в ней против ее воли? При них спокойно и естественно совершалось образование ее общественных и государственных отношений, без всяких насильственных нововведений, единственно вследствие внутреннего устройства ее нравственных понятий. Со введением же христианства нравственные понятия русского человека изменились, а вместе с ними и его общежительные отношения, и потому все общественное устройство русской земли должно было в своем развитии принять также направление христианское... Управляя таким образом общественным составом, как дух управляет составом телесным, церковь не облекала характером церковности мирских устройств, подобных рыцарско-монашеским орденам, инквизиционным судилищам, и другим светско-духовным постановлениям Запада; но, проникая все умственные и нравственные убеждения людей, она невидимо вела государство к осуществлению высших христианских начал, никогда не мешая его естественному развитию. И духовное влияние церкви на это естественное развитие общественности могло быть тем полнее и чище, что никакое историческое препятствие не мешало внутренним убеждениям людей выражаться в их внешних отношениях. Но искаженная завоеванием, русская земля в своем внутреннем устройстве не стеснялась теми насильственными формами, какие должны возникать из борьбы двух ненавистных друг другу племен, принужденных в постоянной вражде устраивать свою совместную жизнь. В ней не было ни завоевателей, ни завоеванных. Она не знала ни железного разграничения неподвижных сословий, ни стеснительных для одного преимуществ другого, ни ис- 72 текающей оттуда политической и нравственной борьбы, ни сословного презрения, ни сословной ненависти, ни сословной зависти. Она не знала, следственно, и необходимого порождения этой борьбы: искусственной формальности общественных отношений и болезненного процесса общественного развития, совершающегося насильственными изменениями законов и бурными переломами постановлений. И князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины городские, и дружина земская – все классы и виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинаковою потребностью общего блага. Могло быть разномыслие в каком-нибудь частном обстоятельстве, но в вопросах существенных следов разномыслия почти не встречается. Таким образом, русское общество выросло самобытно и естественно, под влиянием одного внутреннего убеждения, церковью и бытовым преданием воспитанного. Если бы кто захотел вообразить себе западное общество феодальных времен, то не иначе мог бы сложить об нем картину, как представив себе множество замков, укрепленных стенами, внутри которых живет благородный рыцарь с своею семьею, вокруг которых поселена подлая чернь. Рыцарь был лицо, чернь – часть его замка. Воинственные отношения этих личных замков между собою и их отношения к вольным городам, к королю и к церкви составляют всю историю Запада. Напротив того, воображая себе русское общество древних времен, не видишь ни замков, ни окружающей их подлой черни, ни благородных рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь бесчисленное множество маленьких общин, по всему лицу земли русской расселенных, и имеющих каждая на известных правах своего распорядителя, и составляющих каждая свое особое согласие, или свой маленький мир: эти маленькие миры, или согласия, сливаются в другие, большие согласия, которые, в свою очередь, составляют согласия областные и, наконец, племенные, из которых уже слагается одно общее огромное согласие всей русской земли, имеющее над собою великого 73 князя всея Руси, на котором утверждается вся кровля общественного здания, опираются все связи его верховного устройства. Вследствие таких естественных, простых и единодушных отношений и законы, выражающие эти отношения, не могли иметь характер искусственной формальности; но, выходя из двух источников: из бытового предания и из внутреннего убеждения, они должны были в своем духе, в своем составе и в своих применениях носить характер более внутренней, чем внешней правды, предпочитая очевидность существенной справедливости буквальному смыслу формы; святость предания – логическому выводу; нравственность требования – внешней пользе... Между тем как римско-западная юриспруденция отвлеченно выводит логические заключения из каждого законного условия, говоря: форма – это самый закон, и старается все формы связать в одну разумную систему, где бы каждая часть по отвлеченно-умственной необходимости правильно развивалась из целого и все вместе составляло не только разумное дело, но самый написанный разум; право обычное, напротив того, как оно было в России, вырастая из жизни, совершенно чуждалось развития отвлеченно-логического. Закон в России не изобретался предварительно какими-нибудь учеными юрисконсультами; не обсуживался глубокомысленно и красноречиво в каком-нибудь законодательном собрании, не падал потом, как снег на голову, посреди всей удивленной толпы граждан, ломая у них какой-нибудь уже заведенный порядок отношений. Закон в России не сочинялся, но обыкновенно только записывался на бумагу, уже после того, как он сам собою образовался в понятиях народа и мало-помалу, вынужденный необходимостью вещей, взошел в народные нравы и народный быт. Логическое движение законов может существовать только там, где самая общественность основана на искусственных условиях; где, следовательно, развитием общественного устройства может и должно управлять мнение всех или некоторых. Но там, где общественность основана на коренном единомыслии, там твердость нравов, святость предания и крепость обычных отношений не могут нарушаться, не разрушая самых существенных условий жизни обще- 74 ства. Там каждая насильственная перемена по логическому выводу была бы разрезом ножа в самом сердце общественного организма. Ибо общественность там стоит на убеждениях, и потому всякие мнения, даже всеобщие, управляя ее развитием, были бы для нее смертоносны... Одно из самых существенных отличий правомерного устройства России и Запада составляют коренные понятия о праве поземельной собственности. Римские гражданские законы, можно сказать, суть все не что иное, как развитие безусловности этого права. Западноевропейские общественные устройства также произошли из разновидных сочетаний этих самобытных прав, в основании своем не ограниченных и только в отношениях общественных принимающих некоторые взаимно условные ограничения. Можно сказать: все здание западной общественности стоит на развитии этого личного права собственности, так что и самая личность в юридической основе своей есть только выражение этого права собственности. В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее случайное отношение. Общине земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возделывать. С увеличением числа лиц увеличивается и количество земли, принадлежащее семье, с уменьшением – уменьшается. Право общины над землею ограничивается правом помещика, или вотчинника; право помещика условливается его отношением к государству. Отношения помещика к государству зависят не от поместья его, но его поместье зависит от его личных отношений. Эти личные отношения определяются столько же личными отношениями его отца, сколько и собственными, теряются неспособностью поддерживать их или возрастают решительным перевесом достоинств над другими, совместными личностями. Одним словом, безусловность поземельной собственности могла являться в России только как исключение. Общество слагалось не из частных собственностей, к которым приписывались лица, но из лиц, которым приписывалась собственность... 75 Потому общежительные отношения русских были также отличны от западных. Я не говорю о различии некоторых частных форм, которые можно почитать несущественными случайностями народной особенности. Но самый характер народных обычаев, самый смысл общественных отношений и частных обычаев, самый смысл общественных отношений и частных нравов был совсем иной. Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и, хотя связывает их рассудком в один общий план, однако же, в каждую минуту жизни является как иной человек. В одном углу его сердца живет чувство религиозное, которое он употребляет при упражнениях благочестия; в другом – отдельно – силы разума и усилия житейских занятий; в третьем – стремления к чувственным утехам; в четвертом – нравственно-семейное чувство; в пятом – стремление к личной корысти; в шестом – стремление к наслаждениям изящно-искусственным; и каждое из частных стремлений подразделяется еще на разные виды, сопровождаемые особыми состояниями души, которые все являются разрозненно одно от другого и связываются только отвлеченным рассудочным воспоминанием... Не так человек русский. Моляся в церкви, он не кричит от восторга, не бьет себя в грудь, не падает без чувств от умиления; напротив, во время подвига молитвенного он особенно старается сохранить трезвый ум и цельность духа. Когда же не односторонняя напряженность чувствительности, но самая полнота молитвенного самосознания проникнет в его душу и умиление коснется его сердца, то слезы его льются незаметно и никакое страстное движение не смущает глубокой тишины его внутреннего состояния... Так русский человек каждое важное и неважное дело свое всегда связывал непосредственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца. Однако же надобно признаться, что это постоянное стремление к совокупной цельности всех нравственных сил могло иметь и свою опасную сторону. Ибо только в том обществе, где все классы равно проникнуты одним духом; где повсеместно уважаемые и многочисленные монастыри – эти народные школы и высшие университеты 76 религиозного государства – вполне владеют над умами; где, следовательно, люди, созревшие в духовной мудрости, могут постоянно руководствовать других, еще не дозревших, – там подобное расположение человека должно вести его к высшему совершенству... Оттого видим мы иногда, что русский человек, сосредоточивая все свои силы в работе, в три дня может сделать больше, чем осторожный немец не сделает в тридцать; но зато потом уже долго не может он добровольно приняться за дело свое. Вот почему при таком недозрелом состоянии и при лишении единодушного руководителя часто для русского человека самый ограниченный ум немца, размеряя по часам и табличке меру и степень его трудов, может лучше, чем он сам, управлять порядком его занятий. Но в древней России эта внутренняя цельность самосознания, к которой самые обычаи направляли русского человека, отражалась и на формах его жизни семейной, где закон постоянного, ежеминутного самоотвержения был не геройским исключением, но делом общей и обыкновенной обязанности. До сих пор еще сохраняется этот характер семейной цельности в нашем крестьянском быту... Цельность семьи есть одна общая цель и пружина... На Западе ослабление семейных связей было следствием общего направления образованности: от высших классов народа перешло оно к низшим, прямым влиянием первых на последние и неудержимым стремлением последних перенимать нравы класса господствующего. Эта страстная подражательность тем естественнее, чем однороднее умственная образованность различных классов, и тем быстрее приносит плоды, чем искусственнее характер самой образованности и чем более она подчиняется личным мнениям. В высших слоях европейского общества семейная жизнь, говоря вообще, весьма скоро стала даже для женщин делом почти посторонним. От самого рождения дети знатных родов воспитывались за глазами матери. Особенно в тех государствах, где мода воспитывать дочерей вне семьи, в отделенных от нее непроницаемыми стенами монастырях, сделалась общим обычаем высшего состояния, там мать семейства вовсе почти лишена была семейного смысла... Оттуда – особенно в госу- 77 дарствах, где воспитание женщин высшего круга совершалось вне семьи, – произошло великолепное, обворожительное развитие общежительных утонченностей; вместе с этим развитием и нравственное гниение высшего класса, и в нем первый зародыш знаменитого впоследствии учения о всесторонней эмансипации женщины. В России между тем формы общежития, выражая общую цельность быта, никогда не принимали отдельного, самостоятельного развития, оторванного от жизни всего народа, и потому не могли заглушить в человеке его семейного смысла, ни повредить цельности его нравственного возрастания... При таком устройстве нравов простота жизни и простота нужд была не следствием недостатка средств и не следствием неразвития образованности, но требовалась самым характером основного просвещения. На Западе роскошь была не противоречие, но законное следствие раздробленных стремлений общества и человека; она была, можно сказать, в самой натуре искусственной образованности; ее могли порицать духовные, в противность обычным понятиям, но в общем мнении она была почти добродетелью. Ей не уступали как слабости, но, напротив, гордились ею как завидным преимуществом. В средние века народ с уважением смотрел на наружный блеск, окружающий человека, и свое понятие об этом наружном блеске благоговейно сливал в одно чувство с понятием о самом достоинстве человека. Русский человек больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродивого. Роскошь проникла в Россию, но как зараза от соседей. В ней извинялись, ей поддавались, как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только религиозную, но и нравственную и общественную. Западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремился внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести внешних нужд. Если бы наука о политической экономии существовала тогда, то, без всякого сомнения, она не была бы понятна русскому. Он не мог бы согласить с цельностью своего воззрения на жизнь особой науки о богатстве. Он не мог бы понять, как можно с намерением раздражать чувствительность людей к внешним потреб- 78 ностям только для того, чтобы умножить их усилия к вещественной производительности. Он знал, что развитие богатства есть одно из второстепенных условий жизни общественной и должно потому находиться не только в тесной связи с другими высшими условиями, но и в совершенной им подчиненности. Впрочем, если роскошь жизни еще могла, как зараза, проникнуть в Россию, то искусственный комфорт с своею художественною изнеженностью, равно как и всякая умышленная искусственность жизни, всякая расслабленная мечтательность ума, никогда не получили бы в ней право гражданства – как прямое и ясное противоречие ее господствующему духу. По той же причине, если бы и изящные искусства имели время развиться в древней России, то, конечно, приняли бы в ней другой характер, чем на Западе. Там развивались они сочувственно с общим движением мысли, и потому та же раздробленность духа, которая в умозрении произвела логическую отвлеченность, в изящных искусствах породила мечтательность и разрозненность сердечных стремлений. Оттуда языческое поклонение отвлеченной красоте... Ложное направление изящных искусств еще глубже исказило характер просвещения европейского, чем само направление философии, которая тогда только бывает пружиною развития, когда сама результат его. Но добровольное, постоянное и, так сказать, одушевленное стремление к умышленному раздвоению внутреннего самосознания расщепляет самый корень душевных сил. Оттого разум обращается в умную хитрость, сердечное чувство – в слепую ярость, красота – в мечту, истина – в мнение, наука – в силлогизм, существенность – в предлог к воображению, добродетель – в самодовольство, а театральность является неотвязною спутницею жизни, внешнею прикрышкою лжи, как мечтательность служит ей внутреннею маскою. Но назвав "самодовольство", я коснулся еще одного, довольно общего отличия западного человека от русского. Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием... Если же случится, что самые наружные действия его придут в противоречие с общепринятыми понятиями о нравственности, он выдумывает 79 себе особую, оригинальную систему нравственности, вследствие которой его совесть опять успокаивается. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки и, чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя и потому тем менее бывает доволен собою. При уклонениях от истинного пути он не ищет обмануть себя каким-нибудь хитрым рассуждением, придавая наружный вид правильности своему внутреннему заблуждению; но даже в самые страстные минуты увлечения всегда готов сознать его нравственную незаконность... Христианство проникало в умы западных народов через учение одной римской церкви – в России оно зажигалось на светильниках всей церкви православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности – в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума – здесь стремление... к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточению разума; там искание наружного, мертвого единства – здесь стремление к внутреннему, живому; там церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера, – в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты – в древней России молитвенные монастыри, сосредоточивавшие в себе высшее знание; там рассудочное и школьное изучение высших истин – здесь стремление к их живому и цельному познаванию; там взаимное прорастание образованности языческой и христианской – здесь постоянное стремление к очищению истины; там государственность из насилий завоевания – здесь из естественного развития народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разграниченность сословий – в древней России их единодушная совокупность при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства – здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность – первое основание граждан- 80 ских отношений – здесь собственность только случайное выражение отношений личных; там законность формально-логическая – здесь выходящая из быта; там наклонность права к справедливости внешней – здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стремится к логическому кодексу – здесь вместо наружной связанности формы с формою ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения – здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами – а здесь стройным естественным возрастанием; там волнение духа партий – здесь незыблемость основного убеждения; там прихоть моды – здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности – здесь крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни – здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там изнеженность мечтательности – здесь здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве – у русского глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершения; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного; в России, напротив того, преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности. Но здесь естественно приходит вопрос: отчего же образованность русская не развилась полнее образованности европейской прежде введения в Россию просвещения западного? Отчего не опередила 81 Россия Европу? Отчего не стала она во главе умственного движения всего человечества, имея столько залогов для правильного и всеобъемлющего развития духа?... В чем же заключалась особенность России сравнительно с другими народами мира православного и где таилась для нее опасность? И не развилась ли эта особенность в некоторое излишество, могущее уклонить ее умственное направление от прямого пути к назначенной ему цели?... Особенность России заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного и частного быта. В этом состояла главная сила ее образованности; но в этом же таилась и главная опасность для ее развития. Чистота выражения так сливалась с выражаемым духом, что человеку легко было смешать их значительность и наружную форму уважать наравне с ее внутренним смыслом. От этого смешения, конечно, ограждал его самый характер православного учения, преимущественно заботящегося о цельности духа. Однако же разум учения, принимаемого человеком, не совершенно уничтожает в нем общечеловеческую слабость. В человеке и в народе нравственная свобода воли не уничтожается никаким воспитанием и никакими постановлениями... Таким образом уважение к преданию, которым стояла Россия, нечувствительно для нее самой перешло в уважение более наружных форм его, чем его оживляющего духа. Оттуда произошла та односторонность в русской образованности, которой резким последствием был Иоанн Грозный и которая через век после была причиною расколов и потом своею ограниченностью должна была в некоторой части мыслящих людей произвести противоположную себе, другую односторонность: стремление к формам чужим и к чужому духу. Но корень образованности России живет еще в ее народе, и, что всего важнее, он живет в его святой православной церкви. Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России, созидаемое доныне из смешанных и большею частью чуждых материалов и потому имею- 82 щее нужду быть перестроенным из чистых собственных материалов... Вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов церкви найдет самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания. А в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять развитие другой образованности. Тогда возможна будет в России наука, основанная на самобытных началах, отличных от тех, какие нам предлагает просвещение европейское. Тогда возможно будет в России искусство, на самородном корне расцветающее. Тогда жизнь общественная в России утвердится в направлении, отличном от того, какое может ей сообщить образованность западная. Однако же, говоря "направление", я неизлишним почитаю прибавить, что этим словом я резко ограничиваю весь смысл моего желания. Ибо если когда-нибудь случилось бы мне увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдруг воскресла посреди нас и в прежнем виде своем вмешалась в настоящую жизнь нашу, то это видение не обрадовало бы меня. Напротив, оно испугало бы меня. Ибо такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее было бы то же, что перестановка колеса из одной машины в другую, другого устройства и размера: в таком случае или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я: чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении святой православной церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским, не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей православной России... 83 К. С. Аксаков ОБ ОСНОВНЫХ НАЧАЛАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ (1849) Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, путь мира, тот путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы. Этот путь внутренней правды смутно мог чувствоваться и языческими народами... Под влиянием веры в нравственный подвиг, возведенный на степень исторической задачи целого общества, образуется своеобразный быт, мирный и кроткий характер, и, конечно, если можем найти у кого-нибудь такой нравственный строй жизни... то это у племен бытовых, по преимуществу у племен Славянских. Но возможен ли такой быт на земле? Существует другой путь, по-видимому более удобный и простой; внутренний строй переносится вовне, и духовная свобода понимается только как устройство, порядок (наряд); основы, начала жизни понимаются как правила и предписания. Все формулируется. Это путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а принудительного закона. Но такой путь имеет несчислимые невыгоды. Прежде всего формула, какая бы то ни была, не может обнять жизни; потом, налагаясь извне и являясь принудительною, она утрачивает самую главную силу, силу внутреннего убеждения и свободного ее признания; давая таким образом человеку возможность опираться на закон, вооруженный принудительною силою, она усыпляет склонный к лени дух человеческий, легко и без труда успокаивая его исполнением наложенных формальных требований и избавляя от необходимости внутренней нравственной деятельности и внутреннего возрождения. Это путь внешней правды, путь государства. Этим путем двинулось Западное человечество... В России история застает Славян северных под властью Варягов, южных – под властью Козар. Северные Славяне прогоняют Варягов, и, может быть, вследствие ли их владычества, возникает вражда между ними и ссоры друг с другом. 84 Таковы были главные помехи, и Земля, чтобы спасти себя, свою земскую жизнь решается призвать на защиту Государство. Но надо заметить, Славяне не образуют из себя Государство, они призывают его: они не из себя избирают князя, а ищут его за морем; таким образом, они не смешивают Землю с Государством, прибегая к последнему как к необходимости для сохранения первой. Государство, политическое устройство не сделалось целью их стремления, ибо они отделяли себя или земскую жизнь от Государства, и для сохранения первой призвали последнее. Ничья история не начинается так. Если спорили о времени существования этого факта, то здесь сила в его смысле; позднейшие частные призвания подтверждают тот же смысл. Призвание было добровольное. Земля и Государство не смешались, а раздельно стали в союз друг с другом. В призвании добровольном означились уже отношения Земли и Государства – взаимная доверенность с обеих сторон. Не брань, не вражда, как это было у других народов, вследствие завоевания, а мир, вследствие добровольного призвания. Так начинается Русская история. Две силы в ее основании, два двигателя и условия во всей Русской истории: Земля и Государство... К. С. Аксаков О ТОМ ЖЕ (предположительно 1850) Россия – земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на Европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумают прилагать к ней Европейские воззрения и на основании их судить о ней. Как занимателен и важен самобытный путь России до совращения ее (хотя отчасти) на путь Западный и до подражания Западу! Как любопытны обстоятельства и последствия этого совращения, и, наконец, как занимательно и важно современное состояние России, вследствие предыдущего переворота, и ее современное отношение к Западу! 85 История нашей родной земли так самобытна, что разнится с самой первой своей минуты. Здесь-то, в самом начале, разделяются эти пути Русский и Западно-Европейский до той минуты, когда странно и насильственно встречаются они, когда Россия дает страшный крюк, кидает родную дорогу и примыкает к Западной... Все Европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Власть явилась там неприязненной и вооруженной и насильственно утвердилась у покоренных народов... Русское государство, напротив, было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие есть его начало... Таким образом рабское чувство покоренного легло в основании Западного государства; свободное чувство разумно и добровольно призвавшего власть легло в основании государства русского. Раб бунтует против власти, им непонимаемой, без воли его на него наложенной и его не понимающей. Человек свободный не бунтует против власти, им понятой и добровольно призванной. Итак, в основании государства Западного: насилие, рабство и вражда. В основании государства Русского: добровольность, свобода и мир. Эти начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Европой и определяют историю той и другой. Пути совершенно разные... до такой степени, что никогда не могут сойтись между собой, и народы, идущие ими, никогда не согласятся в своих воззрениях... пути эти стали еще различнее, когда важнейший вопрос для человечества присоединился к ним: вопрос Веры. Благодать сошла на Русь. Православная Вера была принята ею. Запад пошел по дороге католицизма... если мы не ошибаемся, то скажем, что по заслугам дался и истинный, и ложный путь Веры, – первый Руси, второй – Западу... К. С. Аксаков О РУССКОЙ ИСТОРИИ (1850) Русская история совершенно отличается от ЗападноЕвропейской и от всякой другой истории. Ее не понимали до настоящего времени, потому что приходили к ней с готовыми историческими рамками, заимствованными у Запада, и хотели ее туда насильно 86 втискать, потому что хотели ее учить, а не у нее учиться; одним словом, потому, что позабыли свою народность и потеряли самобытный русский взгляд... Были патриоты на Западный лад, им хотелось бы увидать в Русской истории всех Западных героев, все Западные славные дела, и они раскрашивали Русскую историю иностранными красками: дело, разумеется, не клеилось, и история только обезображивалась... Русская история, в сравнении с историей Запада Европы, отличается такой простотой, что приведет в отчаяние человека, привыкшего к театральным выходкам. Русский народ не любит становиться в красивые позы; в его истории вы не встретите ни одной фразы, ни одного красивого эффекта, ни одного яркого наряда, какими поражает и увлекает вас история Запада, личность в Русской истории играет вовсе не большую роль; принадлежность личности – необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ее – и нет у нас... Не от недостатка сил и духа, не от недостатка мужества возникает такое кроткое явление! Народ Русский, когда бывал вынужден обстоятельствами явить свои силы, обнаруживал их в такой степени, что гордые и знаменитые храбростью народы, эти лихие бойцы человечества, падали в прах перед ним, смиренным, и тут же, в минуту победы, дающим пощаду. Смирение, в настоящем смысле, несравненно большая и высшая сила духа, чем всякая гордая, бесстрашная доблесть... Но Русский народ не впал и в другую гордость, в гордость смирения, в гордость Верою, т. е. он не возгордился тем, что он имеет Веру. Нет, это народ христианский в настоящем смысле этого слова, постоянно чувствующий свою греховность... Да не подумают, чтобы я считал историю Русскую историей народа святого... Нет, конечно, это народ грешный (безгрешного народа быть не может), но постоянно, как христианин, падающий и кающийся, – не гордящийся грехами своими, не имеющий именно тех блестящих суетных сторон, той славы, величания и гордости земной других народов, которые показывают уже не христианский путь... Сравнение Русской земли с Западом в настоящее время необходимо: 1) Потому, что поклонники Запада и порицатели Русской жизни на него указывают и непременно вызывают нас на то же самое. 87 2) Потому, что у нас теперь и вообще господствует Западная точка воззрения на жизнь и на историю, почему отделение Русской жизни от Запада, ее отличие, выставлять необходимо. 3) Наконец, потому, что Россия подверглась сильно влиянию Запада, что часть Русской земли, именно те сословия, которые считаются передовыми, пользуются преимуществами, властью и богатством, пошли на Западный путь; потому что Запад вошел и в Россию, находится и в ней, если не перерождая, то искажая Русских людей, увлекая их за собой, делая их жалкими себе и своей лжи подражателями, отрывая их от самобытности, от их родных, святых начал... Страшные преступления Запада, его превосходящее всякую меру зверство, предательство, все возможные гнусности составляют едва ли не противоположность к темной стороне истории Русской. В Русской истории встречаются преступления, но они лишены этого страшного, нечеловеческого характера, по которому человек становится в разряд животных как новый совершеннейший вид его и которым отличаются кровавые дела Запада... Есть падения, пороки, но они не лишены человеческого характера, и если встречается злодейство, то впечатление, производимое им, показывает, как живо в Русской земле человеческое чувство... Запад весь проникнут ложью внутренней, фразой и эффектом, он постоянно хлопочет о красивой позе, картинном положении. Картинка для него все. Покуда он был молод, картинка была еще хороша и красива сама по себе... Но когда молодость его прошла, когда исчезли кипящие силы жизни и осталась одна только картинка, одна фраза, даже без пылкости юношеской, тогда это становится в высшей степени жалким, и сказать ли? – отвратительным явлением... Скука, и безучастие, отсутствие энергии во всех кровопролитиях и смятениях. Старческие мечты Запада, мечты, лишенные своей единственной правды, кипения молодой крови... которыми он разгорячал себя так долгое время, подействовали на него, как раздражительное средство, и привели в механическое движение его ослабевший организм... Из могучей земли, могучей более всего Верой и внутренней жизнью, смирением и тишиной, Петр захотел образовать могущество 88 и славу земную ...оторвать Русь от родных источников ее жизни... втолкнуть Русь на путь Запада... путь ложный и опасный. Петр подчинил Россию влиянию Запада; всем известное подражание Западу доходило до неистовства. От Запада Россия принимала все, начиная от начал до результатов, от образа мыслей до языка и покроя платья... Но – благодарение Богу – не вся Россия, а только часть пошла этим путем. Только часть России оставила путь смирения и, следовательно, Веры – в делах по крайней мере. Но эта часть сильна и богата, от нее зависит другая, не изменившая Вере и земле родной... Слава Богу, и среди этой части, изменившей родной земле, возникла мысль, что надо воротиться к началам родной земли, что путь Запада ложен, что постыдно подражание ему, что Русским надо быть Русскими, идти путем Русским, путем Веры, смирения, жизни внутренней, надо возвратить самый образ жизни, во всех его подробностях, на началах этих основанный, и, следовательно, надо освободиться совершенно от Запада, как от его начала, так и от направления, от образа жизни, от языка, от одежды, от привычек, обычаев его, именно от этого света и светскости, вошедших к нам, одним словом, от всего, что запечатлено печатью его духа, что вытекает даже как малейший результат из его направления! А. И. Герцен О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ (1850) Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человечества пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся. Одна из них известна – это Северо-Американские Штаты; другую же, полную сил, но вместе и дикости – знают мало или плохо. Вся Европа на все лады, в парламентах и в клубах, на улицах и в газетах, повторяла вопль берлинского "Krakehler" "Русские идут, русские идут". И, в самом деле, они не только идут, но пришли, благода89 ря Габсбургскому дому, и, быть может, они скоро продвинутся еще далее, благодаря дому Гогенцоллернов. Никто не знает как следует, что же собой представляют эти русские, эти варвары, эти казаки; Европа знает этот народ лишь по борьбе, из коей он вышел победителем. Цезарь знал галлов лучше, чем современная Европа знает Россию. Пока она имела веру в себя, пока будущее представлялось ей лишь продолжением ее развития, она могла не заниматься другими народами; теперь же положение вещей сильно изменилось. Это высокомерное невежество Европе более не к лицу. И каждый раз, когда она станет упрекать русских за то, что они рабы, – русские будут вправе спросить: "А вы, разве вы свободны?" По правде говоря, XVIII век уделял России более глубокое и более серьезное внимание, чем XIX, – быть может, потому, что он менее ее опасался. Такие люди, как Миллер, Шлоссер, Эверс, Левек, посвятили часть своей жизни изучению истории России с применением тех же научных приемов, какие в области физической применяли к ней Паллас и Гмелин. Философы и публицисты, со своей стороны, с любопытством наблюдали редкий пример правительства, деспотического и революционного одновременно. Они видели, что престол, утвержденный Петром I, имел мало сходства с феодальными и традиционными престолами Европы. Оба раздела Польши явились первым бесчестием, запятнавшим Россию. Европа не поняла всего значения этого события, ибо она была тогда отвлечена другими заботами. Она присутствовала, едва дыша, при великих событиях, которыми уже давала о себе знать Французская революция. Российская императрица, естественно, протянула реакции свою руку, запятнанную польской кровью. Она предложила реакции шпагу Суворова, свирепого живодера Праги. Поход Павла в Швейцарию и Италию был совершенно лишен смысла и лишь восстановил общественное мнение против России. Сумасбродная эпоха нелепых войн, которую французы еще до сих пор называют периодом своей славы, завершилась их нашествием на Россию; то было заблуждением гения, так же как и египетский по- 90 ход. Бонапарту вздумалось показать себя вселенной стоящим на груде трупов. К хвастовству пирамидами он захотел присоединить хвастовство Москвой и Кремлем. На этот раз его постигла неудача; он поднял против себя весь народ, который решительно схватился за оружие, прошел по его пятам через всю Европу и взял Париж. Судьба этой части мира несколько месяцев находилась в руках императора Александра, но он не сумел воспользоваться ни своей победой, ни своим положением; он поставил Россию под одно знамя с Австрией, как будто между этой прогнившей и умирающей империей и юным государством, только что появившимся во всем своем великолепии, было что-нибудь общее, как будто самый деятельный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый яростный притеснитель славян. Этим чудовищным союзом с европейской реакцией Россия, незадолго до того возвеличенная своими победами, унизилась в глазах всех мыслящих людей. Они печально покачали головой, увидев, как страна эта, впервые проявившая свою силу, предлагает сразу же руку и помощь всему ретроградному и консервативному, и притом вопреки своим собственным интересам... Поносите сколько вам будет угодно и осыпайте упреками петербургское самодержавие и печальное постоянство нашей безропотности, но поносите деспотизм повсюду и распознавайте его, в какой бы форме он ни проявлялся. Оптический обман, при помощи которого рабству придавали видимость свободы, рассеялся. Скажу еще раз: если ужасно жить в России, то столь же ужасно жить и в Европе... Европа с каждым днем становится все более похожей на Петербург; есть даже страны, более похожие на Петербург, чем сама Россия... История России – не что иное, как история эмбрионального развития славянского государства; до сих пор Россия только устраивалась. Все прошлое этой страны, с IX века, нужно рассматривать как путь к неведомому будущему, которое начинает брезжить перед нею. Подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, – только предисловие. 91 Основные силы русского народа никогда по-настоящему не обращались на собственное его развитие, как это имело место у народов германо-романских. Россия IX века представляется государством совершенно иного склада, чем государства Запада. Народонаселение в большинстве своем принадлежало к однородной расе, рассеянной по весьма обширной и малонаселенной территории. Того различия, которое наблюдается повсюду между племенем завоевателей и покоренными племенами, здесь не было. Слабые, несчастные племена финнов, разбросанные и словно затерянные среди славян, прозябали вне всякого движения – в безропотной ли покорности, в дикой ли своей независимости; никакого значения для русской истории они не имели. Норманны (варяги), давшие России княжеский род, который правил ею без перерыва до конца XVI века, были скорее организаторами, чем завоевателями. Призванные новгородцами, они захватили власть и спустя короткое время распространили ее до Киева. Через несколько поколений варяжские князья и их дружинники утратили национальные черты и смешались со славянами, сообщив им, однако, стремление к деятельности и влив новую жизнь во все области этого едва устроившегося государства. В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне. Для нее всегда труден первый шаг, но малейший толчок приводит в действие силу, способную к необыкновенному развитию. Роль норманнов подобна той, какую позже сыграл Петр Великий при помощи западной цивилизации... Но если русское государство и отличалось... существенным образом от других государств Европы, это отнюдь не дает права предполагать, что оно стояло ниже их до XIV века. Русский народ в те времена был свободнее народов феодального Запада. С другой стороны, это славянское государство не больше походило и на соседние азиатские государства. Если в нем и были какие-то восточные элементы, то 92 все же во всем преобладал характер европейский. Славянский язык, бесспорно, принадлежит к языкам индоевропейским, а не к индоазиатским; кроме того, славянам чужды и эти внезапные порывы, пробуждающие фанатизм всего населения, и это равнодушие, способствующее тому, что одна и та же форма общественной жизни сохраняется долгие века, переходя от поколения к поколению. Хотя у славянских народов чувство личной независимости так же мало развито, как у народов Востока, однако же надобно отметить следующее различие между ними: личность славянина была без остатка поглощена общиной, деятельным членом которой он являлся, тогда как на Востоке личность человека была без остатка поглощена племенем или государством, в жизни которых он принимал лишь пассивное участие. На взгляд Европы, Россия была страной азиатской, на взгляд Азии – страной европейской; эта двойственность вполне соответствовала ее характеру и ее судьбе, которая, помимо всего прочего, заключается и в том, чтобы стать великим караван-сараем цивилизации между Европой и Азией. Даже в самой религии чувствуется это двойное влияние. Христианство – европейская религия, это религия Запада; приняв его, Россия тем самым отдалилась от Азии, но христианство, воспринятое ею, было восточным – оно шло из Византии. Характер русских славян очень сходен с характером всех других славян, начиная с иллирийцев и черногорцев и кончая поляками, с которыми русские вели столь долгую борьбу. Самой отличительной чертой русских славян (не считая иноземного влияния, которому подверглись различные славянские племена) было непрерывное упорное стремление стать независимым сильным государством. Этой социальной пластичности в большей или меньшей степени не хватает другим славянским народам, даже полякам. Стремление устроить и расширить государство возникает еще во времена первых князей, пришедших в Киев; через тысячу лет оно снова проявилось в Николае. Стремление это узнаешь и в неотступной мысли овладеть Византией, и в том одушевлении, с каким поднялся весь народ (в 1612 и в 1812 годах) на защиту своей национальной независимости. Сыграл ли здесь 93 роль инстинкт или унаследованный дух норманнов, а быть может, то и другое вместе, но здесь причина того неоспоримого факта, что Россия, единственная среди всех славянских стран, могла сложиться в стройное, могучее государство. Иноземное влияние даже способствовало так или иначе этому развитию, облегчая централизацию и предоставляя правительству средства, которых у последнего не было. После норманнского первым иноземным элементом, примешавшимся к русской национальности, был византийский. Пока наследники Святослава лелеяли мечту о завоевании восточного Рима, этот Рим предпринял и завершил их духовное подчинение. Обращение России в православие является одним из тех важных событий, неисчислимые последствия которых, сказываясь в течение веков, порой изменяют лицо всего мира. Не случись этого, нет сомнения, что спустя полстолетия или столетие в Россию проник бы католицизм и превратил бы ее во вторую Хорватию или во вторую Чехию. Приобретенное влияние на Россию являлось огромной победой для угасающей византийской империи и для византийской церкви, униженной своей соперницей. Отлично понимая это, константинопольское духовенство, со свойственным ему коварством, окружало князей монахами и само намечало глав духовной иерархии. Итак, наследник, защитник, мститель за все, что претерпела в прошлом или претерпит в будущем греческая церковь, был найден, но не в лице Анатолии или Антиохии, а в лице народа, страна которого простиралась от Черного моря до Белого. Греческое православие связало нерасторжимыми узами Россию и Константинополь; оно укрепило естественное тяготение русских славян к этому городу и подготовило своей религиозной победой грядущую победу над восточной столицей единственному могущественному народу, который исповедует греческое православие. Когда Магомет II вошел победителем в Константинополь, церковь пала к ногам русских князей и с той поры не переставала указывать им на полумесяц над собором св. Софии... Вскоре к византийскому влиянию добавилось другое, еще более чуждое западному духу – влияние монгольское. Татары пронеслись 94 над Россией подобно туче саранчи, подобно урагану, сокрушавшему все, что встречалось на его пути. Они разоряли города, жгли деревни, грабили друг друга и после всех этих ужасов исчезали за Каспийским морем, время от времени посылая оттуда свои свирепые орды, чтобы напомнить покоренным народам о своем господстве. Внутреннего же строя государства, его администрации и правительства кочевникипобедители не трогали. Они не только предоставили населению свободно исповедовать греческую веру, но ограничили свою власть над русскими князьями лишь требованием признать татарское владычество, являться к ханам за своей инвеститурой и платить установленную дань. Монгольское иго, тем не менее, нанесло стране ужасный удар: материальный ущерб после неоднократных опустошений привел к полному истощению народа – он согнулся под тяжким гнетом нищеты. Люди бежали из деревень, бродили по лесам, никто из жителей не чувствовал себя в безопасности; к податям прибавилась выплата дани, за которою, при малейшем опоздании, приезжали баскаки, обладавшие неограниченными полномочиями, и тысячи татар и калмыков. Именно в это злосчастное время, длившееся около двух столетий, Россия и дала обогнать себя Европе. У преследуемого, разоренного, всегда запуганного народа появились черты хитрости и угодливости, присущие всем угнетенным: общество пало духом... Петр I не был ни восточным царем, ни деспотом; то был деспот наподобие Комитета общественного спасения, деспот и по своему положению, и во имя великой идеи, утверждавшей неоспоримое его превосходство над всем, что его окружало... он мечтал об огромной России, о гигантском государстве, которое простерлось бы до самых глубин Азии, стало бы властелином Константинополя и судеб Европы... Произведенная Петром I революция разделила Россию на две части: по одну сторону остались крестьяне свободных и господских общин, посадские крестьяне и мещане; то была старая Россия – консервативная, общинная, традиционная Россия, строго православная или же раскольническая, неизменно религиозная, носившая национальную одежду и ничего не воспринявшая от европейской цивилиза- 95 ции. На эту часть нации правительство, что случается при победивших революциях, смотрело как на сборище недовольных, почти как на бунтовщиков. Находясь в немилости, в неопределенном положении, вне закона, она была отдана на волю другой части нации. Новую Россию составляло созданное Петром I дворянство, все потомки бояр, все гражданские чиновники и, наконец, армия. Быстрота, с которою эти классы освободились от своих обычаев, была поразительна, все умственное и политическое движение сосредоточилось лишь в дворянстве. За исключением пугачевского эпизода и пробуждения народа в 1812 году история России – не что иное, как история русского правительства и русского дворянства. Если судить о русском дворянстве по аналогии с всемогущей английской аристократией или жалкой аристократией немецкой, то никогда не удастся объяснить, что сейчас происходит в России... Цивилизация очень быстро распространилась в верхних слоях дворянства, но она была насквозь иноземной, и единственной национальной чертой в ней оказалась известная грубоватость, странным образом уживавшаяся с формами французской вежливости. При дворе изъяснялись только по-французски, подражали Версалю. Тон задавала императрица, она переписывалась с Вольтером, проводила вечера с Дидро и комментировала Монтескье; идеи энциклопедистов просачивались в петербургское общество. Почти все старики того времени, которых мы только знали, были вольтерьянцами или материалистами, если не были франкмасонами. Эта философия прививалась русским с тем большей легкостью, что уму их свойственна и трезвость, и ирония. Почва, завоеванная в России цивилизацией, была потеряна для церкви. Греческое православие властвует над душой славянина лишь в том случае, если находит в ней невежественность. По мере того как проникает в нее свет, тускнеет вера, внешний фетишизм уступает место полнейшему безразличию. Здравый смысл и практический ум русского человека отвергают совместимость ясной мысли с мистицизмом. Русский способен долго быть набожным до ханжества, но только при условии никогда не размышлять о религии; он не может стать рационалистом, ибо освобождение от невежественности для него равно- 96 значно освобождению от религии. Мистические тенденции, встречаемые нами у франкмасонов, в действительности являлись лишь средством помешать успеху быстро распространявшегося грубого эпикуреизма. Что до мистицизма времен императора Александра, то он был порождением франкмасонства и немецкого влияния, не имевшим реальной основы, – увлечением модой у одних, восторженностью духа у других. После 1825 года о нем забыли и думать. Укрепление религиозной дисциплины при помощи полиции во времена императора Николая не говорит в пользу богобоязненности цивилизованных классов. Влияние философских идей XVIII века оказалось в известной мере пагубным в Петербурге. Во Франции энциклопедисты, освобождая человека от старых предрассудов, внушали ему более высокие нравственные побуждения, делали его революционером. У нас же Вольтерова философия, разрывая последние узы, сдерживавшие полудикую натуру, ничем не заменяла старые верования и привычные нравственные обязанности. Она вооружала русского всеми орудиями диалектики и иронии, способными оправдать в его глазах собственную рабскую зависимость от государя и рабскую зависимость крепостных от него самого. Неофиты цивилизации с жадностью набросились на чувственные удовольствия. Они отлично поняли призыв к эпикуреизму, но до их души не доходили торжественные звуки набата, призывавшего людей к великому возрождению. Между дворянством и народом стоял чиновный сброд из личных дворян – продажный и лишенный всякого человеческого достоинства класс. Воры, мучители, доносчики, пьяницы и картежники, они были и являются еще и теперь самым ярким воплощением раболепства в империи. Класс этот был вызван к жизни крутой реформой суда при Петре I... У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести. Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы... 97 Со времени Петра I много говорилось о способности русских к подражанию, которое они доводят до смешного. Несколько немецких ученых утверждали, будто славяне вовсе лишены самобытности, будто отличительным их свойством является лишь переимчивость. Славяне действительно обладают большой эластичностью: выйдя однажды из своей патриотической исключительности, они уже не находят непреодолимого препятствия для понимания других национальностей. Немецкая наука, которая не переходит за Рейн, и английская поэзия, которая ухудшается, переправляясь через Па-де-Кале, давно приобрели право гражданства у славян. К этому надо прибавить, что в основе переимчивости славян есть нечто своеобразное, нечто такое, что, хотя и поддается внешним влияниям, все же сохраняет свой собственный характер. Пора реакции против реформы Петра I настала не только для правительства, отступавшего от своего же принципа и отрекавшегося от западной цивилизации, во имя коей Петр I попирал национальность, но и для тех людей, которых правительство оторвало от народа под предлогом цивилизации и принялось вешать, когда они стали цивилизованными. Возврат к национальным идеям естественно приводил к вопросу, самая постановка которого уже являлась реакцией против петербургского периода. Не нужно ли искать выхода из создавшегося для нас печального положения в том, чтобы приблизиться к народу, который мы, не зная его, презираем? Не нужно ли возвратиться к общественному строю, который более соответствует славянскому характеру, и покинуть путь чужеземной насильственной цивилизации? Этот вопрос важный и злободневный. Но едва только он был поставлен, как нашлась группа людей, которая, тотчас же решив его в положительном смысле, создала исключительную систему, превратив ее не только в доктрину, но и в религию. Логика реакции так же стремительна, как логика революций. Наибольшее заблуждение славянофилов заключается в том, что они в самом вопросе увидели ответ и спутали возможность с действительностью. Они предчувствовали, что их путь ведет к великим истинам и должен изменить нашу точку зрения на современные события. 98 Но вместо того, чтобы идти вперед и работать, они ограничились этим предчувствием. Таким образом, извращая факты, они извратили свое собственное понимание. Суждение их не было уже свободным, они уже не видели трудностей, им казалось, что все решено, со всем покончено. Их занимала не истина, а поиски возражений своим противникам. К полемике примешались страсти. Экзальтированные славянофилы накинулись с остервенением на весь петербургский период, на все, что сделал Петр Великий, и, наконец, на все, что было европеизировано, цивилизованно. Можно понять и оправдать такое увлечение как оппозицию, но, к несчастью, оппозиция эта зашла слишком далеко и увидела, что непонятным для себя образом она очутилась на стороне правительства, наперекор собственным стремлениям к свободе... Им казалось, что одной из наиболее важных причин рабства, в котором обреталась Россия, был недостаток личной независимости; отсюда – полное отсутствие уважения к человеку со стороны правительства и отсутствие оппозиции со стороны отдельных лиц; отсюда – цинизм власти и долготерпение народа. Будущее России чревато великой опасностью для Европы и несчастиями для нее самой, если в личное право не проникнут освободительные начала. Еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа исчезнут. К счастью, в этом важном вопросе о личности Россия занимала совершенно особое положение. Для человека Запада одним из величайших несчастий, способствующих рабству, обнищанию масс и бессилию революций, является нравственное порабощение; это не недостаток чувства личности, а недостаток ясности в этом чувстве, искаженном – а оно искажено – предшествующими историческими событиями, которыми ограничивают личную независимость. Народы Европы вложили столько души в прошлые революции, пролили столько своей крови, что революции эти всегда у них в памяти и человек не может сделать шагу, не задев своих воспоминаний, своих фуэросов, в большей или меньшей степени обязательных и признанных им самим; все вопросы были уже на- 99 половину разрешены; побуждения, отношения людей между собой, долг, нравственность, преступление – все определено, притом не какой-нибудь высшей силой, а отчасти с общего согласия людей. Отсюда следует, что человек, вместо того чтобы сохранить за собою свободу действий, может лишь подчиниться или восстать. Эти непререкаемые нормы, эти готовые понятия пересекают океан и вводятся в основной закон какой-либо вновь образуемой республики; они переживают гильотинированного короля и спокойнейшим образом занимают места на скамьях якобинцев и в Конвенте. Долгое время это множество полуистин и полупредрассудков принимали за прочные и абсолютные основы общественной жизни, за бесспорные и не подлежащие сомнению выводы. Действительно, каждый из них был подлинным прогрессом, победой для своего времени, но из всей их совокупности мало-помалу воздвигались стены новой тюрьмы. В начале нашего века мыслящие люди это заметили, но тут же они увидели всю толщину этих стен и поняли, сколько надо усилий, чтобы пробить их. Совсем в ином положении находится Россия. Стены ее тюрьмы – из дерева; возведенные грубой силой, они дрогнут при первом же ударе. Часть народа, отрекшаяся вместе с Петром I от всего своего прошлого, показала, какой силой отрицания она обладает; другая часть, оставшись чуждою современному положению, покорилась, но не приняла новый режим, который ей кажется временным лагерем, – она подчиняется, потому что боится, но она не верит. Было очевидно, что ни Западная Европа, ни современная Россия не могли идти далее своим путем, не отбросив полностью политические и моральные формы своей жизни. Но Европа была слишком богата, чтобы пожертвовать большим имуществом ради какойто надежды. Положение, в котором находилась Россия в сравнении со своим прошлым и с прошлым Европы, было совершенно ново и казалось весьма благоприятным для развития личной независимости. Вместо того чтобы воспользоваться этим, позволили появиться на свет учению, лишавшему Россию того единственного преимущества, которое 100 оставила ей в наследство история. Ненавидя, как и мы, настоящее России, славянофилы хотели позаимствовать у прошлого путы, подобные тем, которые сдерживают движение европейца. Они смешивали идею свободной личности с идеей узкого эгоизма; они принимали ее за европейскую, западную идею и, чтобы смешать нас со слепыми поклонниками западного просвещения, постоянно рисовали нам страшную картину европейского разложения, маразма народов, бессилия революций и близящегося мрачного рокового кризиса. Все это было верно, но они забыли назвать тех, от кого узнали эти истины. Европа не дожидалась ни поэзии Хомякова, ни прозы редакторов "Москвитянина", чтобы понять, что она накануне катаклизма – возрождения или окончательного разложения. Сознание упадка современного общества – это социализм, и, конечно, ни Сен-Симон, ни Фурье, ни этот новый Самсон, потрясающий из недр своей тюрьмы европейское здание, не почерпнули своих грозных приговоров Европе из писаний Шафарика, Колара или Мицкевича. Сенсимонизм был известен в России лет за десять до того, как заговорили о славянофилах... Легко критиковать реформацию и революцию, читая их историю, но Европа продиктовала и написала их собственною кровью. В великих этих битвах, протестуя во имя свободы мысли и прав человека, она поднялась до такой высоты убеждений, что, быть может, не в силах их осуществить. Мы же более свободны от прошлого, это великое преимущество, но оно обязывает нас к большей скромности. Это – добродетель слишком отрицательная, чтобы заслуживать похвалы, один только ультраромантизм возводит отсутствие пороков в степень добрых дел. Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограниченно. Такие вещи, как московский царизм или петербургское императорство, любить невозможно. Их можно объяснить, можно найти в них зачатки иного будущего, но нужно стремиться избавиться от них, как от пеленок. Ставя в упрек Европе, что она не умела перерасти свои собственные установления, славянофилы не только не говорили, как думают они разрешить великое противоречие между свободой личности и государством, но даже избегали входить в 101 подробности того славянского политического устройства, о котором без конца твердили. Тут они ограничивались киевским периодом и держались за сельскую общину. Но киевский период не помешал наступлению московского периода и утрате вольностей. Община не спасла крестьянина от закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без свободы личности. Европа, не ведавшая этой общины или потерявшая ее в превратностях прошедших веков, поняла ее, а Россия, обладавшая ею в течение тысячи лет, не понимала ее, пока Европа не пришла сказать ей, какое сокровище скрывала та в своем лоне. Славянскую общину начали ценить, когда стал распространяться социализм. Мы бросаем вызов славянофилам, пусть они докажут обратное. Европа не разрешила противоречия между личностью и государством, но она все же поставила этот вопрос. Россия подходит к проблеме с противоположной стороны, но и она ее не решила. С появления перед нами этого вопроса и начинается наше равенство. У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем, но надежда – лишь потому надежда, что она может не осуществиться. Д. И. Писарев БЕДНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ (1862) Теперь, кажется, спор между славянофилами и западниками о значении Петра в истории нашего просвещения, оставаясь нерешенным, затих и заглох, потому что самые литературные партии, красовавшиеся под этими двумя фирмами, успели выродиться и преобразиться. Теперь уже никто серьезно не советует возвратиться к временам боярства, и вследствие этого уже никто серьезно не полемизирует с боярским элементом. Слышатся кое-где фразы о народности, почве; эпитет "русский" ни к селу ни к городу привязывается к словам: жизнь, мысль, ум, развитие; но те господа, которые сочиняют подобные фразы и употребляют всуе многознаменательный эпитет, сами как-то не верят тому, что говорят, и на самом деле придают своим 102 словам очень мало значения. Фразы и вывески год от году теряют свою обаятельную прелесть: прежде достаточно было сказать: "матушка Русь православная", или заговорить о народной подоплеке, или противопоставить "русскую цельность духа" европейскому рационализму, для того чтобы прослыть не только патриотом, но даже опасным человеком. Теперь уже не то. Теперь вы можете кричать на всех перекрестках, что вы прогрессист, либерал, демократ, и вам немногие поверят на слово. И вас немногие будут слушать или читать, если под звучными вашими словами нет оригинальных мыслей, если под вашими фразами не кроются глубоко продуманные убеждения. Наши теперешние литературные партии теперь не выкидывают ярких флагов, не тащат насильно читателей ни на восток, ни на запад, не стараются прыгнуть ни в XVI столетие, ни в XXII; они живут во времени и в пространстве, они следят за жизнью и комментируют одни и те же явления и смотрят на них или по крайней мере стараются смотреть на них не с китайской, не с французской, не с английской, а просто с человеческой, с своей личной точки зрения... Когда западники спорили с славянофилами о реформе Петра, тогда первые доказывали, что она была в высшей степени полезна, а вторые утверждали, что она извратила русскую жизнь и нанесла к нам целые груды иноземной лжи. Западники говорили, что с реформы Петра начинается история России, а что предыдущие столетия не что иное, как печальное и мрачное введение; славянофилы божились, напротив того, что с Петра начинается вавилонское пленение русской мысли, египетская работа, заданная нам Западом. Мне кажется, нельзя согласиться ни с западниками, ни с славянофилами. Западников можно было озадачить одним очень простым вопросом: в чем же вы, господа, можно у них спросить, видите проявление исторической жизни в России после Петра? Какое же существенное различие между Россиею Алексея Михайловича и Россиею Екатерины I? В чем изменилась судьба народа? И какое дело народу до того, что в Петербурге ученые немцы собирают монстры и раритеты, что приказы переименованы в коллегии и что шведский король разбит под Полтавою? Обращаясь к славянофилам, можно сказать: помилуйте, господа, о чем вы горюете? 103 Если иноземная ложь действительно подавила нашу народную правду, то, значит, эта ложь хоть и ложь, а все-таки была сильнее хваленой вашей правды. Если эта победа лжи над правдою есть явление временное, происходящее от временного ослабления этой правды, тогда ждите ее усиления и не вините Петра в том, что он будто бы задавил это живое начало. Да и что за правда? Где она? В какой это прелюбезной черте старорусской жизни вы ее видите? В боярщине, в унижении женщины, в холопстве, в батогах, и постничестве и юродстве? Если это правда, то во всяком случае правда относительная. Иному она нравится, а иному и даром не нужна. Расходясь с западниками и славянофилами, я в то же время схожусь и с теми и с другими на некоторых существенно важных пунктах. С западниками я разделяю их стремление к европейской жизни, с славянофилами – их отвращение против цивилизаторов... Европейская жизнь хороша, спору нет, – не хорошо только то, что мы до сих пор созерцаем ее в заманчивой, но отдаленной перспективе. Любя европейскую жизнь, мы не должны и не можем обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра; мы должны помнить, что ничто не вредит истинному прогрессу так сильно, как сладенький оптимизм, принимающий декорации за живую действительность, удовлетворяющийся фразами и жестами, питающийся дешевыми надеждами и не решающийся называть вещи их настоящими именами... Со славянофилами мы сходимся, как я уже заметил, в их отвращении к цивилизаторам, насильно благодетельствующими человечеству. Мы бы желали, чтобы народ развивался сам по себе, чтобы он собственным ощущением сознавал свои потребности и собственным умом приискал средства для их удовлетворения. Мы в этом случае не восстаем против подражательности, если только народ собственным процессом мысли доходит до сознания необходимости позаимствоваться у соседей тем или другим изобретением или учреждением. Мы не желаем только, чтобы над жизнью народа проделывали те или другие фокусы: если бы теперь в России жили два человека, из которых один захотел бы силою вводить заключение 104 женщины в терема, а другой вздумал бы силою же вводить гражданские браки, то меня прежде всего возмутило бы не направление той или другой реформы, а ее насильственность, т. е. способ ее проведения в жизнь... Мы не думаем, чтобы мыслящий историк мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни, мы не думаем, чтобы он нашел в ней чтонибудь, кроме жалкого, подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали. Следовательно, славянофильское отрицание действий Петра во имя допетровского порядка вещей оказывается несостоятельным... Если Петр действительно опрокинул чтонибудь, то он опрокинул только то, что было слабо и гнило, только то, что повалилось бы само собою. Мы видим таким образом, что и славянофилы и западники преувеличивают значение деятельности Петра; одни видят в нем исказителя народной жизни, другие – какого-то Сэмпсона, разрушившего стену, отделявшую Россию от Европы... Деятельность Петра вовсе не так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам. Жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакловитому удалось убить молодого Петра... Решившись создать русскую цивилизацию, решившись превратить в европейцев те миллионы своих подданных, которые еще не обнаруживали ни малейшего желания и не чувствовали ни малейшей потребности изменить свой стародавний быт, Петр, очевидно, вступил в борьбу уже не с единичною волею и даже не с массою единичных воль, а просто с стихийною силою, с природою, с физическими законами вещества. Переделать целое поколение своих современников и устранить влияние этого поколения на подрастающую молодежь значило создать для целой обширной страны новую, искусственную ат- 105 мосферу жизни. Выполнить такого рода задачу было так же невозможно, как, например, изменить в России климат, или поворотить назад все течение Волги, или сровнять с землею Уральский хребет... Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью самого народа... Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, завтра доить, послезавтра сеять и во все это время ладить то с барином, то с бурмистром, то с каким-нибудь приказным, то с своею собственною горемычною семьею. Мужику показались бы барскими затеями и прихотями все прогрессивные распоряжения Петра, но, к счастью или к несчастью, мужик об них не знал и решительно не интересовался ими; чтобы дать мужику возможность интересоваться распоряжениями правительства, надо было хоть немного облегчить тот страшный гнет материальных забот, лишений и стеснений, который обременяет собою низшее сословие даже в самых образованных государствах Европы и который в странах, еще не успевших освободиться от рабства или от крепостного права, парализует в низшем сословии всякую самодеятельность мысли, всякую энергию воли и поступков, всякое решительное стремление к лучшему порядку вещей. Надо было стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию – эту вынужденную апатию безнадежности, которая так неминуемо и неизбежно вытекала из безвыходности положения. Стряхнуть эту роковую апатию, которую многие совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, мог только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который, находясь в положении Петра I, решился бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья... Великие люди, реформировавшие жизнь простых смертных с высоты своего умственного или какого-либо другого величия, по нашему крайнему разумению, кажутся нам все в равной мере достойными неодобрения; одни из этих великих людей были очень умны, другие – замечательно бестолковы, но это обстоятельство нисколько не уменьшает их родового сходства; они все насиловали природу челове- 106 ка, они все вели связанных людей к какой-нибудь мечтательной цели, они все играли людьми, как шашками; следовательно, ни один из них не уважал человеческой личности, следовательно, ни один из них не окажется невиновным перед судом истории; все поголовно могут быть названы врагами человечества; но там, где виноваты все, там никто не виноват в отдельности; порок целого типа не может быть поставлен в вину неделимому... Все, что сделал Петр, то оказалось бесплодным, потому что все это было делом его личной прихоти, все это было барскою фантазиею, все это вводилось и учреждалось помимо воли тех людей, для которых это все, по-видимому, предназначалось. С. М. Соловьев ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ (1872) Долго относились у нас к делу Петра не исторически как в благоговейном уважении к этому делу, так и в порицании его. Поэты позволяли себе воспевать: "Он бог твой, бог твой был, Россия". Но и в речи более спокойной, не поэтической, подобный взгляд господствовал; приведение Петром России от небытия к бытию было общеупотребительным выражением. Я назвал такой взгляд неисторическим, потому что здесь деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа; в жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая по своему произволу, причем народ был осужден на совершенно страдательное отношение к ней; многовековая жизнь и деятельность народа до Петра объявлялась несуществующею; России, народа русского не было до Петра, он сотворил Россию, он привел ее из небытия в бытие. Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо противодействия крайности приведенного взгляда, перегнули в противоположную сторону; крайности сошлись, и опять надобно было проститься с историею. Россия, по новому взгляду, не только не находилась в небытии до Петра, но наслаждалась бытием правильным и высоким, все было хорошо, нравственно, чисто и свято; но вот явился Петр, который нару107 шил правильное течение русской жизни, уничтожил ее народный, свободный строй, попрал народные нравы и обычаи, произвел рознь между высшими и низшими слоями народонаселения, заразил общество иноземными обычаями, устроил государство по чуждому образу и подобию, заставил русских людей потерять сознание о своем, о своей народности. Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять исчезает история народа, развивающаяся сама из себя по известным законам, при влиянии особенных условий, которые и отличают жизнь одного народа от жизни другого. Понятно, что оба взгляда, по-видимому, противоположные, но в сущности одинаково не исторические, не могут удержаться при возмужалости науки, когда более внимательные наблюдения над историческою жизнью народов должны были повести к отрицанию таких сверхъестественных явлений в этой жизни, когда убедились, что всякое явление, как бы оно ни было громко, как бы ни изменяло, повидимому, народный строй и образ, есть необходимо результат предшествовавшего развития народной жизни... Народы, живущие особняком, не любящие сближаться с другими народами, жить с ними общею жизнью, это народы наименее развитые, они живут, так сказать, еще в сельском, деревенском быту. Самым сильным развитием отличаются народы, которые находятся друг с другом в постоянном общении; таковы народы европейскохристианские. Но понятно, что для плодотворности этого общения необходимо, чтоб народ встречался, сообщался с таким другим народом или народами, с которыми могла бы установиться мена мыслей, опытности, от которых можно было бы что-нибудь занять, чемунибудь научиться. Переход народа из одного возраста в другой, т. е. сильное умственное движение в нем начинается, когда народ встречается с другим народом, более развитым, образованным, и если различие в степени развития, в степени образованности между ними очень сильно, то между ними, естественно образуется отношение учителя к ученику; закон, которого обойти нельзя. Так, римляне, народ, стремившийся к завоеванию всего известного тогда мира, встретившись с греками, народом, отжившим свой исторический век, пре- 108 клонились перед ними и отдали себя в науку, и через эту греческую науку перешли во второй возраст своего исторического бытия. Но еще ближе к нам пример народов наших ровесников, новых европейскохристианских народов Западной Европы. Они совершили свой переход из одного возраста в другой в XV и XVI веках также посредством науки, чужой науки, через открытие и изучение памятников древней греко-римской мысли. По общему закону они пошли в науку к грекам и римлянам и ничего не хотели знать, кроме греков и римлян. В ревностном служении своему новому началу они отнеслись враждебно к прожитому ими возрасту, к своей древней истории, к господствовавшему там началу, к чувству и последствиям этого господства. Свою новую жизнь, красившуюся для них развитием мысли под влиянием древней, чужой мысли, они противопоставили своей прежней жизни, как бытие небытию. Отуманенные новыми могущественными влияниями, относясь враждебно к прожитому им возрасту, они до того потеряли смысл к явлениям этого возраста, что не видели в ней своей древней истории, результаты которой имели жить в них, в их новой истории, как бы они ни старались отчураться от них именами Платонов, Аристотелей и Цицеронов. Для них древняя история была преимущественно история греков и римлян, к которым, как к своим учителям, духовным отцам, возродившим их к новой жизни, они непосредственно примыкали свою новую историю, а свою собственную древнюю историю они вставили, как что-то странное, плохо понимаемое, междоумочное, ни то, ни се, среднее, откуда и название средней истории, истории средних веков. Так совершился переход из одного возраста в другой, из древней истории в новую, для народов Западной Европы, народов романского и германского племени. Но дошел черед и до нас, народа Восточной Европы, народа славянского. Наш переход из древней истории в новую, из возраста, в котором господствует чувство, в возраст, когда господствует мысль, совершился в конце XVII и начале XVIII века. Относительно этого перехода мы видим разницу между нами и нашими европейскими собратиями, разницу на два века... 109 Русский народ, как народ славянский, принадлежит к тому же великому арийскому племени, племени – любимцу истории, как и другие европейские народы, древние и новые, и, подобно им, имеет наследственную способность к сильному историческому развитию; одинаково у него с новыми европейскими народами и другое могущественное внутреннее условие, определяющее его духовный образ, – христианство; следовательно, внутренние условия или средства равны, и внутренней слабости и потому отсталости мы предполагать не можем; но когда обратимся к условиям внешним, то видим чрезвычайную разницу, бросающуюся в глаза неблагоприятность условий на нашей стороне, что вполне объясняет задержку развития. Известны выгодные условия для исторического развития, которые европейские народы находят в географических формах своей части света: выгодные для промышленного и торгового развития отношения моря к суше; выгодное для быстрого исторического развития разделение на многие небольшие, хорошо защищенные государственные области; разделение, а не отчуждение, производимое в других частях света степями и слишком высокими горами; умеренность климата и т. д. – все эти благоприятные условия сосредоточены в западной части Европы, а нет их на восточной, представляющей громадную равнину, страдающую отсутствием моря и близостью степей. Причины задержки развития в неблагоприятных внешних условиях ясны, следовательно, для нас с первого взгляда. При первом же взгляде на карту нас поражает громадность русской государственной области; но обширность государственной области имеет важное значение при известных условиях, при единстве народонаселения, при достаточном его количестве сравнительно с обширностью и при образованности народа; понятно, что при равенстве этих условий из двух государств сильнее то, которое больше другого; но при отсутствии этих условий обширность государства не только не дает ему силы сравнительно с небольшим государством, обладающим этими условиями, но и служит главным препятствием народному развитию. В истории нашего народа это тем более чувствительно, что Россия родилась с обширною государственною областью и с ничтожным относительно народонаселе- 110 нием. Понятно, что общая жизнь, общая деятельность в народе может быть только тогда сильна, когда народонаселение сосредоточено на таких пространствах, которые не препятствуют частому сообщению, когда существует в небольшом расстоянии друг от друга много таких мест, где сосредоточивается большое народонаселение, мест, называемых городами, в которых, как мы уже видели, развитие происходит быстрее, чем среди сельского народонаселения, живущего небольшими группами на далеком друг от друга расстоянии. Россия и в XVII веке, перед эпохою преобразования, представляет нам на огромном пространстве небольшое число городов с поразительно ничтожным количеством промышленного народонаселения: эти города не иное что, как большие огороженные села, крепости, имеющие более военное значение, чем промышленное и торговое; они удалены друг от друга обширностью расстояний и чрезвычайною трудностью сообщений, особенно весною и осенью. Таким образом, Россия в своей древней истории представляла страну преимущественно сельскую, земледельческую, а такие страны необходимо бывают бедны и развиваются чрезвычайно медленно. Но подле этого главного неблагоприятного условия видим еще другие. Россия есть громадное континентальное государство, не защищенное природными границами, открытое с востока, юга и запада. Русское государство основывалось в той стране, которая до него не знала истории, в стране, где господствовали дикие, кочевые орды, в стране, которая служила широкою открытою дорогою для бичей божиих, для диких народов Средней Азии, стремившихся на опустошение Европы. Основанное в такой стране русское государство изначала осуждалось на постоянную черную работу, на постоянную тяжкую изнурительную борьбу с жителями степей... только в конце XVII века, в конце нашей древней истории, русское государство успело выговорить освобождение от посылки постоянных обязательных даров крымскому хану, т. е. попросту дани. Но едва только Россия начала справляться с Востоком, как на западе явились враги более опасные по своим средствам. Наша многострадальная Москва, основанная в середине земли русской и собравшая землю, должна была защитить ее с двух сторон, с запада и восто- 111 ка, боронить от латинства и бесерменства, по старинному выражению, и должна была принимать беды с двух сторон: горела от татарина, горела от поляка. Таким образом, бедный, разбросанный на огромных пространствах народ должен был постоянно с неимоверным трудом собирать свои силы, отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтоб избавиться от врагов, грозивших со всех сторон, чтоб сохранить главное благо, народную независимость; бедная средствами сельская земледельческая страна должна была постоянно содержать большое войско. Кому неизвестно, что образование и содержание войска составляет важный, жизненный вопрос для каждого, а особенно континентального государства... Появление постоянного войска есть ясный признак экономического переворота в народной жизни, промышленного и торгового развития, появления имущества движимого, денег подле недвижимого, земли – признак, который естественно и необходимо совпадает с другим признаком – освобождением земледельческого сословия, появлением вольнонаемного труда вместо обязательного, крепостного; город, разбогатев, освобождает село, ибо в организме народном все органы находятся в тесной связи, усиление или упадок одного отзывается на усилении или упадке другого. Так было на западе. Обратимся на восток. Законы развития одни и те же и здесь, и там, разница происходит от более или менее благоприятных условий, ускоряющих или замедляющих развитие. На востоке, в нашей России, мы имеем дело с государством бедным, земледельческим, без развития города, без сильного промышленного и торгового движения, государством громадным, но с малым народонаселением, государством, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную, причем отстаивалось не материальное благосостояние (не избалованы были им наши предки!), но независимость страны, свобода жителей, потому что как скоро не поспеет русское войско выйти к берегам Оки сторожить татар, даст им где-нибудь прорваться, то восточные магометанские рынки наполняются русскими рабами. Госу- 112 дарство бедное, мало населенное и должно содержать большое войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых границ. Понятно, что мы должны здесь встретиться с обычным в земледельческих государствах явлением: вооруженное сословие, войско непосредственно кормится на счет невооруженного. Бедное государство, но обязанное содержать большое войско, не имея денег, вследствие промышленной и торговой неразвитости, раздает военным служилым людям земли, но земля для землевладельца не имеет значения без земледельца, без работника, а его-то и недостает; рабочие руки дороги, за них идет борьба между земледельцами, работников переманивают, землевладельцы, которые побогаче, вотчинники, монастыри большими выгодами переманивают к себе работников от землевладельцев, которые победнее, от мелких помещиков, которые не могут дать выгодных условий, и бедный землевладелец, не имея работника, лишается возможности кормиться с земли своей, лишается возможности служить, являться по первому требованию государства в должном виде, на коне, с известным числом людей и в достаточном вооружении, конен, люден и оружен. Что тут делать? Главная потребность государства – иметь наготове войско, но воин отказывается служить, не выходит в поход, потому что ему нечем жить, нечем вооружиться, у него есть земля, но нет работников. И вот единственным средством удовлетворения этой главной потребности страны найдено прикрепление крестьян, чтоб они не уходили с земель бедных помещиков, не переманивались богатыми, чтобы служилый человек имел всегда работника на своей земле, всегда имел средство быть готовым к выступлению в поход. Долго иностранцы, а за ними и русские, изумлялись и глумились над этим явлением: как это случилось, что в то самое время, как в Западной Европе крепостное право исчезало, в России оно вводилось? Теперь наука показывает нам ясно, как это случилось: в Западной Европе, благодаря ее выгодному положению, усилилась промышленная и торговая деятельность, односторонность в экономической жизни, господство недвижимой собственности, земли исчезли, подле них явилась собственность движимая, деньги, увеличилось народонаселе- 113 ние, разбогател город и освободил село; а на востоке образовалось государство при самых невыгодных условиях, с громадною областью и малым народонаселением, нуждающееся в большом войске, заставляемое быть военным, хотя вовсе не воинственное, вовсе без завоевательных стремлений, имеющее в виду только постоянную защиту своей независимости и свободы своего народонаселения, государство бедное, земледельческое, и как только отношения в нем между частями народонаселения начали определяться по главным потребностям народной и государственной жизни, то оно и представило известное в подобных государствах явление: вооруженная часть народонаселения кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет землею, на которой невооруженный человек является крепостным работником. И разве во всех государствах Европы крепостная зависимость сельского народонаселения исчезла вдруг и давно? В государствах Средней Европы она продолжалась до настоящего века, и причина тому заключалась в медленности экономического развития. Но для уяснения явления посредством сравнения нам не нужно ограничиваться одною Европою; к Европе примыкает другая часть света, открытая европейско-христианскими народами, занятая ими, введенная вследствие этого в общую жизнь с Европою, Америка. В XVI веке эта страна представляла главные экономические условия, одинаковые с Востоком Европы, с Россией: обширная страна, страшно нуждающаяся в рабочих руках, и что же делают в ней эти западные европейцы, так хвастающие ранним освобождением у себя сельского народонаселения? Они организуют здесь рабство сельского народонаселения в самых обширных и отвратительных размерах посредством вывоза из Африки черных невольников, успокаивая свою цивилизованную совесть лукавым мудрствованием, что негры вовсе не такие люди, как белые, не от одного Адама произошли. Прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении... Долгое время все внимание русского человека было обращено на Восток, к миру степных, хищных варваров, народов кочевых, не христианских, стоявших на низшей ступени развития, чем народ рус- 114 ский. Русский человек сознал свое резкое различие от этих народов и, находясь в том возрасте, когда преобладает чувство, сознал свое резкое различие от степного варвара в религии; не русский и татарин, но христианин и бусурманин, или поганый, вот какие представления были напереди; здесь прошла резкая нравственная граница между русскою народностью и азиатским миром. Но на Западе другие соседи, народы с другим характером. И здесь прежде всего подмечено и стало на первом плане религиозное, т. е. вероисповедное различие, православный христианин или просто христианин, христианин по преимуществу, и латынец (римлянин), лутор, кальвин; и здесь, на Западе, вероисповедное различие провело резкую нравственную границу русской народности, вот почему и говорим мы, что православие легло в основу русской народности, охранило ее духовную и политическую самостоятельность: под его знаменем поднялась и собралась восточная Россия, чтоб не пустить на московский престол латынца, польского короля или сына его; под его знаменем отстаивала свою народную самостоятельность западная Россия в борьбе с Польшею. Мы говорили, что Россия дурно защищена природою, открыта с востока, юга и запада, легко доступна вражьим нападениям; но отсутствие резких физических границ заменено для русского народа духовными границами, религиозным различием на востоке и юге, вероисповедным на западе; в этих-то границах крепко держалась русская народность и сохранила свою особность и самостоятельность. Затем русский человек, разумеется, обратил внимание и на другие черты сходства и различия между своими соседями, между народами, с которыми имел дело, и по этим чертам также начал определять свои отношения к ним; он заметил, например, племенное сходство и различие и поставил поляков – литву особо, немцев, т. е. всех западноевропейских народов неславянского происхождения, особо. Заметил и резкое различие между восточным и западным человеком, азиатским и западно-европейским, грубость первого, умелость, образование второго. Особенно поразило русского человека, в противоположность с его собственною бедностью, богатство заморского немца, англичанина, голландца, гамбурца, любчанина, богатство и искусство 115 (досужество): заморский немец привозит товары необходимые, но которых русский человек не умеет делать, у заморских немцев много денег, и, кроме того, они умеют вести свои дела, умеют вести их сообща, умеют сговориться и поставить на своем, тогда как русские люди торгуют каждый отдельно, не умеют сговариваться, помогать друг другу и потому всегда в проигрыше перед немцами, не могут с ними стянуть, как они сами выражаются. Немцы привозят товары дорогие, которые в их земле не родятся, родятся далеко за океаном; но немцы на кораблях своих плавают по всем морям, пристают ко всем землям, покупают дешево, продают дорого и наживают великие барыши. Русский человек присматривается к немцам, которые из них богаче, которые искуснее, и видит, что богаче, искуснее немцы поморские, те, у которых больше кораблей, те, которые плавают и торгуют по всем морям. Отсюда для русского человека представление моря как силы, которая дает богатство, отсюда страстное желание, стремление к морю, чтоб посредством него стать таким же богатым и умелым народом, как народы поморские. Таким образом, богатство и умелость заморских иностранцев, противопоставленные собственной бедности и неразвитости, пробудили в сильном историческом, т. е. способном к развитию народе стремление выйти из своего затруднительного, печального положения, умерить односторонность земледельческого быта промышленным и торговым развитием, средствами указанными, действительность которых очевидна; отсюда движение от востока к западу, от Азии к Европе, от степи к морю. И это движение началось сейчас же, как только восточные варвары ослабели, русские осилили их, могли вздохнуть поспокойнее, оглядеться и заметить сказанное различие между собою и поморскими народами, ибо великий исторический народ пребывать в застое не может, а если древняя Россия нам представляется в застое, то это застой относительный, это только медленность движения в известных сферах вследствие могущественных препятствий, встречаемых народом. Как только татарские ханы перестают подходить к Москве и брать в плен ее князей, сын того князя, который был пленником в Казани, Иоанн III уже заводит сношения с Западной Европой и вызывает 116 тамошних художников, чтобы строить церкви, дворцы и башни в своем Кремле. Внук его Иоанн IV, как только угомонил восточных татар взятием Казани и Астрахани, так сейчас же обращает все свое внимание на запад, хочет непременно добиться до заветного моря. Оттолкнутый от него соединенными усилиями поляков и шведов, Иоанн IV готов отдать всю русскую торговлю в руки англичан, лишь бы только те помогли ему получить хотя одну гавань на Балтийском море; царь Алексей Михайлович делает наивное предложение герцогу Курляндскому, не может ли тот позволить строить в своих гаванях русские корабли: это всего лучше показывает движение и его направление, всего лучше показывает, как мысль о море стала господствующею, неотразимою. Таким образом, русские уже двинулись, и новый путь был определен, движение начинается с XV и XVI века, одновременно, следовательно, с движением западноевропейских народов, с их переходом из одного возраста в другой; но у нас на Востоке это движение шло чрезвычайно медленно вследствие страшных препятствий. Польша и Швеция легли на дороге, загородили море, пробиться было невозможно с теми нестройными массами, какие представляло русское войско, требовавшее для успеха коренного преобразования; на западе загорожена дорога, а восток, степной восток употребляет последние усилия, чтоб удержать свою добычу, свою пленницу – Россию: в то время, как царь Иоанн IV обратил все свое внимание на запад, крымский хан подкрался и сжег Москву, сжег так, что она уже после того не поправлялась. Только при царе Борисе успели решить вопрос, что лучше отправить своих русских за границу учиться, чем вызывать иностранных учителей в Россию, только что распорядились исполнением этого решения, как степи снова всколыхались, явились оттуда казаки с самозванцами и выполнили степную работу опустошения, уравнения, т. е. уравняли все с землею получше татар; долго Россия должна была отдыхать, оправляться после посещения этих проповедников протеста... Из сказанного, надеюсь, ясно, в чем должны были заключаться существенные черты так называемого преобразования, т. е. естественного и необходимого перехода народа из одного возраста в другой. 117 Бедный народ сознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которыми заморские народы были обязаны своим богатством. Следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического, государство земледельческое должно было умерить односторонность своего экономического быта усилением промышленного и торгового движения, и для этого прежде всего добыть себе уголок у северного Средиземного (Балтийско-немецкого) моря, к которому прилила торговая, промышленная и историческая жизнь Европы, отхлынув от берегов древнего южного Средиземного моря. Здесь исполнялся общий закон, по которому шло движение и на Западе. Движение, приготовившее переход западно-европейских народов из одного возраста в другой, из древней истории в новую, началось изменением в их экономическом быте через усиление промышленной, торговой и мореплавательной деятельности. Чем обыкновенно начинают изложение новой истории? Открытиями новых стран и морских путей, и этим открытиям предшествует поднятие города, его чрезвычайное процветание в Италии, этой стране богатых, сильных, властительных городов-республик; с берегами южного Средиземного моря начинают соперничать берега северного Средиземного моря Балтийсконемецкого: здесь поднимаются города ганзейские и нидерландские, в других западно-европейских странах в различной степени, под влиянием различных условий, но повторяется то же явление, деньги, движимое соперничает с землею, недвижимым, золото спорит с мечом, прежде династии основывались мечом, теперь они основываются посредством денег; богатые купцы Медичи основывают династию во Флоренции. Развитие промышленное и торговое ведет к развитию умственному через расширение сферы наблюдения, через усиление жизни международной; научное движение при этом необходимо, и мы видим, что в эпоху великих открытий географических, в эпоху усиления торговой и промышленной деятельности, в странах, наиболее отличающихся этою деятельностью, является и сильная работа мысли над памятниками, оставленными древним греко-римским миром, влиянию 118 которых так подчинились западно-европейские народы и под этим влиянием совершили переход из своей древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли, проще сказать, отдались в ученье грекам и римлянам, прошли школу под их руководством, и эта школа надолго, можно сказать навсегда, оставила глубокие следы, точно так же, как глубокие следы оставляет школа в каждом человеке, способном принимать и переваривать духовную пищу. В этой-то грекоримской школе при возбуждении мысли посредством нее западноевропейские народы прежде всего отнеслись с вопросом и допросом к отношениям, которые были результатом начала, господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства, и следствием этого допроса расправившей свои крылья мысли результатам чувства, следствием столкновения двух начал, делящих между собою историю народов, следствием столкновения мысли и чувства было религиозное протестантское движение, обхватившее всю Западную Европу и поведшее всюду к такой продолжительной и кровавой борьбе. И у нас в России переход из древней истории в новую совершился по общим законам народной жизни, но и с известными особенностями, вследствие различия условий, в которых проходила жизнь нашего и западно-европейских народов. На Западе известное экономическое движение началось давно и шло постепенно, что и не давало ему значения новизны, особенно поражающего внимание, дающего господство явлению; самым сильным и поражающим своею новизною движением было движение в области мысли, в области науки и литературы, перешедшее немедленно в область религиозную, в область церковных и церковно-государственных отношений; здесь новое, протестуя против старого, противопоставляя ему себя, необходимо вызывало борьбу, и борьбу самую сильную, борьбу религиозную, которая делит Европу на два враждебные лагеря. Эта-то борьба и стала на первом плане, отстранив все другие интересы на второй. У нас в России в эпоху преобразования, т. е. при переходе народа из своей древней истории в новую, экономическое движение оставалось на первом плане. 119 По указанным выше неблагоприятным условиям у нас экономическое развитие было задержано, но движение государственной и народной жизни не останавливалось, ибо все яснее и яснее становилось сознание необходимости вывести страну на новый путь, все яснее и яснее становилось сознание средств этого вывода, и как скоро сознание окончательно уяснилось, то народ должен был вдруг ринуться на новую дорогу, ибо разлад между сознанием того, что должно быть, и действительностью возможен у отдельного человека и целого народа только при условии крайне слабой воли, одряхления, но таким не был русский народ в описываемое время. Экономический переворот, как удовлетворяющий главной народной потребности, становился на первый план, и как совершившийся вдруг, тем сильнее давал себя чувствовать; в организме государственном нельзя дотронуться до одного органа, не коснувшись в то же время и других, и вот причина, почему вместе с экономическим преобразованием шло и множество других, но эти последствия находились в служебном отношении к первому. Не забудем и того, что Россия совершила свой переход из древней истории в новую двумя веками позже, чем совершили это западно-европейские народы, следовательно, между этими народами, в общество которых вступил народ русский, многое уже должно было измениться. Действительно, религиозное движение здесь успокоилось, и на первом плане стоял также вопрос экономический. Вспомним, что на Западе это время было время Людовика XIV, который дал Франции первенствующую роль в Западной Европе, но в конце его царствования Франция потеряла первенствующее значение. Это происходило оттого, что вначале знаменитый министр Людовика Кольбер произвел экономическое движение, экономический переворот во Франции, давший королю большие финансовые средства; но потом король позволил себе истощить их. От какой же мысли пошел Кольбер? Морские державы – Голландия и Англия – разбогатели посредством сильного промышленного и торгового движения: чтоб дать Франции возможность разбогатеть наравне с Англиею и Голландиею, надобно сделать ее морскою державою, возбудив в ней сильное промышленное 120 и торговое движение, что и было сделано. Тут, следовательно, Кольбер шел от факта, совершившегося у всех перед глазами, от сравнения положения морских держав с положением континентальных, от верного понимания причин различия в этом положении, ибо не понять было трудно. От того же факта, от того же сравнения пошла и Россия, основное движение преобразовательной эпохи было то же Кольберовское движение, то же стремление привить к земледельческому бедному государству промышленную и торговую деятельность, дать ему море, приобщить его к мореплавательной деятельности богатых государств, дать возможность разделить их громадные барыши. Движение это, как мы видели, так естественно и необходимо, что тут не может быть и мысли о каком-нибудь заимствовании или подражании; Франция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе действовали одинаково по тем же самым побуждениям, по каким два человека, один в Европе, а другой в Азии, чтоб погреться, выходят на солнце, а чтоб избежать солнечного жара, ищут тени. Иоанн IV, бившийся изо всех сил, чтоб утвердиться на морских берегах, не мог подражать Колберу. Но когда Россия вошла в ближайшие сношения с Западною Европою, то было важно, что она нашла здесь то же самое движение, какое сама совершала, нашла ему оправдание. Россия, производившая у себя экономический переворот и сближавшаяся с Западною Европою, застала ее не в религиозной борьбе, совершенно чуждой и бесполезной для России, но в борьбе за средства к обогащению. Но если в нашем преобразовании выставилась так выпукло экономическая сторона, то было бы крайне неосторожно не обратить внимания и на другие стороны, которые рассматриваемое явление должно было иметь по необходимым общим законам. Мы видели, что в Западной Европе при переходе народов из одного возраста в другой мысль, возбужденная знакомством с памятниками древней мысли, древней философии, отнеслась с вопросом и допросом к результатам господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства, откуда произошло сильное религиозное движение, сильная религиозная борьба, разделившая Европу на два враждебных лагеря – католический и протестантский. Мы видели, что часть западно- 121 европейских народов сохраняет и упорно отстаивает старые верования, старые формы церковного строя и утверждается в этом крайностями нового начала, крайностями движения мысли, ее разлагающего, отрицательного движения. После возбуждения вопроса о злоупотреблениях латинской церкви очень скоро возникают учения, стремящиеся нарушить не только церковный, но и общественный строй; разнузданная мысль в своем отрицательном движении пробегает от Лютера до Мюнцера и от Мюнцера до анабаптистов. Такая крайность вызывала противодействие, реакцию со стороны католицизма, которые, в свою очередь, дошли до крайностей, произведя орден иезуитов. Н. Я. Данилевский РОССИЯ И ЕВРОПА (1869) "Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар? Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799-м, в 1805-м в 1807 гг. сражалась русская армия с разным успехом не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а вопреки своим выгодам – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как 122 спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от конечного распадения Австрию, считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так и у народов Европы – всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия – не устают кричать на все лады – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это – одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Ариман, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область – столь же естественную, как например, Франция, только в огромных размерах, – область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами... Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоя- 123 тельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России... В завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья, и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием – в дурном, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое Кельтское государство – и как завоевала! – отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду у Франции, мыс Доброй Надежды у Голландии и т. д. Земель, пустопорожних или заселенных дикими неисторическими племенами, в количестве без малого 300000 квадратных миль я не считаю завоеваниями. Франция отняла у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии – Корсику и Ниццу; за морем покорила Алжир. А сколько было ею завоевано и опять от нее отнято! Пруссия округлила и соединила свои разбросанные члены на счет Польши, на которую не имела никакого права. Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее существование есть уже преступление против права народностей. Испания в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии, покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке... Итак, состав Русского государства, войны, которые оно вело, цели, которые преследовало, а еще более – благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, – все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период, своей истории она боль- 124 шею частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными европейским интересам, – часто даже считала своею обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы? Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия – гасительница света и свободы, темная мрачная сила, политический Ариман, как выразился я выше. У знаменитого Роттека высказана мысль, – которую, не имея под рукой его "Истории", не могу, к сожалению, буквально цитировать, – что всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и т. д., до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать всего этого другим. Если все это очень дурно, тем хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недоброжелателей. Различие в политических принципах еще не может служить препятствием к дружбе правительств и народов. Не была ли Англия постоянным другом Австрии, несмотря на конституционализм одной и абсолютизм другой? Не пользуется ли русское правительство и русский народ симпатиями Америки, и наоборот? Только вредное вмешательство России во внутреннюю политику иностранных государств, давление, которым она препятствовала бы развитию свободы в Европе, могут подлежать ее справедливой критике и возбуждать ее негодование. Посмотрим, чем же его заслужила Россия, чем так провинилась перед Европой? До времен французской революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи 125 быть не могло, потому что между континентом Европы и Россией не существовало тогда никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того, правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых передовых, прогрессивных, как теперь говорится. Под конец своего царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против революции, что наследник ее и сделал. Но если французская революция должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот светильник спешила вся Европа, и впереди всех – конституционная и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем, рукоплескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно, да и не считались войнами против свободы. Эти войны окончились, и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму правления, то была обязана этим единственно императору Александру. Во время войны за независимость многие государства обещали своим подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме опять-таки императора Александра относительно Польши... Если уж гневаться за взаимные советы и за влияние, оказываемое правительством на правительство, то, конечно, Россия имела бы столько же (если не более) права негодовать на Австрию, да и на другие немецкие дворы, как и Германия на Россию. Не влиянию ли Меттерниха приписывается перемена образа мыслей, происшедшая в императоре Александре после 1822 года? Не это ли влияние было причиной немилости Каподистрии, враждебного отношения, принятого относительно Греции и вообще относительно национальной политики, наконец, не это ли влияние было причиной самой перемены в направлении общественного образования во времена Шишкова и Магницкого? А после не в угоду ли Австрии считалась всякая нравственная помощь славянам чуть не за русское государственное преступление? Пусть европейское общественное мнение, если оно хочет быть справедливым, отнесет даже оказанное Россией на германские дела вредное влияние к его настоящему источнику, то есть к германским же правительствам, и в особенности к австрийскому. Нет, не действия 126 Коцебу и все подобные (в сущности, весьма невинного свойства) вмешательства русского правительства в европейские дела объясняют ненависть, которую питают в Европе к России, а самое убийство Коцебу и, главное, то сочувствие, которое оно возбудило, только этой ненавистью и объясняются; причина же ее лежит глубже. Впрочем, тому, что не в антилиберальном вмешательстве России в чужие дела лежит начало и главная причина неприязненных чувств Европы, можно представить доказательство самое строгое, неопровержимое... Вот уже слишком тринадцать лет, как русское правительство совершенно изменило свою систему, совершило акт такого высокого либерализма, что даже совестно применять к нему это опошленное слово; русское дворянство выказало бескорыстие и великодушие, а массы русского народа – умеренность и незлобие беспримерные. С тех пор правительство продолжало действовать все в том же духе. Одна либеральная реформа следовала за другой. На заграничные дела оно не оказывает уже никакого давления. Этого мало, оно употребляет свое влияние в пользу всего либерального. И правительство, и общественное мнение сочувствовали делу Северных Штатов искреннее, чем большая часть Европы. Россия из первых признала Итальянское королевство и даже, как говорят, своим влиянием помешала Германии помогать неправому делу. И что же, переменилась ли хоть на волос Европа в отношении к России? Да, она очень сочувствовала крестьянскому делу, пока надеялась, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты; так же точно, как Англия сочувствовала освобождению американских негров. Мы много видели с ее стороны любви и доброжелательства по случаю польских дел. Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России. Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело идет о защите русской народности, донельзя угнетаемой в западных губерниях, так же точно, впрочем, как в деле босняков, болгар, сербов или черногорцев. Великодушнейший и вместе действительнейший способ умиротворения Польши наделением польских крестьян землей находит ли себе беспристрастных ценителей? Или, может быть, английский способ умиротворения Ирландии выселением вследствие голода предпочтительнее с гуманной точки зрения?... 127 Еще в моде у нас относить все к незнанию Европы, к ее невежеству относительно России. Наша пресса молчит, или, по крайней мере, до недавнего времени молчала, а враги на нас клевещут. Где же бедной Европе знать истину? Она отуманена, сбита с толку. Risum teneatjs, amici, или, по-русски, – курам на смех, друзья мои. Почему же Европа, которая все знает от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, не знает одной только России? Разве это какой-нибудь Гейс-Грейц, Шлейц и Лобенштейн, не стоющий того, чтобы она обратила на него свое просвещенное внимание? Смешны эти оправдания мудрой, как змий, Европы – ее незнанием, наивностью и легковерием, точно будто об институтке дело идет. Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению. Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через их посредничество просветить и заставить прозреть заблуждающееся и ослепленное общественное мнение Европы. Почему и не удовлетворить любопытству доброго человека; только напрасно соединять с этим разные окулистические мечтания. Нечего снимать бельмо тому, кто имеет очи и не видит; нечего лечить от глухоты того, кто имеет уши и не слышит. Просвещение общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным словом может быть очень полезно и в этом отношении, как и во всех других, – только не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя привыкли смотреть чужими глазами, для наших единоплеменников. Для Европы это будет напрасный труд: она и сама без нашей помощи узнает, что захочет, если захочет узнать. Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., – материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде 128 было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которого не растолочь, не размолотить, не растворить, которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, которое имеет и силу и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно – чтобы не сказать невозможно – перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь. Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли еще думать о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли средства хороши? Не это ли проповедуют и иезуиты, и мадзинисты, и старая, и новая Европа? Будет ли Шлезвиг и Голштейн датским или германским, он все-таки останется европейским; произойдет маленькое наклонение в политических весах, стоит ли о том толковать много? Державность Европы от того не потерпит, общественному мнению нечего слишком волноваться, надо быть снисходительным между своими. Склоняются ли весы в пользу Афин или Спарты, не та же ли Греция будет царить? Но как дозволить распространиться влиянию чуждого, враждебного, варварского мира, хотя бы оно распространялось на то, что по всем Божеским и человеческим законам принадлежит этому миру? Не допускать до этого – общее дело всего, что только чувствует себя Европой. Тут можно и турка взять в союзники и даже вручить ему знамя цивилизации. Вот единственное удовлетворительное объяснение той двойственности меры и весов, которыми отмеривает и отвешивает Европа, когда дело идет о России (и не только о России, но вообще о славянах) – и когда оно идет о других странах и народах. Для этой несправедливости, для этой неприязненности Евро- 129 пы к России, которым сравнение 1864 с 1854 годом служит только одним из бесчисленных примеров, сколько бы мы ни искали, мы не найдем причины в тех или других поступках России; вообще не найдем объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет ничего сознательного, в чем бы Европа могла дать себе самой беспристрастный отчет. Причина явления лежит глубже. Она лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры... Это-то бессознательное чувство, этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. Куда девается тут беспристрастие взгляда, которым не обделена, однако же, и Европа, и особливо Германия, когда дело идет о чуждых народностях? Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации. Gemeiner Russe, Bartrusse суть термины величайшего презрения на языке европейца и в особенности немца. Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой национальный облик. Прочтите отзывы путешественников, пользующихся очень большой популярностью за границей, – вы увидите в них симпатию к самоедам, корякам, якутам, татарам, к кому угодно, только не к русскому народу; посмотрите, как ведут себя иностранные управляющие с русскими крестьянами; обратите внимание на отношение приезжающих в Россию матросов к артельщикам и вообще биржевым работникам; прочтите статьи о России в европейских газетах, в которых выражаются мнения и страсти просвещенной части публики; наконец, проследите отношение европейских правительств к России. Вы увидите, что во всех этих разнообразных сферах господствует один и тот же дух неприязни, принимающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения. Явление, касающееся всех сфер жизни, от политических до обыкновенных житейских отношений, распространенное во всех сло- 130 ях общества, притом не имеющее никакого фактического основания, может недриться только в общем инстинктивном сознании той коренной розни, которая лежит в исторических началах и в исторических задачах племен. Одним словом, удовлетворительное объяснение как этой политической несправедливости, так и этой общественной неприязненности можно найти только в том, что Европа признает Россию и славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. Для беспристрастного наблюдателя это неотвержимый факт. Вопрос только в том, основательны ли, справедливы ли такой, отчасти сознательный, взгляд и такое, отчасти инстинктивно бессознательное, чувство, или же оставляют они временный предрассудок, недоразумение, которым суждено бесследно исчезнуть... Когда очертания материков стали хорошо известны, отделение Африки от Европы и Азии действительно подтвердилось; разделение же Азии от Европы оказалось несостоятельным, но такова уже сила привычки, таково уважение к издавна утвердившимся понятиям, что, дабы не нарушить их, стали отыскивать разные граничные черты, вместо того чтоб отбросить оказавшееся несостоятельным деление. Итак, принадлежит ли Россия к Европе? Я уже ответил на этот вопрос. Как угодно, пожалуй – принадлежит, пожалуй – не принадлежит, пожалуй – принадлежит отчасти, и притом насколько кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь смысле, и Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров Азии, вначале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские полуострова, а к оконечности постепенно все более и более дробящийся и расчленяющийся. Неужели же, однако, громкое слово "Европа" – слово без определенного значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно, нет! Смысл его очень полновесен – только он не географический, а культурно-исторический, и в вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе география не имеет ни малейшего значения. Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ на это – самый определенный и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации, ни более ни менее; или, по 131 употребительному метафорическому способу выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова – синонимы. Но германо-романская ли только цивилизация совпадает с значением слова Европа! Не переводится ли оно точнее "общечеловеческой цивилизацией" или, по крайней мере, ее цветом? Не на той же ли европейской почве возрастали цивилизации греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное. То был бассейн Средиземного моря, совершенно независимо от того, где лежали страны этой древней цивилизации – к северу ли, к югу или к востоку: на европейском, африканском или азиатском берегу этого моря. Гомер, в котором, как в зеркале, заключалась вся (имевшая впоследствии развиться) цивилизация Греции, родился, говорят, на малоазиатском берегу Эгейского моря. Этот малоазиатский берег с прилежащими островами был долго главным поприщем эллинской цивилизации. Здесь зародилась не только эпическая поэзия греков, но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), и отсюда они перешли на противоположный берег моря. Главным центром этой цивилизации сделались, правда, потом Афины, но закончилась она и, так сказать, дала плод свой опять не в европейской стране, а в Александрии, в Египте. Значит, древнеэллинская культура, совершая свое развитие, обошла все три так называемые части света – Азию, Европу и Африку, а не составляла исключительной принадлежности Европы. Не в ней она началась, не в ней и закончилась. Греки и римляне, противополагая свои образованные страны странам варварским, включали в первое понятие одинаково и европейские, азиатские и африканские прибрежья Средиземного моря, а ко второму причисляли весь остальной мир – точно так же, как германороманы противополагают Европу, т. е. место своей деятельности, прочим странам. В культурно-историческом смысле то, что для германороманской цивилизации – Европа, тем для цивилизации греческой и римской был весь бассейн Средиземного моря; и, хотя есть страны, которые общи им обеим, несправедливо было бы, однако же думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации вообще 132 или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и только со времени развития этой цивилизации слово "Европа" получило тот смысл и значение, в котором теперь употребляется. Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа. Не составляла она части возобновленной Римской империи Карла Великого, которая составляет как бы общий ствол, через разделение которого образовалось все многоветвистое европейское дерево, не входила в состав той теократической федерации, которая заменила Карлову монархию, не связывалась в одно общее тело феодальноаристократической сетью, которая (как во время Карла, так и во время своего рыцарского цвета) не имела в себе почти ничего национального, а представляла собой учреждение общеевропейское – в полном смысле этого слова. Затем, когда настал новый век и зачался новый порядок вещей, Россия также не участвовала в борьбе с феодальным насилием, которое привело к обеспечениям той формы гражданской свободы, которую выработала эта борьба; не боролась и с гнетом ложной формы христианства (продуктом лжи, гордости и невежества, величающим себя католичеством) и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая называется протестантством. Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного действия схоластики и не вырабатывала той свободы мысли, которая создала новую науку, не жила теми идеалами, которые воплотились в германо-романской форме искусства. Одним словом, она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может она принадлежать к Европе? Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила этой чести и, если хочет заслужить иную, не должна изъявлять претензии на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не знающие ни скромности, ни благо- 133 родной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому и нечему было завидовать. Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву рождения, она принадлежит к ней по праву усыновления; она усвоила себе (или должна стараться усвоить) то, что выработала Европа; она сделалась (или, по крайней мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим родительских чувств Европы в ее отношениях к России; но дело не в этом, а в том – возможно ли вообще такое усыновление? Возможно ли, чтобы организм, столько времени питавшийся своими соками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался сосальцами к другому организму, дал высохнуть своим корням и из самостоятельного растения сделался чужеядным? Если почва тоща, то есть если недостает ей каких-либо необходимых для полного роста составных частей, ее надо удобрить, доставить эти недостающие части, разрыхлить глубокою пахотою те, которые уже в ней есть, чтобы они лучше и легче усвоялись, а не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни. Но об этом после. Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме возможно это усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по рождению, то по усыновлению Россия сделалась Европой; к дичку привит европейский черенок. Какую пользу приносит прививка, тоже увидим после, но на время признаем превращение. В таком случае, конечно, девизом нашим должно быть: Europaeus sum et nihil europaei a me alienum esse puto. Все европейские интересы должны сделаться и русскими. Надо быть последовательным, надо признать европейские желания, европейские стремления – своими желаниями и стремлениями; надо жениться на них, il faut les epouser, как весьма выразительно говорят французы. Будучи Европой, можно, конечно, в том или другом быть не согласным в отдельности с Германией, Францией, Англией, Италией; но с Европой, то есть с самим собой, надо непременно быть согласным, надо отказаться от всего, что Европа – вся Европа – единодушно считает несогласным со своими видами и интересами, 134 надо быть добросовестным, последовательным принятому на себя званию. Какую же роль предоставляет нам Европа на всемирноисторическом театре? Быть носителем и распространителем европейской цивилизации на Востоке – вот она, та возвышенная роль, которая досталась нам в удел, роль, в которой родная Европа будет нам сочувствовать, содействовать своими благословениями, всеми пожеланиями души своей, будет рукоплескать нашим цивилизаторским деяниям, к великому услаждению и умилению наших гуманитарных прогрессистов. С Богом – отправляйтесь на Восток! Но, позвольте, на какой же это Восток? Мы было и думали начать с Турции. Чего же лучше? Там живут наши братья по плоти и по духу, живут в муках и страданиях и ждут избавления; мы подадим им руку помощи, как нам священный долг повелевает. "Куда? Не в свое дело не соваться! – кричит Европа. Это не ваш Восток, и так уже много развелось всякой славянщины, которая мне не по нутру". Сюда направляется благородный немецкий Drang nach dem Osten, no немецкой реке Дунаю. Немцы кое-где умели справиться со славянами, они и здесь получше вашего их объевропеизируют. К тому же Европа, которой так дорог священный принцип национальностей, почла за благо отнять у немцев Италию, бывшую и без них вполне Европой, настоящей, природной, а не усыновленной или привитой какой-нибудь, – почла за нужное дозволить вытеснить Австрию из Германии; надо же чем-нибудь и бедных австрийских немцев вкупе с мадьярами, потешить: пусть себе европеизируют этот Восток, а вы отправляйтесь дальше. Принялись мы также за Кавказ – тоже ведь Восток. Очень маменька гневаться изволили: не трогайте, кричала, рыцарей, паладинов свободы; вам ли браться за такое благородное племя; ну да на этот раз, слава Богу, не послушали, забыли свое европейское призвание. Ну, так в Персии нельзя ли позаняться разбрасыванием семян цивилизации и европеизма? Немцы, пожалуй, и позволили бы: они так далеко своего "дранга" не думают, кажется, простирать; но ведь дело известное – рука руку моет – из уважения к англичанам нельзя. Индию они уже на себя взяли; что и говорить, отлично дело сделают, первого сорта цивилизаторы, на том уже стоят. 135 Нечего их тут по соседству тревожить, отправляйтесь дальше. В Китай, что ли, прикажете? Ни-ни, вовсе незачем туда забираться; чаю надо? – кантонского сколько хотите привезем. Цивилизация, европеизация, как и всякое учительство, недаром ведь делается; и гонорарии кое-какие получаются. Китай – страна богатая, есть, чем заплатить – сами поучим. И успехи, благодаря Бога, старинушка хорошие оказывает – индийский опиум на славу покуривает; не надо вас здесь. Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду написано цивилизировать? Средняя Азия – вот ваше место; всяк сверчок знай свой шесток. Нам ни с какого боку туда не пробраться, да и пожива плохая. Ну так там и есть ваша священная историческая миссия – вот что говорит Европа, а за нею и наши европейцы. Вот та великая роль, которую, сообразно с интересами Европы, нам предоставят; и никакой больше: все остальное разобрано теми, которые почище, как приказывает сказать Хлестакову повар в "Ревизоре". Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить государство в восемьдесят миллионов (из коих шестьдесят – одного роду и племени, чему, кроме Китая, мир не представлял и не представляет другого примера) для того, чтобы потчевать европейской цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще два-три миллиона монгольских кочевников, ибо таков настоящий смысл громкой фразы о распространении цивилизации в глубь Азиатского материка. Вот то великое назначение, та всемирно-историческая роль, которая предстоит России как носительнице европейского просвещения. Нечего сказать: завидная роль, стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу нести, выносить крепостную долю, Петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты... Все политические события, проистекавшие из других сторон европейского развития, не имели прямого отношения к славянам. В вопросе научном, в освобождении мысли от угнетавшего ее авторитета, славяне не принимали деятельного, активного участия. Результаты этого движения идут и должны идти еще в большей степени в пользу славян (как и всех вообще народов), но не иначе как и те результаты, 136 которые достались в наследство от греков и римлян. Вопрос религиозный до огромного большинства славян не касался вовсе; те же, которые были в него, по несчастью, впутаны, имели в нем лишь участие пассивное, были угнетаемы, стесняемы, насильственно лишаемы истины, им всем вначале преподанной. Единственное активное участие славян в религиозной жизни Европы – великое гуситское движение – было направлено к отрешению от европейского понимания веры, было стремлением к возвращению в православие. Вмешательство славянского мира в политическую борьбу Европы было также или невольное, как для народов Австрии, или хотя и вольное, но основанное на недоразумении, как для России. Буря французской революции вызвала продолжительное (и имевшее решительное влияние) участие России. Но с чисто русской и славянской точки зрения можно только пожалеть о громадных усилиях, сделанных Россией для направления в известном смысле этой борьбы, которая, в сущности, так же мало касалась России, как и революция тайпингов в Китае, и не должна была бы вызвать ни так называемых консервативных, ни так называемых прогрессивных инстинктов и симпатий России как к делу, для нее совершенно безразличному. Остается только жалеть, что эти громадные усилия не были (в столь удобное время) обращены на решение вопросов чисто славянских, как Тильзитский мир предоставлял к тому полную возможность. Конечно, так представляется вопрос с чисто славянской точки зрения. Вмешательство России было, конечно, необходимо с общей исторической точки зрения, которой Россия и подчинилась. Как природа, так и история извлекают всевозможные результаты из каждой созданной ими формы. Европе предстояло еще совершить обширный цикл развития, правильности которого преобладание Франции противупоставляло преграды, и Россия была призвана освободить от него Европу. Роль России была, по-видимому, царственная, но, в сущности, это была лишь роль служебная. Теперь Европа, и именно Франция, провозглашает принцип национальности, который не только не имеет большого значения, но даже вреден для нее, и тем отплачивает России и славянству, играя по отношению к ним также служебную роль и воображая, что действует сообразно с своими собственными интересами. 137 Поэтому вопрос о национальностях (начавший теперь занимать первое место в жизни и деятельности родов и связывающий миры романо-германский и славянский) составит самый естественный переход к тем особенностям исторического воспитания, которое получила Россия во время сложения ее государственного строя, к особенностям тех форм зависимости, которым подвергался русский народ при переходе от племенной воли к гражданской свободе, в пользование которой и он начинает вступать. Первый толчок, положивший начало тысячелетнему процессу образования Русского государства, был сообщен славянским племенам, рассеянным по пространству нынешней России, призванием варягов. Самый факт призвания, заменивший для России завоевание, существенно важный для психологической характеристики славянства, в занимающем нас теперь отношении не имеет большого значения. И англосаксы были призваны британцами для защиты их от набегов пиктов и скоттов; со всем тем, однако же, порядок вещей, введенный первыми в Англии, ничем существенным не отличается от того, который был введен в других европейских странах, и призвание в этом случае по своим последствиям было равносильно завоеванию. Это, конечно, могло бы случиться и с русскими славянами, если бы пришельцы, призванные для избавления от внутренних смут, были многочисленнее. Но, по счастью, призванное племя было малочисленно, как это доказывается уже тем, что до сих пор существует возможность спорить о том, кто такие были варяги. Если бы их численность была значительнее, то они не могли бы почти бесследно распуститься в массе славянского народонаселения, так что уже внук Рюрика носит славянское имя, а правнук его, Владимир, сделался в народном понятии типом чисто славянского характера. Если бы и не осталось никаких летописных известий о том, кто были англы, саксы, франки или норманны Вильгельма Завоевателя, то вопрос этот подлежал бы бесспорному решению на основании одного изучения языка и учреждений, в которых отпечатался характер национальностей названных завоевателей. Эта-то малочисленность варягов, даже помимо их призвания, не позволила им внести в Россию того порядка вещей, который в 138 других местах был результатом преобладания народности господствующей над народностью подчиненною. Поэтому варяги послужили только закваскою, дрожжами, пробудившими государственное движение в массе славян, живших еще одною этнографическою, племенною жизнью; но не могли положить основания ни феодализму, ни другой какой-либо форме зависимости одного народа от другого. Между первым толчком, сообщившим государственное направление жизни русским славянам, и между германским завоеванием, положившим начало европейской истории, существует (если мне позволено будет сделать это сравнение) то же отношение, как между оспою прививною и оспою натуральною... При преобладании ... народного племенного начала, как это и было в России, самой государственности предстояла гибель через обращение князей в мелких племенных вождей, без всякой между собою связи; народная воля была бы спасена, но племена не слились бы в один народ под охраною одного государства. Во избежание этого был необходим новый прием государственности, и он был дан России нашествием татар. Сверх призвания варягов, заменившего собою западное завоевание, призвания, которое оказалось слишком слабым, дабы навсегда сообщить государственный характер русской жизни, сказалась надобность в другой форме зависимости – в данничестве. Но и данничество это имело тот же слабый прививной характер, как и варяжское призвание. Когда читаем описания татарского нашествия, оно кажется нам ужасным, сокрушительным. Оно, без сомнения, и было таковым для огромного числа отдельных лиц, терявших от него жизнь, честь, имущество, но для целого народа как существа коллективного и татарское данничество должно почитаться очень легкою формою зависимости. Татарские набеги были тяжелы и опустошительны, но татарская власть была легка сравнительно с примерами данничества, которые представляет нам история (например, сравнительно с данничеством греков и славян в Турции). Степень культуры, образ жизни оседлых русских славян и татарских кочевников были столь различны, что не только смешение между ними, но даже всякая власть последних над первыми не могла глубоко проникать, должна была держаться од- 139 ной поверхности. Этому способствовал характер местности, который дозволил нашим завоевателям сохранить свой привычный и любезный образ жизни в степях задонских и заволжских. Вся эта буря прошла бы даже, может быть, почти бесследно (как без постоянного вреда, так и без постоянной пользы), если бы гений зарождавшейся Москвы не умел приспособиться к обстоятельствам и извлечь всей выгоды из отношений между покорителями и покоренными. Видя невозможность противиться силе и сознавая необходимость предотвратить опустошительные набеги своевременной уплатою дани, покоренные должны были ввести и более строгие формы народной зависимости и по отношению к государству. Дань, подать составляет всегда для народа, не постигающего ее необходимости, эмблему наложенной на него зависимости, главную причину вражды его к государственной власти. Он противится ей, сколько может; нужна сила, чтобы принудить его к уплате. Чтобы оградить себя от излишних поборов, народ требует представительства в той или другой форме, ожидая, что, разделяя его интересы, она не разрешит никакого побора, который не оправдался бы самою существенною необходимостью. Московские князья имели ту выгоду на своей стороне, что вся ненавистная сторона мытарства падала на орду, – орда же составляла ту силу, которая одною угрозою заставляла народ платить дань. Москва являлась если не избавительницею, то облегчительницею той тягости, которую заставляло нести народ иноплеменное иго. Кроме самого понятия о государственной власти (коренящегося в духе славянских народов), в этом посредничестве московских князей, избавлявших народ от прямого отношения к татарам, кроется, без сомнения, то полное доверенности и любви чувство, которое русский народ сохраняет к своим государям. Таким образом, московские князья, а потом цари совместили в себе всю полноту власти, которую завоевание вручило татарам, оставив на долю этих последних то, что всякая власть заключает в себе тягостного для народа – особенно для народа, не привыкшего еще к гражданскому порядку и сохранившего все предания племенной воли. Московские государи, так сказать, играли роль матери семейства, которая хотя и настаивает на исполнении воли строгого отца, но вместе с тем избавляет 140 от его гнева, и потому столько же пользуется авторитетом власти над своими детьми, сколько и нежною их любовью... Духовное и политическое здоровье характеризуют русский народ и русское государство, между тем как Европа – в духовном отношении – изжила уже то узкое религиозное понятие, которым она заменила вселенскую истину и достигла геркулесовых столбов, откуда надо пуститься или в безбрежный океан отрицания и сомнения, или возвратиться к светоносному Востоку; в политическом же отношении – дошла до непримиримого противоречия между требованиями выработанной всею ее жизнью личной свободы и сохраняющим на себе печать завоевания распределением собственности. Если, однако, мы вглядимся в русскую жизнь, то скоро увидим, что и ее здоровье – неполное. Она не страдает, правда, неизлечимыми органическими недугами, из которых нет другого исхода, как этнографическое разложение; но одержима, однако же, весьма серьезною болезнью, которая также может сделаться гибельною, постоянно истощая организм, лишая его производительных сил. Болезнь эта тем более ужасна, что (подобно собачьей старости) придает вид дряхлости молодому облику полного жизни русского общественного тела и угрожает ему если не смертью, то худшим смерти – бесплодным и бессильным существованием. Кроме трех фазисов развития государственности, которые перенес русский народ и которые, будучи, в сущности, легкими, вели к устройству и упрочению Русского государства, не лишив народа ни одного из условий, необходимых для пользования гражданскою свободою, как полной заменой племенной воли, – Россия должна была вынести еще тяжелую операцию, известную под именем Петровской реформы. В то время цивилизация Европы начала уже в значительной степени получать практический характер, вследствие которого различные открытия и изобретения, сделанные ею в области наук и промышленности, получили применение к ее государственному и гражданскому строю. Невежественный, чисто земледельческий Рим, вступив в борьбу с торговым, промышленным и несравненно его просвещеннейшим Карфагеном, мог, с единственной помощью патриотизма 141 и преданности общему благу, с самого начала победоносно сразиться с ним даже на море, составлявшем до того времени совершенно чуждый Риму элемент. Так просты были в то время те средства, которые употребляли государства в борьбе не только на сухом пути, но даже и на море. Но уже в начале XVII века и даже ранее никакая преданность отечеству, никакой патриотизм не могли уже заменить собою тех технических усовершенствований, которые сделали из кораблестроения, мореплавания, артиллерии, фортификации и т. д. настоящие науки, и притом – весьма сложные. С другой стороны, потребности государственной обороны, сделавшись столь сложными, по необходимости требовали для своей успешности особого класса людей, всецело преданных военным целям; содержание же этого многочисленного класса требовало стольких издержек, что без усиленного развития промышленности у государства не хватило бы средств для его содержания. Следовательно, самая существенная цель государства (охрана народности от внешних врагов) требовала уже в известной степени технического образования – степени, которая с тех пор, особливо со второй четверти XIX века, не переставала возрастать в сильной пропорции. К началу XVIII века Россия почти окончила уже победоносную борьбу со своими восточными соседями. Дух русского народа, пробужденный событиями, под водительством двух приснопамятных людей: Минина и Хмельницкого, одержал также победу над изменившей народным славянским началам польской шляхтою, хотевшей принудить и русский народ к той же измене. Не в далеком будущем предстояла, без сомнения, борьба с теми или другими народами Европы, которые со свойственными всем сильным историческим деятелям предприимчивостью и честолюбием, всегда стремились расширить свою власть и влияние во все стороны – как через моря на Запад, так и на Восток. Drang nach Osten выдуман не со вчерашнего дня. Для этой несомненно предстоящей борьбы необходимо было укрепить русскую государственность заимствованиями из культурных сокровищ, добытых западной наукой и промышленностью, заимствованиями быстрыми, не терпящими отлагательства до того времени, когда Россия, следуя медленному естественному процессу просвещения, основан- 142 ному на самородных началах, успела бы сама доработаться до необходимых государству практических результатов просвещения. Петр сознал ясно эту необходимость, но (как большая часть великих исторических деятелей) он действовал не по спокойно обдуманному плану, а со страстностью и увлечением. Познакомившись с Европою, он, так сказать, влюбился в нее и захотел во что бы то ни стало сделать Россию Европой. Видя плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превосходстве самого растения, их приносившего, над русским еще бесплодным дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для дичка может быть еще не пришло время плодоношения) и потому захотел срубить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен в предметах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им идеи. Можно, не переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить каждый камень, каждый кирпич, из которых он построен, другими кирпичами или камнями; но по отношению к живому, образовавшемуся под влиянием внутреннего самобытного образовательного начала, такие замещения невозможны: они могут только его искалечить. Если Европа внушала Петру страстную любовь, страстное увлечение, то к России относился он двояко. Он вместе и любил, и ненавидел ее. Любил он в ней собственно ее силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже сознавал, – любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образу и подобию зародившейся в нем идеи, под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни – самую жизнь эту как с ее недостатками, так и с ее достоинствами. Если бы он не ненавидел ее со всей страстностью своей души, то обходился бы с нею осторожнее, бережнее, любовнее. Потому в деятельности Петра необходимо строго отличать две стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную в тесном смысле этого слова, т. е. изменения в быте, нравах, обычаях и понятиях, которые он старался произвести в русском народе. Первая деятельность заслуживает вечной признательной, 143 благоговейной памяти и благословения потомства. Как ни тяжелы были для современников его рекрутские наборы (которыми он не только пополнял свои войска, но строил города и заселял страны), введенная им безжалостная финансовая система, монополии, усиление крепостного права, одним словом, запряжение всего народа в государственное тягло, – всем этим заслужил он себе имя Великого – имя основателя русского государственного величия. Но деятельностью второго рода он не только принес величайший вред будущности России (вред, который так глубоко пустил свои корни, что досель еще разъедает русское народное тело), он даже совершенно бесполезно затруднил свое собственное дело; возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою задачу, сам устроил себе препятствия, на поборение которых должен был употреблять огромную долю той необыкновенной энергии, которою был одарен и которая, конечно, могла бы быть употреблена с большею пользою. К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажать язык, вводить в жизнь придворную и высшего общества иностранный этикет, менять летосчисление, стеснять свободу духовенства? К чему ставить иностранные формы жизни на первое, почетное, место и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, как говорилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание?... Как бы то ни было, русская жизнь была насильственно перевернута на иностранный лад. Сначала это удалось только относительно верхних слоев общества, на которые действие правительства сильнее и прямее и которые вообще везде и всегда податливее на разные соблазны. Но мало-помалу это искажение русской жизни стало распространяться и вширь и вглубь, т. е. расходиться от высших классов на занимающие более скромное место в общественной иерархии, и с наружности – проникать в самый строй чувств и мыслей, подвергшихся обезнародовающей реформе. После Петра наступили царствования, в которых правящие государством лица относились к России уже не с двойственным характером ненависти и любви, а с одною лишь нена- 144 вистью, с одним презрением, которым так богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко всему русскому. После этого тяжелого периода долго еще продолжались, да и до сих пор продолжаются еще, колебания между предпочтением то русскому, как при Екатерине Великой, то иностранному, как при Петре III или Павле. Но под влиянием толчка, сообщенного Петром, самое понятие об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной политики (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало. Говоря это, я разумею вовсе не одно правительство, а все общественное настроение, которое, электризуясь от времени до времени русскими патриотическими чувствами, все более и более, однако же, обезнародовалось под влиянием европейских соблазнов и принимало какой-то общеевропейский колорит то с преобладанием французских, то немецких, то английских колеров, смотря по обстоятельствам времени и по слоям и кружкам, на которые разбивается общество. Болезнь эту, вот уже полтора столетия заразившую Россию, все расширяющуюся и укореняющуюся и только в последнее время показавшую некоторые признаки облегчения, приличнее всего, кажется мне, назвать европейничаньем; и коренной вопрос, от решения которого зависит вся будущность, вся судьба не только России, но и всего славянства, заключается в том, будет ли эта болезнь иметь такой доброкачественный характер, которым отличались и внесение государственности иноплеменниками русским славянам, и татарское данничество, и русская форма феодализма; окажется ли эта болезнь прививною, которая, подвергнув организм благодетельному перевороту, излечится, не оставив за собою вредных неизгладимых следов, подтачивающих самую основу народной жизненности. Сначала рассмотрим симптомы этой болезни, по крайней мере, главнейшие из них, а потом уже оглянемся кругом, чтобы посмотреть – не приготовлено ли и для нее лекарства, не положена ли уже секира у корня ее. Все формы европейничанья, которыми так богата русская жизнь, могут быть подведены под следующие три разряда. 145 Искажение народного быта и замена форм его формами чуждыми, иностранными искажение и замен, которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев общества – и не проникать все глубже и глубже. Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на русскую почву – с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо. Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы русской жизни с иностранной, европейской точки зрения, рассматривание их в европейские очки, так сказать в стекла, поляризованные под европейским углом наклонения, причем нередко то, что должно бы нам казаться окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным мраком и темнотою, и наоборот... Изменив народным формам быта, мы лишились, далее, самобытности в промышленности. У нас идут жаркие споры о свободе торговли и о покровительстве промышленности. Всеми своими убеждениями я придерживаюсь этого последнего учения, потому что самобытность политическая, культурная, промышленная составляет тот идеал, к которому должен стремиться каждый исторический народ, а где недостижима самобытность, там, по крайней мере, должно охранять независимость. Со всем тем нельзя не согласиться, что поддержание этой независимости в чем бы то ни было искусственными средствами есть уже явление печальное; и к этим искусственным средствам не было бы надобности прибегать, если бы формы нашего быта, по потребностям которого должна удовлетворять, между прочим, и промышленность, сохранили свою самостоятельность... Но когда промышленность лишается этого характера вследствие искажения быта по чужеземным образцам, то ничего не остается, как ограждать, по крайней мере, ее независимость посредством покровительства... Вследствие изменения форм быта русский народ раскололся на два слоя, которые отличаются между собою с первого взгляда по самой своей наружности. Низший слой остался русским, высший сделался европейским – европейским до неотличимости. Но высшее, более богатое и образованное, сословие всегда имеет притягательное 146 влияние на низшие, которые невольно стремятся с ним сообразоваться, уподобиться ему, сколько возможно. Поэтому в понятии народа невольно слагается представление, что свое русское есть (по самому существу своему) нечто худшее, низшее. Всякому случалось я думаю, слышать выражения, в которых с эпитетом русский соединялось понятие низшего, худшего: русская лошаденка, русская овца, русская курица, русское кушанье, русская песня, русская сказка, русская одежда и т. д. Все, чему придается это название русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не стоящим внимания людей более богатых или образованных. Неужели такое понятие не должно вести к унижению народного духа, к подавлению чувства народного достоинства?... А между тем это самоунижение, очевидно, коренится в том обстоятельстве, что все, выходящее (по образованию, богатству, общественному положению) из рядов массы, сейчас же рядится в чужеземную обстановку. Но унижение народного духа, проистекающее из такого раздвоения народа в самой наружной его обстановке, составляет, может быть, еще меньшее зло, чем недоверчивость, порождаемая в народе, сохранившем самобытные формы жизни, к той части его, которая им изменила... Россия самыми размерами своими составляет уже аномалию в германо-романско-европейском мире; и одно естественное увеличение роста ее народонаселения должно все более и более усиливать эту аномалию. Одним существованием своим Россия уже нарушает систему европейского равновесия. Ни одно государство не может отважиться воевать с Россией один на один, как это всего лучше доказывается Восточною войною, когда четыре государства, при помощи еще Австрии, более чем наполовину принявшей враждебное отношение к России, при самых невыгодных для нас, при самых выгодных для себя условиях, должны были употребить целый год на осаду одной приморской крепости, и это не вследствие присутствия на русской стороне какого-нибудь Фридриха, Суворова или Наполеона, а просто вследствие громадных средств России и несокрушимости духа ее защитников. 147 Нельзя не сознаться, что Россия слишком велика и могущественна, чтобы быть только одною из великих европейских держав; и если она могла занимать эту роль вот уже семьдесят лет, то не иначе как скорчиваясь, съеживаясь, не давая простора своим естественным стремлениям, отклоняясь от совершения своих судеб. И это умаление себя должно идти все в возрастающей прогрессии по мере естественного развития сил, так как по самой сущности дела экспансивная сила России гораздо больше, чем у государств Европы, и несоразмерность ее с требованиями политики равновесия должна необходимо выказываться все в сильнейшем и сильнейшем свете... Однако же при соседстве с Европою, при граничной линии, соприкасающейся с Европой на тысячи верст, совершенная отдельность России от Европы немыслима; такой отдельности не могли сохранить даже Китай и Япония, отделенные от Европы диаметром земного шара. В какие-нибудь определенные отношения к ней должна же она стать. Если она не может и не должна быть в интимной, родственной связи с Европой как член европейского семейства, в которое, по свидетельству долговременного опыта, ее и не принимают даже, требуя невозможного отречения от ее очевиднейших прав, здравых интересов, естественных симпатий и священных обязанностей; если, с другой стороны, она не хочет стать в положение подчиненности к Европе, перестроясь сообразно ее желаниям, выполнив все эти унизительные требования, – ей ничего не остается как войти в свою настоящую, этнографическими и историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому европейскому государству, а Европе вообще, в ее целости и общности. Но для этого, как ни велика и ни могущественна Россия, она все еще слишком слаба. Ей необходимо уменьшить силы враждебной стороны, выделив из числа врагов тех, которые могут быть ее врагами только поневоле, и переведя их на свою сторону как друзей. Удел России – удел счастливый: для увеличения своего могущества ей приходится не покорять, не угнетать, как всем представителям силы, жившим доселе на нашей земле: Македонии, Риму, арабам, монголам, государствам германо-романского мира, – а освобождать и восстанав- 148 ливать; и в этом дивном, едва ли не единственном совпадении нравственных побуждений и обязанностей с политическою выгодою и необходимостью нельзя не видеть залога исполнения ее великих судеб, если только мир наш не жалкое сцепление случайностей, а отражение высшего разума, правды и благости. Не надо себя обманывать. Враждебность Европы слишком очевидна: она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных ее интересах. Внутренние счеты ее не покончены. Бывшие в ней зародыши внутренней борьбы развились именно в недавнее время; но весьма вероятно, что они из числа последних: с уважением их или даже с несколько продолжительным умиротворением их, Европа опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным прирожденным врагом. Если Россия не поймет своего назначения, ее неминуемо постигнет участь всего устарелого, лишнего, ненужного. Постепенно умаляясь в своей исторической роли, ей придется склонить голову перед требованиями Европы... Будучи чужда европейскому миру по своему внутреннему складу, будучи, кроме того, слишком сильна и могущественна, чтобы занимать место одного из членов европейской семьи, быть одною из великих европейских держав, – Россия не иначе может занять достойное себя и Славянства место в истории, как став главою особой, самостоятельной политической системы государств и служа противувесом Европе во всей ее общности и целости. Вот выгоды, польза, смысл Всеславянского союза по отношению к России. Ф. М. Достоевский ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (1873) Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и 149 только лишь сильно и верно чувствуются, до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными. Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно – может быть иначе. Короче, этим словом "несчастные" народ как бы говорит "несчастным": "Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь о нас, и мы о вас молимся. А пока берите, "несчастные", гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей". Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о "среде": "Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе". Вот и в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым 150 преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в "среду"; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. "Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше". Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ. Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он "несчастный", сочтет себя только несчастным, и не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере... Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струят проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы – народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и ни- 151 когда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собой. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов, всегда зовет "караул". Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет "караул", что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не "генерал", а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тутто вот и доходит до краю, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою... Нам во что бы то ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит – гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие... 152 Мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению – обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно. Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже много видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по-моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно. Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какой-нибудь всесожигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и многомного что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообрази- 153 те наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, – взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение... Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну и на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним сло- 154 вом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники – это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни души, ни здравого смысла, ни терпения, ни уменья; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, и тотчас же закричат они дружным хором, что все наши мечты о народной самостоятельности – один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью. Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? Это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути тре- 155 бовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение – дешевку и жида. Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке... Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? Ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе, как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общиною, а жиды и кулаки будут выплачивать за них бюджет. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных им нищих рабов – вот картина! Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать. Ф. М. Достоевский ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (1877) В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации. Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, с краю Европы – идея католическая, осужденная, ждущая в великих муках и 156 недоумениях: быть ей иль не быть, жить ей еще или пришел ей конец. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю идею католическую, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение католической идеи в продолжение веков, глава этой идеи, унаследованной, конечно, еще от римлян, и в их духе. Эта Франция, даже и потерявшая теперь, почти вся, всякую религию (иезуиты и атеисты тут все равно, все одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого бога, эта Франция, развившая из идей 89 года свой особенный французский социализм, то есть успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне Христа, как хотело да не сумело устроить его во Христе католичество, – эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих – все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело... Самый теперешний социализм французский, по-видимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его, – самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человечества – идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом, идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, и букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его. С другой стороны, восстает старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже девятнадцать веков, против Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, против мировой 157 его мысли владеть человеком на всей земле, и нравственно и материально, против цивилизации его. Это – германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической... Верит он этому гордо и неуклонно: верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть чтонибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все девятнадцать веков своего существования Германия, только и делавшая что протестовавшая, сама своего нового слова совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего так, что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, не будет против чего протестовать. Пусть это покамест моя химера, но зато Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь отрицательная, и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится. Но это, положим, пока еще моя химера. Идею славянскую германец презирает так же, как и католическую, с тою только розницею, что последнюю он всегда ценил как сильного и могущественного врага, а славянскую идею не только ни во что не ценил, но и не признавал ее даже вовсе до самой последней минуты. Но с недавних пор он уже начинает коситься на славян весьма подозрительно. Хоть ему и до сих пор смешно предположить, что у них могут быть тоже какие-нибудь цель и идея, какая-то там надежда тоже "сказать что-то миру", но, однако же, с самого разгрома Франции мнительные подозрения его усилились, а прошлогодние и текущие события, уж конечно, не могли облегчить его недоверчивости. Теперь положение Германии несколько хлопотливое: во всяком случае и 158 прежде всяких восточных идей ей надо кончить свое дело на Западе. Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не беспокоит и не беспокоила германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил ее. В семьдесят пятом году это беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные обстоятельства. Теперь же, в этом году, сомнения нет, что Франция, усиливающаяся материально с каждым годом, еще страшнее пугает Германию, чем два года назад. Германия знает, что враг не умрет без борьбы, мало того, когда почувствует, что оправился совершенно, то сам задаст битву, так что через три года, через пять лет, может быть, будет уже очень поздно для Германии. И вот, ввиду того, что Восток Европы так всецело проникнут своей собственной, вдруг восставшей, идеей и что у него слишком много теперь дела у себя самого – ввиду того весьма и весьма может случиться, что Германия, почувствовав свои руки на время развязанными, бросится на западного врага окончательно, на страшный кошмар, ее мучающий, и все это даже может случиться в слишком и слишком недалеком будущем. Вообще же можно так сказать, что если на Востоке дела натянуты, тяжелы, то чуть ли Германия не в худшем еще положении. И чуть ли у ней еще не более опасений и всяких страхов ввиду, несмотря на весь ее непомерно гордый тон, – и это по крайней мере нам можно взять в особенное внимание. А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея – идея славянская, идея нарождающаяся, может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы. Всем ясно теперь, что с разрешением Восточного вопроса вдвинется в человечество новый элемент, новая стихия, которая лежала до сих пор пассивно и косно и которая, во всяком случае и наименее говоря, не может не повлиять на мировые судьбы чрезвычайно сильно и решительно. Что это за идея, что несет с собою единение славян? – все это еще слишком неопределенно, но что действительно что-то должно быть внесено и сказано новое – в этом почти уже никто не сомневается. И все эти три 159 огромные мировые идеи сошлись, в развязке своей, почти в одно время. Все это, уж конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наследство или из-за пререканий каких-нибудь двух высоких дам, как в прошлом столетии. Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не решающее все судьбы человеческие, но, без сомнения, несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества – начало разрешения дальнейших судеб его, которые в руках божьих и в которых человек почти ничего угадать не может, хотя и может предчувствовать. Теперь вопрос, невольно представляющийся всякому мыслящему человеку: могут ли такие события остановиться в своем течении? Могут ли идеи такого размера подчиняться мелким, жидовствующим, третьестепенным соображениям? Можно ли отдалить их разрешение и полезно это или нет, наконец? Мудрость, без сомнения, должна хранить и ограждать нации и служить человеколюбию и человечеству, но иные идеи имеют свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, – это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Последнее, конечно, неоспоримо, но идею народную не только не понимают, но и не хотяг совсем понять "ободнявшие Петры наши"... В этой невозможности расшатать колосс – вся наша сила перед Европой, где все теперь чуть не сплошь боятся, что расшатается их старое здание и обрушатся на них потолки. Колосс этот есть народ наш. И начало теперешней народной войны, и все недавние предшествовавшие ей обстоятельства показали лишь наглядно всем, кто смотреть умеет, всю народную целость и свежесть нашу и до какой степени не коснулось народных сил наших то растление, которое загноило мудрецов наших. И какую услугу оказали нам эти мудрецы перед Европой! Они так недавно еще кричали на весь мир, что мы бедны и ничтожны, они насмешливо уверяли всех, что духа народного нет у нас вовсе, потому что и народа нет вовсе, потому что и народ наш и дух его изобретены лишь фантазиями доморощенных московских мечта- 160 телей, что восемьдесят миллионов мужиков русских суть всего только миллионы косных пьяных податных единиц, что никакого соединения царя с народом нет, что это лишь в прописях, что все, напротив, расшатано и проедено нигилизмом, что солдаты наши бросят ружья и побегут как бараны, что у нас нет ни патронов, ни провианта и что мы, в заключение, сами видим, что расхрабрились и зарвались не в меру и изо всех сил ждем только предлога, как бы отступить без последней степени позорных пощечин, которых "даже и нам уже нельзя выносить", и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа. Вот в чем клялись мудрецы наши, и что же: на них почти и сердиться нельзя, это их взгляд и понятия, кровные взгляд и понятия... Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих "христиан"... Но бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главноето и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим! Вот только это и проглядели они!.. В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России! Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже, что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от "спокойствия" своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас не победят ни жиды всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле... 161 Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский действительно дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России – началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих и то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежит в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этомуто отделу убежденных и верующих принадлежу и я... Весною поднялась наша великая война для великого подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик, цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена против нашего коварства, должна не верить тому, о чем объявили мы ей, начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с врагом нашим хотя и не явным, не формальным политическим союзом – враждовать с нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И все, конечно, от объявленных намерений и целей наших! "Великий восточный орел взлетел над 162 миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства"; не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забитых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель ведь эта, эта самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа! И поверьте, что не столько пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство "отставшей, зверской и непросвещенной" нации, способной на низость и глупость затеять в наш век что-то вроде преждебывших в темные века крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия... Столкновение с Европой – не то что с турками, и должно совершиться не одним мечом, так всегда понимали верующие. Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас-то понимают ли все его? Вот мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братьи, без боя и без крови, без ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а и услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это верим, но, однако, что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что все это лишь иступленные гадания, конвульсьонерство, бешеные мечты, 163 припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших пророчеств! Освобождение ли крестьян – факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, все яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его веками, и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят, что все эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бешеная мечта, а не факты и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказательством ничему, покамест, служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы – сталкиваемся с Европой! Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дороги нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы – эта самая Европа, эта "страна святых чудес"! Знаете ли вы, как дороги нам эти "чудеса" и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна – будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне мы всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, все еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, повидимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей понятно и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося "нового слова" она долго, слишком долго еще не пой- 164 мет. Ей надо фактов теперь понятных, понятных на ее теперешний взгляд. Она спросит нас: "Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где ваша наука, ваше искусство, ваша литература?... В Пушкине две главные мысли – и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль – всемирность России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена им на деле, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления ("Пир во время чумы"), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может перевоплощаться в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все противоречия их. Исмаил Бей Гаспринский (Гаспралы) РУССКОЕ МУСУЛЬМАНСТВО. МЫСЛИ, ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА (1881) 500 лет назад на Куликовом поле бесповоротно был решен судьбою и историей вопрос о подчиненности северного и восточного мусульманства, а в частности тюрко-татарского племени, племени русскому. После вековых испытаний и борьбы, возмужавший и окрепший русский дух сломил наконец грозную, своеобразную власть татар, и с того момента шаг за шагом русская сила и власть надвигаются в недра Татарии, и разрозненные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной, составной частью. Так 165 одно за другим, в моменты исторической необходимости, вошли в состав растущей Руси – царства Рязанское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское, далее ханства Закавказья и в последнее время некоторые ханства Средней Азии, где, по нашему мнению, Россия еще не достигла своих исторических, естественных границ. Мы думаем, что рано или поздно границы Руси заключат в себе все тюркотатарские племена и в силу вещей, несмотря на временные остановки, должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар в Азии. Граница, черта разделяющая Туркмению и Среднюю Азию на две части – русскую и нерусскую – может быть политически необходима в настоящее время, но она неестественна, пока не обхватят все татарские племена Азии... Эти племена испокон веков живут в известном, резко очерченном районе Азии и, заключенные в естественные, географические правильные границы, могли защищать свои поселения, земли и царства от вторжения и завоеваний чуждых соседей – персов, афганцев и монголо-китайцев. История Средней Азии и Тюрко-татар – ряд нескончаемой борьбы элемента тюркотатарского с окружающими... При даровитых, воинственных ханах тюрко-татары сплачивались и переходили свои географические, естественные границы, громя соседей, чтобы вскоре опять успокоиться, как расходившееся море, и войти в свои исторические рамки в форме снеговых гор, непроходимых плоскогорий и пустынь. Вот почему мне кажется, что, пока русские границы, как наследие татар, не дойдут до исторических, естественных пределов их поселений, они не могут, быть прочны. Таким образом, мне кажется, что в будущем, быть может, недалеком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы. Впрочем, не предрешая вовсе вопроса о дальнейшем направлении и расширении азиатских границ, мы желаем лишь указать на тот факт, что уже ныне в руках России находится до десяти миллионов тюрко-татарскогр племени, исповедующих одну и ту же религию, говорящих наречиями одного и того же языка и имеющих один и тот же социально-общественный быт, одни и те же традиции. 166 Племя это разбросано на громадных пространствах Европейской и Азиатской России и во многих местах смешано с русским или иным населением. Однако, имея особые и прочные религиознобытовые условия жизни, оно представляется нам довольно крупной единицей среди народностей нашего обширного отечества, и судьбы ее заслуживают, мне кажется, серьезного внимания общества и государства... Русские мусульмане по законам нашего отечества пользуются, равными правами с коренными русскими и даже в некоторых случаях, во уважение их общественного и религиозного быта, имеют кое-какие преимущества и льготы. Наблюдения и путешествия убедили меня, что ни один народ так гуманно и чистосердечно не относится к покоренному, вообще чуждому племени, как наши старшие братья, русские. Русский человек и простого, и интеллигентного класса смотрит на всех, живущих с ним под одним законом, как на "своих", не выказывая, не имея узкого племенного себялюбия. Мне приходилось видеть, как арабы и индусы были в неловком положении среди высокообразованного парижского и лондонского общества, несмотря на всю изысканную деликатность обращения с ними, а может быть и благодаря ей. Сыны Азии как бы чувствовали в отношениях к себе деланность, натяжку и обидное снисхождение. Это мне доказывали многие арабы, алжирские выходцы, служащие или торгующие во Франции. Эту черту племенной гордости или самомнения я наблюдал и у турок, у которых, за отсутствием европейской галантности, она выступает рельефнее... Слава Богу, не то приходится видеть у русских. Служащий или образованный мусульманин, принятый в интеллигентном обществе, торговец в среде русского купечества, простой извозчик, официант в кругу простого люда – чувствуют себя одинаково хорошо и привольно, как сами русские, не тяготясь ни своим происхождением, ни отношением русского общества, так что образованные мусульмане, имевшие случай знакомиться с разными европейскими обществами наиболее близко, искренне сходятся с русскими людьми. Это не более, как следствие едва уловимого качества русского национального ха- 167 рактера, качества, которое, я уверен, весьма важно для будущности русских и живущих с ними племен. Мне приходилось читать, а чаще слышать упреки, что, мол, русские в массе почти лишены племенного, национального самосознания. Подобный упрек едва ли имеет место, потому что в отечественную войну и много ранее того, в тяжелые годины народной жизни, русские доказали, что сознают свое бытие и национальную личность, если можно так выразиться. Что же касается того, что русские то или иное событие встречают и провожают без шуму и треску, то это – народная особенность, и , думаю, черта хорошая... A propos ко дню Куликовской битвы – два слова по истории. Известно, что день этот служит гранью, с которой начинается возрождение Руси и, обратно, постепенное падение татарского владычества. Об этом владычестве мне приходилось кое-что читать и слышать, и мне всегда казалось, что тут что-то как бы недописано или недосказано. Обыкновенно говорят: татарское господство причинило Руси неисчислимые бедствия, задержало цивилизацию на несколько столетий. Это совершенно верно; но я думаю, что столь продолжительное господство над Русью какого-либо другого племени, при той же силе и могуществе, могло бы совершенно уничтожить Русь. Примеры этому мы видим на западных окраинах славянства. Татары, как господа, собирали дань; как дети Азии, частенько похищали хорошеньких девушек, и затем бытовой, религиозной жизни Руси почти вовсе не касались... мне кажется, что говоря о татарском господстве, следует подумать о том, что оно, может быть, охраняло Русь от более сильных тонко рассчитанных чужеземных влияний и своеобразным характером своим способствовало к выработке идеи единства Руси, воплотившейся в первый раз на Куликовом поле... Если, действительно, в этом смысле мы, татары, сколько-нибудь были полезны Руси, то "долг платежем красен", и мы желали бы, чтобы этот платеж был произведен уже не старой азиатской, а новой европейской монетой, т. е. распространением среди нас европейской науки и знаний вообще, а не простым господством и собиранием податей. Правда, до сих пор сами русские учились, но ныне они могут быть нашими учителями и наставниками. 168 Исмаил Бей Гаспринский (Гаспралы) РУССКО-ВОСТОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЫСЛИ ЗАМЕТКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО (1896) Бросив взгляд на карту восточного полушария, мы увидим, что мусульманские страны и Россия пограничны на громадных протяжениях и имеют общие моря: Каспийское и Черное. Русскомусульманский мир, позвольте мне так выразиться, раскинулся с берегов Северного Ледовитого океана до глубин заэкваториальной Африки в одном и от границ Балтики и Адриатики до китайской стены и морей Индо-Китая – в другом направлении. На Востоке до России и мусульманских земель живет и копошится монголоязычный мир в 500-600 миллионов душ, а на Западе кипит и бурлит могучая жизнь 250 миллионов европейцев. Таким образом, залегая между европейскими и монгольскими мирами, русско-мусульманский мир находится в центральных частях полушария, на перекрестках всех дорог и сношений торговых, культурных, политических и боевых. Оба соседние им мира – европейский и монгольский – переполнены, и излишки их вынуждены искать более свободных земель, коими как раз богаты местности, занятые русскими и мусульманами. Японцы и китайцы, благодаря удобству морских сообщений, уже теперь наводняют своими излишками острова Великого океана и юговосток Азии. Америка борется против наплыва их мерами "запрета". Как только паровое сообщение сократит сухопутные расстояния Китайской империи, то можно ожидать, что сначала эмиграция, а затем и политические виды по необходимости обратятся на Запад, угрожая русско-мусульманскому миру... С Запада на мусульманско-русский мир надвигается Европа. Пока редкие точки ее – немецкие колонии, разбросанные по всему югу России и попадающиеся уже в пределах Турции, не исключая Палестины, есть первое указание на грядущее и, может, не очень отдаленное движение по необходимости "на земли более или менее пространные". В сфере политической это стремление Запада видно совершенно ясно и рельефно. Презрение... и противодействие ей в последние два века не что иное, как следствие необходимости движения Европы на Восток. Этим же отчасти сознательным, 169 отчасти инстинктивным стремлением объясняется политика Европы, начиная с борьбы Карла XII с Петром Великим и кончая последними беспорядками в Армении, столь раздутыми англичанами. Занятие польских земель – германцами, захваты Алжира и Туниса – французами, Боснии и Герцеговины – австрийцами, Кипра и Египта – англичанами и берегов Абиссинии – итальянцами не суть ли видимые признаки этого движения на Восток? Этого мало – Европа в лице англичан, обогнув Восток, уже становится поперек интересов России на юге Азии, в Афганистане и на плоскогорьях Памира. Действуя то против России, то против мусульман, европейцы в том и другом случае извлекают выгоду и идут вперед... Если же посмотреть, с какой бессердечностью Европа угнетает весь Восток экономически, делаясь зверем каждый раз, когда дело коснется пенса, сантима или пфеннига, то становится очевидным, что Востоку нечего ждать добра от Запада. На мой взгляд, ни Европейский Запад, ни монголо-языческий Восток не могут, а следовательно, и не будут питать добрых чувств к народам, занимающим центральные области восточного полушария. Тот и другой мир, раздвигаясь на аршин или на сотню миль, по необходимости должен надвигаться этнографически, экономически и политически на центральные мусульманские и русские земли. Если грядущее монголоязыческого мира может казаться темным и гадательным, то задачи и стремления живого, цивилизованного Запада обрисовываются весьма отчетливо. Сеять недоверие и вражду к России среди мусульман, выставлять ее истребителем и беспощадным врагом ислама и западной культуры – прямой расчет европейцев. Они ловко и систематически эксплуатируют... недоразумения в отношениях между мусульманами и русскими. Недоразумение это роковое и чрезвычайно выгодно для Европы. Грабить экономически весь Восток, держась на дружеской ноге, и ослаблять Россию периодическими войнами с мусульманами, снаряженными и вооруженными западными друзьями – вот политика, от которой Запад во всяком случае ничего не теряет, ибо даже освобождаемые Россией мелкие народности, родственные ей, за исключением славной Черногории, тянут свои ручки к Западу, пока не нужна помощь мощной братской России. Это замеча170 ние мое, правда, не относится к простому народу, к массе, но ведь она, эта масса никогда не играет руководящей роли. Мусульмане, получающие образование на Западе, или слушающие лекции и профессоров, приглашенных оттуда, или изучающие науки по переводам с книг и газет того же Запада, конечно, имеют крайне смутное и неправильное представление о России и о русском народе... К сожалению, и у нас в России изучение и знакомство с Востоком тоже не достигло должного развития... Следовало бы, чтобы русские и мусульмане лучше и непосредственно изучали друг друга без предвзятых или заказных предубеждений. Тогда они увидели бы, что, кроме верования, все остальное сближает и скрепляет их... Для мусульманских народов русская культура более близка, чем западная. Мусульманин и русский могут еще вместе или рядом пахать, сеять, растить скот, промышлять и торговать: их умение не слишком разнится, но рядом с европейцем мусульманин должен обнищать и стать батраком, как оно и есть... Культурная, так сказать стихийная близость народов Востока с русским народом видна из того, что нигде сын Востока так легко не обживается, как в России. Ни в Марселе, ни в Париже вы не найдете арабской колонии (из Алжира), в Лондоне не существует индийского квартала, в Гааге не отыщете ни одного ачинца или малайца-мусульманина, тогда как в Москве и Петербурге проживают тысячи мусульман, имея свои улицы, мечети и проч... Что же влечет их в Россию и к России, как не стихийное сродство? Д. И. Менделеев К ПОЗНАНИЮ РОССИИ (1907) Всегда и в каждом деле для сознательности совершаемых в нем действий преполезно подсчитаться, а когда, как теперь у нас в целой стране, что-то стряслось непривычное, когда дело касается большинства голосов и сил страны и когда в ней наступают во многом новые порядки, тогда подсчет существующего не только полезен, но просто неизбежно необходим для всякого, кто сколько-нибудь хочет жить сознательным членом своей родины, потому что целое всегда мало 171 видимо, т. е. в глаза само не бьет. Иначе из-за грубой подражательности, того гляди, призовутся новые беды и несоответствие с тем, что имеется налицо и что требует своих последствий и сознательных желаний, стремлений, обсуждений и мероприятий. Страна-то, ведь, наша особая, стоящая между молотом Европы и наковальней Азии, долженствующая так или иначе их помирить... В России народов разного происхождения, даже различных рас, скопилось немалое количество. Оно так и должно быть вследствие того срединного положения, которое Россия занимает между Западной Европой и Азией, как раз на пути великого переселения народов, определившего всю современную судьбу Европы и берегов Средиземного моря, падение древних Рима и Греции и самое появление в великой европейской равнине славянской отрасли индоевропейцев... Переселение народов не кончилось, еще идет – не только из Европы в другие части света, но и из Китая, но кончиться ему необходимо должно в некотором будущем – едва ли еще к нам близком... до правильного организованного сложения тут и во всем ином еще далеко, уже потому, что сперва надо перестать кичиться одним народам и расам перед другими, так как римская, греческая, китайская, даже еврейская ("народа Богом избранного") кичливость наказаны по заслугам... Мы, русские, взятые в целом, благодаря Бога, кичливости чужды и, поставленные на грани двух не чуждых друг другу миров, должны ясно понимать соприкасающиеся сюда предстоящие вопросы... То, что выгодно применимо для Англии в современном ее положении, для России может быть совершенно непригодным, именно по той причине, что мы находимся в иной, чем Англия, стадии развития, а она... определяется преимущественно тем, что в Англии народонаселение уже умножилось в гораздо большей пропорции, чем у нас. До английских порядков нам можно дожить только после ряда не лет и не десятков лет, а после целого столетия с лишком. Здесь, однако, являются два новых вопроса: откуда взять капиталы для развития промышленности? И как при этом предотвратить угрожающее Европе и Америке развитие капитализма, которое и служит причиною возникновения пагубных утопий коммунистов и социалистов?... 172 Своих заготовленных капиталов у России, без сомнения, очень немного в виде ценностей подвижного свойства. Это обыкновенно приводит к мысли о том, что Россия не может двинуться вперед без иностранной помощи, т. е. считают невозможным возникновение и расширение русской промышленности без займов, производимых государством, или без входа иностранных капиталов в частную промышленность, а того и другого... считают, все же должно по возможности избегнуть, потому что это ставит Россию в зависимость от более богатых соседей и, главное, делает ее общий баланс невыгодным для страны. Эти утверждения должно принимать с большими оговорками... капитал в сущности есть не что иное, как доверие – потому что капиталов во много раз в мире больше, чем золота. Доверие же к основным ресурсам России во всем мире огромно, а доверие к промышленности, взятой в целом, и к отдельным предприятиям (конечно, не ко всяким, а лишь к учреждениям с правильным расчетом) также несомненно существует, а потому на этом можно основать способ добычи капиталов, нужных для русской промышленности, без ухудшения баланса. Но не доверяют русской оборотливости, предприимчивости и знаниям, а также стремлению облагать все то, что сколько-нибудь начинает развиваться, не дожидаясь близких, возможных, высших результатов... Россия, расположенная отчасти в Европе, отчасти в Азии и граничащая с владениями, наиболее центральными в той или другой части света, назначена историей именно для того, чтобы так или иначе Европу с Азией помирить, связать и слить. Уже на основании того, что в таких обширных азиатских наших владениях, какова Восточная и Западная Сибирь, явно преобладает, и численно и во всех отношениях, русское население, должно ясно видеть, что Азиатская Россия настолько же Россия, насколько и большинство частей Европейской России. Разъединять, как чаще всего делается на картах, Европейскую России от Азиатской, представляется во многих смыслах неправильным, особенно же вследствие того единства русского народа (великороссы, мало- и белороссы), который явно преобладает во всем населении страны, составляя массу в 82 млн. душ в среде, содержащей кроме 173 него лишь 46 млн. душ разнообразнейших народов, ничем кроме России между собой не связанных... есть страны, такие как Великобритания, имеющие владения во всех частях света, разделенные между собой громадными пространствами океанов, числящие в своей общей населенности более инородцев, чем владельцев страны, и в этих отношениях вполне отличающиеся от России, целой и единой, даже в пространственно-континентальном отношении, не только в народном. Д. И. Менделеев ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ РОССИИ (1907) Сложение и силы, сдерживающие такие огромные мировые единицы, каковы Россия, Китай и Соединенные Штаты, конечно, не совершенно одинаковы, но все же между собой близки, как близки условия и способы образования Британской Империи и Франции, а также и Германии, которая почти тотчас за своим сложением стала держаться колониальной политики, при которой весьма часто объединение под единой державою определяется вовсе не какими-либо видами внешнего и внутреннего единства (языка, целей, территории и т. д.), а просто политикой и современными преимуществами в силе, чему наиболее яркий пример представляет разделение почти всей Африки между европейскими колониальными державами. Занятие Австралийского материка англичанами, Сибири – русскими или "Дальнего Запада" северо-американцами имеет во многих отношениях иное значение уже потому, что здесь были почти пустыни с малым числом жителей, а в африканских и в большинстве азиатских колоний их часто очень много, и занятие таких стран, кроме частного значения для покоряющей страны (например, Индии или Родезии для Англии, Явы – для Голландии), может быть оправдываемо с общечеловеческой, моральной стороны только замещением затяжного и впереди не обещающего стародавнего порядка – новым, дающим мир, условия для общения народов и усиление людского размножения, что особенно ясно выразилось на Яве... и что приведет мир к новым порядкам, ибо только там наступает мирная совместная жизнь, где живут трудом и не могут, как 174 звери, ограничиваться только удовлетворением растительных и животных потребностей... Не входя, однако, в суждения ни о прошлом, ни о будущем, должно ясно видеть, что в наше время шесть крупнейших государств мира, а именно: Россия, Германия, Франция, Англия, С.-Амер. Соед. Штаты и Китай – уже соединили в своих руках более двух третей всех жителей земли и всей населенной суши, как это далее показано в подробном перечислении. Очевидно, что дальнейшая судьба людей прежде или ближе всего определяется этими мировыми державами, внутренними их событиями, взаимными соотношениями и влиянием на отдельные более мелкие государства... Главную причину, по которой отделяют Европу от Азии, мне кажется, должно искать в классическом мировоззрении, а никак не в каких-либо чисто географических соотношениях, которые заставляют скорее всего отделить Северную Америку от Южной, даже тогда, когда Европа не станет отделяться от Азии. Когда сибирские пустыни и Киргизские степи окажутся населенными русскими и просвещение России довольно поработает для слияния Дальнего Востока, включая в него Китай и Японию, с Западной Европой, тогда настанет действительная новейшая история, а с ней, вероятно, позабудут отличие Европы от Азии. Весь секрет этого дела в Китае, и я не стану утверждать, что нам теперь же, ничуть не мешкая, следует завязать тесный союз с Китаем (сепаратно, быть может, и с Японией, или обратно – что уже дело политиков), а изучение Китая и перемен, в нем совершающихся, усилить в разнообразных отношениях, и отнюдь не ограничиваясь одним Пекином и Ханькоу. Китай, как и Россия, не трупы, как их ныне считают, а только спящие великаны, пора пробуждения которых наступила. Если в противоположении "Старого Света" с "Новым" роль России была незначительна, то в предстоящем противопоставлении "Востока" с "Западом" она громадна, и я полагаю, что при умелом, совершенно сознательном, т. е. заранее обдуманном и доброжелательном – в обоих направлениях – участии России в этом противопоставлении должны выясниться многие внутренние и сложатся многие внешние наши отношения, особенно потому, что желаемые всеми прогресс и 175 мир между Востоком и Западом не могут упрочиться помимо деятельного участия России. Путями для этого считаю не столько военную организацию, сколько: а) тесный союз с Китаем и Англией; б) рост у нас просвещения не в сторону политических (преимущественно латинских) бредней, а в сторону изучения реальной природы и людских обществ и в) всемерное развитие у нас всех видов промышленности, потому что они одни могут содействовать как обогащению и просвещению нашего народа, так и увеличению его внешнего влияния. Всякое здесь промедление может быть пагубным для судеб и наших, и всемирных. Не по славянофильскому самообожанию, а по причине явного отличия "Востока" от "Запада" и по географическому положению России, ее и Великий, или Тихий океан должно считать границами, на которых должны сойтись всемирные интересы Востока и Запада. Желательно, чтобы и нашему отечеству придано было со временем название Великого, или Тихого. Первое название Россия уже заслужила всею прошлою своею историей, а второе ей предстоит еще заработать... Объединить всех людей в общую семью без коренных противоположений – составляет задачу будущего, и дай Бог, чтобы при решении этой задачи России пришли разумные мысли и достались хорошие роли... При таком современном положении вещей нет ни малейшего основания Европе или Китаю думать о взаимном занятии или переселении в ту или иную сторону, и если с пробуждением Китая, да еще при участии в нем Японии, чего можно опасаться, то это набегов и отнятия от нас южных и приморских частей восточной Сибири. Тут содержится один из наиболее жгучих и чисто русских вопросов предстоящего времени, и мне кажется, что Россия предупредительно-дружественной к Китаю политикой может успеть тут более, чем какими бы то ни было союзами не только с одной Францией, но и с Германией, Англией и С.-А. Соед. Штатами, если эти союзы будут иметь целью в чем-либо противодействовать китайским успехам в самостоятельности. Союз России с Китаем мне представляется если не наилучшею, то вернейшею и простейшею гарантией мирного прогресса не только этих стран, но и всего света, тем более, что все остальные государства мира имеют более поводов как для взаимного соперниче- 176 ства, так и для явного или тайного противодействия успехам всякого рода, а особенно промышленно-торговым, как России, так и Китая, видя в их многолюдстве и недостаточном развитии сил прочных потребителей своих товаров и источники своих общих выгод. По моему мнению, наилучший, т. е. надежнейший, путь для достижения прочного мира и успешного внутреннего совершенствования как для России, так и для Китая состоит в образовании четверного союза с Францией и Англией, потому что с Россией и Китаем они обеспечат не только им, но и себе уверенность в возможности спокойно смотреть на будущее и вести дело к общему объединению мирных усилий всех стран света. Как бы то ни было в Азии не только по преданию – колыбель людей, но и их численное преобладание; о ней и надо более всего заботиться, когда принципиальное равенство людей и стран ставится во главу общераспространенных идеалов. П. А. Столыпин РЕЧЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ БЫТА КРЕСТЬЯН И О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ (1907) Я полагаю, что земля, которая распределилась бы между гражданами, отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местам, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, – этого никто не стал бы делать. Вообще стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин – а между ними всегда были и будут тунеядцы – будет знать, что он имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено – но нельзя ленивого равнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин изобретательный, самою силой вещей будет 177 лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный, силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которою стояло и нравственное право. Ведь и раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселенных громадных пространств (голос из центра: "ого") и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Земле. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России? А эта перекроенная и уравненная Россия, что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство в своем целом не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Но положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены. Кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение – там смерть. 178 П. А. Столыпин РЕЧЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ (1907) Децентрализация может идти только от избытка сил. Могущественная Англия, конечно, дает всем составным частям своего государства весьма широкие права, но это от избытка сил: если же этой децентрализации требуют от нас в минуту слабости, когда ее хотят вырвать, и вырвать вместе с такими корнями, которые должны связывать всю империю, вместе с теми нитями, которые должны скрепить центр с окраинами, тогда, конечно, правительство ответит: нет! Станьте сначала на нашу точку зрения, признайте, что высшее благо – это быть русским гражданином, носите это звание так же высоко, как носили его когда-то римские граждане, тогда вы сами назовете себя гражданами первого разряда и получите все права. (Рукоплескания в центре и справа.) Я хочу еще сказать, что все те реформы, все то, что только что правительство предложило вашему вниманию, ведь это не сочинено, мы ничего насильственно, механически не хотим внедрять в народное самосознание, все это глубоко национально. Как в России до Петра Великого, так и в послепетровской России местные силы всегда несли служебные государственные повинности. Ведь сословия и те никогда не брали примера с запада, не боролись с центральной властью, а всегда служили ее целям. Поэтому наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передачи ему части государственных обязанностей, государственного тягла и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Вот наш идеал местного самоуправления, так же как наш идеал наверху – это развитие дарованного Государем стране законодательного, нового представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск Царской Верховной власти. Ведь Верховная власть является хранительницей идеи русского государства, она олицетворяет собой ее силу и цельность и если быть 179 России, то лишь при усилии всех сынов ее охранять, оберегать эту Власть, сковавшую Россию и оберегающую ее от распада. Самодержавие московских Царей не походит на самодержавие Петра, точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие Екатерины Второй и Царя-Освободителя. Ведь русское государство росло, развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ним, конечно, видоизменялась и развивалась и Верховная Царская Власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок. (Бурные рукоплескания в центре и справа.) П. А. Столыпин РЕЧЬ О СООРУЖЕНИИ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1908) Вспомните, господа, что и другие государства, и другие страны переживали минуты, может быть, еще более тяжелые. Вспомните то патриотическое усилие, которое облегчило Франции выплатить пятимиллиардную контрибуцию своей победительнице. Амурская дорога будет та контрибуция, которую русский народ выплатит своей же родине. Я совершенно понимаю точку зрения многих противников, которые говорят, что в настоящее время надо поднять центр. Когда центр будет силен, будут сильны и окраины, но ведь лечить израненную родину нашу нельзя только в одном месте. Если у нас не хватит жизненных соков на работу зарубцевания всех нанесенных ей ран, то наиболее отдаленные, наиболее истерзанные части ее, раньше чем окрепнет центр, могут, как пораженные антоновым огнем, безболезненно и незаметно отпасть, отсохнуть, отвалиться. И верно то, что сказал предыдущий оратор: мы будущими поколениями будем за это привлечены к ответу. Мы ответим за то, что занятые своими важными внутренними делами, занятые переустройством страны, мы, может быть, проглядели более важные мировые дела, мировые события, мы ответим за то, что пали духом, что мы впали в бездействие, что мы 180 впали в какую-то старческую беспомощность, что мы утратили веру в русский народ, в его жизненные силы... в силу его не только экономическую, но и в культурную. Мы, господа, ответим за то, что приравниваем поражение нашей армии к поражению и уничтожению нашей родины... Не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отразил монгольское нашествие и что ему дорог и люб Восток; это его сознание выражалось и в стремлении к переселению, и в народных преданиях, оно выражается и в государственных эмблемах. Наш орел, наследие Византии – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью. П. Н. Милюков "ИСКОННЫЕ НАЧАЛА" И "ТРЕБОВАНИЯ ЖИЗНИ" В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ (1905) Всякий, кто читал журналы, газеты или даже правительственные распоряжения за последнее время, конечно, заметил, что в них ведется жаркий спор об очень : важном предмете. Должен русский государственный строй развиваться или не должен? Если должен, то следует ли развивать государственные порядки в духе "исконных начал" или же в духе "требований жизни"? Те, кто стоял за сохранение "исконных начал", называли себя настоящими "русскими людьми" и настойчиво утверждали, что русские государственные порядки менять нельзя, потому что без них "Русь уже не будет Русью". Они уверяли, что русская форма политического устройства есть что-то совсем особое, никогда и нигде не бывалое; что она самым тесным образом связана с русской историей и с русским народным духом, а потому и должна остаться неизменяемой на вечные времена. Уверения этих людей теперь уже опровергнуты не рассуждениями, а самим делом... 181 Мнение, будто русская политическая форма должна оставаться вечной и неизменной, придумано очень давно, лет 60-70 тому назад, и теперь уже совсем устарело... Тогда думали, что в государственной форме отражается "дух народа" и что у каждого народа должен быть свой особый "дух", и вся история народа только в том состоит, что его коренной исконный "дух" находит себе свою собственную форму. Поэтому и выходило, что каждый народ прикован к своим исконным "началам" и не может от них оторваться – как не может отделаться от своего "духа". Теперь так не думают. Конечно, у всякого народа есть что-нибудь свое, особое, непохожее на другие народы. Но есть у всех народов очень много и одинакового... Если мы все перечислим, что у всех народов бывает одинаково, то, может быть, окажется, что этого одинакового у них гораздо больше, чем различного, непохожего. Таким образом, и перемены в политическом устройстве как раз оказываются – в главных чертах – довольно сходны у всех просвещенных народов. Социология показала, что всякое человеческое общество непременно проходит через три ступени в своем развитии. Первая ступень – это быт племенной, в которой государства еще нет и люди связаны между собой кровной связью – родством, либо настоящим, либо придуманным. На второй ступени является уже государственная связь, но она еще очень некрепка, и вместо целого большого государства общество раздроблено на множество маленьких, в которых господствуют крупные собственники, завладевшие общинными и племенными землями и вооружившие своих слуг, чтобы вместе с ними защищать своих подданных и нападать на чужих. Эта вторая ступень называется феодальным бытом. На третьей ступени один самый сильный или самый ловкий хищник уничтожает или покоряет остальных и подчиняет своей власти все население одного языка и одной веры, создавая таким образом единую нацию и организуя постоянное войско для защиты государства. Эту третью ступень и можно назвать военно-национальным государством. Конечно, и это – не последняя ступень. Мало-помалу военная деятельность такого государства ослабевает, уступая место мирному развитию промышленности. Свободное развитие производительных сил требует и внутренней 182 безопасности, не мирится с произволом и насилием и перестраивает все внутреннее устройство государства на твердой основе закона и права. Таким образом, военно-национальное государство превращается в промышленно-правовое. Конечно, и Россия переживала те же ступени политического роста, как и все другие цивилизованные государства. Был и в ней племенной быт, но так давно, что об нем осталась только смутная память у историков. Был и феодальный быт, когда государственная власть была раздроблена между многими владельцами, которые скорее чувствовали себя большими помещиками, чем государями. Потом, наконец, четыреста лет с небольшим тому назад Россия объединилась в руках одного владельца – московского князя, который с этих пор стал признавать себя государем и самодержцем "всея Руси". Эта последняя политическая форма, стало быть, вовсе не была ни исконной, ни неизменной, и нет никаких причин думать, что на ней остановится политическое развитие России. Как и повсюду, наше военно-национальное государство постепенно превратится и даже на наших глазах в промышленно-правовое.. . Понятно, что все эти перемены в России происходили не точка в точку так, как в других государствах. Но и в каждом другом государстве они тоже совершались непохоже на все другие государства. Так что и здесь наше государство не составляет какого-нибудь исключения из всех других. У нас главная разница была та, что не было таких крупных земельных владельцев, которые в других местах захватили все права государей и долго мешали разным частям нации слиться в одно государство. Другими словами, у нас феодальный быт был слабее. Произошло же это потому, что еще в племенном быту старейшины племен не успели расхватать общинных и племенных земель. Когда пришли на Русь первые князья, старейшины еще были слабы, и племена прямо подчинились князьям. И все крестьянские земли прямо считались княжеской собственностью; а когда понадобилось князьям составлять себе войска, они стали раздавать эти земли своим военным служащим вместо жалованья. Таким образом, и те крупные владельцы, которые потом появились на Руси, уже зависели от князя, были у 183 него на службе. Тех немногих, которые были сильны и независимы, московские (особенно Иван III и Иван IV Грозный) князья смирили силой и земли у них насильно отняли. Поэтому им было легче основать национально-военное государство: гораздо легче, чем, например, литовским князьям или польским королям, которые никак не могли справиться с крупными владельцами в своих владениях, и принуждены были просить их помощи всякий раз, как нужны были их солдаты и деньги. Вот почему военно-национальное государство, основанное в России московскими великими князьями, оказалось сильнее, чем оно было в других местах. Оно выросло и укрепилось на более продолжительное время. Но это не значит, конечно, чтобы военнонациональное государство всегда существовало на Руси и что оно должно было сохраниться на вечные времена. Напротив, русская форма в себе самой носила зародыш слабости. В сущности, она была сильна, главным образом, слабостью своих противников. Справившись с ними очень легко, она не позаботилась принять мер, чтобы укрепить себя на случай будущих опасностей. Власть и сила все равно находились в руках московских князей: о чем же было еще заботиться? В Западной Европе представители военно-национального государства рассуждали совсем иначе. Врагов у них было много – и враги не дремали. Поэтому мало было захватить власть: нужно было сберечь ее, а для этого надо было еще доказать, что они имеют право на эту власть. Надо было закрепить веру в это право: надо было, чтобы это право вошло в привычку и сделалось преданием. В этом помогли властителям европейских военно-национальных государств их адвокаты и судьи. Они припомнили, что по римским законам государь стоит выше всякого закона, что он сам живой закон – и поэтому неограничен. А римский закон всеми почитался и уважался как самый умный; что скажет этот закон, считалось твердым и незыблемым. Поэтому и власть западных государей получила в римском законе твердую опору. Московские государи ни о какой законной основе для своей власти не думали, пока им не пришлось столкнуться с западными го- 184 сударями. Они знали, что свою власть получили по наследству от "прародителей", и этого казалось им довольно. Только когда пришли к Ивану III послы от римского папы и от германского императора и наперерыв стали ему предлагать сделать его королем – таким же как был его сосед, король польский и литовский, в Москве стали думать, как бы повысить положение и титул московского великого князя. Дело в том, что как раз тогда Иван III предъявил права на "всю Русь", а половина ее была в руках у Литвы. Отставать от Литовского государя да и от самого цесаря германского было неловко. В Москве тогда адвокатов и юристов не было; единственными образованными людьми были архиереи – и то не свои, а заезжие с православного юга: греки и южные славяне. Как раз тогда взяли турки Константинополь и завоевали сербов и болгар. Все надежды были теперь на Москву; и приезжие архиереи охотно перенесли на московского князя все великолепные титулы, которыми они привыкли величать своих прежних государей: византийского императора и царей сербских и болгарских. Заезжие архиереи придумали, что теперь Москва будет "вторым Константинополем" и "третьим Римом", и решили, что московские князья происходят не от кого иного, как от римского кесаря Августа. Сочинен был подробный рассказ о том, как один византийский император послал одному русскому князю царские украшения – прямо из Константинополя в Киев. В то время историю знали плохо и выдумка вышла не совсем удачно: император, про которого говорилось в рассказе (Константин Мономах), на самом деле умер, когда русскому князю (Владимиру Мономаху) было всего два года. Однако рассказ пошел в ход. От константинопольского патриарха потребовали даже, чтобы он его подтвердил соборной грамотой; а когда тот прислал грамоту, не совсем подходящую к московской выдумке – эту грамоту в Москве немножко подчистили, и дело было сделано. Правда, выдумка московских архиереев не могла иметь такой крепкой законной силы, какую имели ссылки европейских адвокатов на римский закон, но эту разницу в Москве плохо понимали. Иначе, конечно, вместо того, чтобы выдумывать сказку, москвичи могли бы закрепить за собою законные права на византийский престол, которые тогда нахо- 185 дились почти в их руках. Иван III женат был на наследнице последнего византийского императора, а прямой законный наследник готов был за дешевую цену отказаться от своих прав. Но в Москве деньги ценились дороже каких-то формальных прав на власть. Законный византийский титул был куплен французским королем Карлом VIII, а москвичи удовлетворились подложной византийской грамотой, в подлинности которой можно усомниться. Понятно, на такой документ ссылаться было неудобно. Хотя архиерейский рассказ и был вычеканен на царском троне, который и теперь стоит в Успенском соборе в Москве, а византийские украшения употреблены были при царском венчании, – однако же юридического оправдания новый царский титул, принятый московскими князьями в 1547 году, так и не получил. После торжественного венчания на царство, как и до него, московская власть продолжала опираться не столько на какое-нибудь новое право, сколько на прежнее – происхождение от "прародителей". И, конечно, это было прочное право; но только оно не определяло как раз того, что московскому князю было всего нужнее. Конечно, власть его была получена по наследству, но какова она была? Каков был размер этой наследственной власти? По римскому закону, конечно, власть государя была неограниченна, но в Москве римского закона не знали. За отсутствием твердой опоры в законе, оставалась другая твердая опора – в религии. Московские архиереи не были юристами, но зато они были тверды в вере, и поэтому царскую власть они основали на религиозном начале. Нового тут ничего не надо было придумывать, так как уже византийский император признавался помазанником Божием и верховным покровителем церкви. Духовенство первое признало царя наместником Божием на земле. Даже самые ошибки государя, по этому учению, должны были переноситься покорно, как Божие наказание за грехи. Однако и в этом религиозном освящении власти была одна слабая сторона. Правило "несть власть, аще не от Бога" освящало собственно всякую власть: оно давало святость не лицу, а месту, учреждению – все равно, кто бы ни занимал его. Когда 250 лет тому назад в Англии парламент вступил в спор с королем, то парламент тоже был властью и тоже считал, что его власть точно так же происходит от Бо- 186 га, как и власть короля. Значит, религиозное доказательство не создавало никакого права для лица, а только поддерживало всякий существующий порядок и власть. Один писатель смутного времени обвинял тогдашних русских людей, что они "измалодушествовались", присягая без разбора всякому самозванцу, который захватывал престол и становился "предержащей властью". Но эти люди только в точности повиновались религиозному требованию, не рассуждая, по какому праву то или другое лицо получило в свои руки власть: все равно всякая власть была от Бога и требовала повиновения. Итак, одного религиозного освящения было мало для верховной власти; надо было найти для нее какое-нибудь законное право. Особенно нужно стало это с тех пор, как появился Петр Великий и произвел свои реформы. Многие русские люди считали, что реформы Петра были против веры, и никак не хотели поверить, чтобы такие реформы могли исходить от помазанника Божия. Они, напротив, утверждали, что на русском престоле воссел Антихрист. Таким образом, сила веры в религиозную святость царской власти очень ослабла. В то же время Петр так круто отрезал себя от всего прошлого и так решительно отказался следовать примерам старины, что и основывать свою власть на обычаях "прародителей" он уже не хотел. Он и назвал себя совсем новым титулом "императора", подражая этим не византийскому старому титулу, которого уже 250 лет не существовало, а самому высокому титулу в тогдашней Европе: титулу германского (австрийского) императора. Для нового звания приходилось придумать и новые доказательства. И это было тем нужнее и тем легче, что никаких старых доказательств в русском законе не было. Новые права придумал для Петра знаменитый Феофан Прокопович. Он написал по приказанию Царя книжку "Правда воли монаршей", в которой доказывал, что император имеет право сам изменять порядок наследования престола. Петру это понадобилось, чтобы устранить от престола своего сына Алексея, который был против его реформ. Феофан Прокопович ссылался в доказательство на "законы естественные", то есть такие законы, которым основа положена в самой природе человеческой, и которые "сами собой крепки", потому что "не может здравый разум человеческий инако рассуждати"... 187 В 1814 году Александр I посетил Англию. Тогда он еще был сторонником политической свободы и с одушевлением говорил английским либералам, что в России необходимо образовать оппозицию (то есть партию недовольных правительством), чтобы затем ввести парламентскую форму правления. Через два года, в 1816 году, отправился в Англию младший брат Царя, Николай и его снабдили особым наставлением, в котором ему советовали не верить, будто такую самородную вещь, как английская конституция, можно пересадить в Россию – в совсем другой климат и обстановку. Откуда же такая перемена во взглядах петербургского правительства? Дело в том, что в эти самые годы появилась в России настоящая оппозиция – та самая, которая через десять лет привела к заговору декабристов. Общественное недовольство так испугало правительство, что вместо того, чтобы послушаться Сперанского и уступить общественным желаниям, правительство начало преследовать людей, желавших политических перемен. И так как этих людей становилось чем дальше, тем больше, то и преследования приходилось все более усиливать. Недовольство в свою очередь усиливалось от преследований, а преследования опять-таки возрастали с возрастанием недовольства, и так получался какой-то заколдованный круг, из которого, казалось, не было выхода. В это-то время и была придумана для защиты старины та теория, что русский политический строй неразрывно связан с русской национальностью, что в нем отразился народный дух и потому изменить его нельзя. Собственно, этот взгляд придуман был небольшой кучкой молодых людей, которые в самом деле верили в особую силу русского народного духа и думали, что, сохранивши этот свой особый дух, русский народ покажет себя всему миру и весь мир от России научится чему-то великому и важному. Эти молодые писатели называли себя славянофилами. Правительство не доверяло им и считало их фантазерами, оно даже боялось их, как людей беспокойных, когда они говорили, что народ сам, собственными силами может что-то сделать. Но когда они утверждали, что у русского народа свой особый дух, совсем непохожий на дух других народов, что поэтому заимствовать у 188 других народов нам нечего, а следует хранить неизменными свои исконные начала жизни, то это совпадало с желанием правительства сохранить старые порядки. Славянофилы ценили в старине дух, а не форму, а власти именно хотели сохранить форму. Славянофилы заботились особенно о народе – как хранителе духа, а власти особенно оберегали государство, в котором славянофилы уже ровно ничего духовного не видели. Таким образом, правительство взяло у славянофилов только одну внешнюю оболочку их учения – только тот взгляд, что старина должна быть сохранена, и стало охранять старое во что бы то ни стало. Казалось бы, если "исконные начала" жизненны и неизменны, то и охранять их нечего: они сохранятся сами собой. Но то, что охраняла власть, было уже мертво и гнило: и потому приходилось напрягать все силы, не останавливаться даже перед крайним насилием, чтобы только как-нибудь уберечь старые формы от окончательного разрушения. Но жизнь чем дальше, тем больше вырастала из старых форм. Противоположность между исконными началами и требованиями жизни становилась все ярче, все сильнее; и попытки охранить исконные начала от изменений, каких требовала жизнь, вызвали только ожесточение, которое постоянно возрастало. Защитники исконных начал потеряли уважение и доверие к себе; мало-помалу они теряли и силу, и действия их возбуждали только одно негодование. Ясно было, что рано или поздно все равно придется уступить; но чем позднее, тем придется уступить больше... Исконных начал уже и теперь не удалось уберечь от требований жизни. Россия пошла в развитии своего государственного строя тем же самым путем, которым шли и будут идти все просвещенные государства. Мы видели, что "исконные начала" этому нисколько не мешали, так как на деле не были ни "исконными", ни "началами", т. е. неизменными основами. "Исконными началами" они были только в воображении небольшой кучки писателей, которые мечтали сберечь старый "дух" русского народа, а также в словах и в бумажных выражениях другой небольшой кучки – чиновников, которая надеялась сберечь старые формы русского государства. Народ сам не думал ни о своем "духе", ни о формах, потому что он только теперь начинает ду- 189 мать о себе и о том, что его окружает. Старые мечты о "народном духе", как мы сказали вначале, теперь совершенно устарели. Старые бумажные выражения все еще существуют на бумаге. Но на деле спор между "исконными началами" и "требованиями жизни" бесповоротно решен. Он решен тем, что на Руси появился... "народный представитель". Там, где народ имеет своих законных представителей, где через своих представителей он участвует в издании законов своей страны, в назначении налогов, в поверке государственных приходов и расходов и в надзоре за правильностью и законностью действий всех чиновников, начиная с министров, там жители страны суть "граждане", а не бесправные обыватели. Чтобы правильно выбирать своих представителей, они должны знать, что делается в Думе, какие законы принимаются Думой и какие нужны народу. Другими словами, граждане должны интересоваться политикой, сговариваться между собой о своих нуждах, составлять между собой постоянные союзы для защиты своих интересов. Они должны читать газеты и сами писать в газеты обо всем, что им нужно. В такой большой стране, как Россия, иначе нельзя сговориться, узнать, друг про друга, а поодиночке каждый действует в темноте и не может знать, много ли людей думают и действуют так же, как он. Поэтому-то во всякой стране, где есть народные представители, непременно должна быть и свобода собираться, и свобода писать и говорить, и свобода составлять союзы. Все это есть "требования жизни" – и нет таких "исконных начал", которые могли бы помешать всему этому осуществиться на деле. Л. Мартов ОБЩЕСТВЕННЫЕ И УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ 1870–1905 (КОНЕЦ 90-х гг. – 1910) В ряду идейных факторов, которые в течение всего XIX века оказывали влияние на умонастроение культурных слоев русского общества, значительную роль играли умственная жизнь и социальнополитическая борьба в Западной Европе. С этим фактором приходится считаться и по отношению к интересующему нас периоду. 190 Франко-прусская война 1870 года и восстание Парижской Коммуны закончили исторический процесс, начатый Великой Французской Революцией. Вслед за задачей классовой и духовной эмансипации западно-европейская буржуазия осуществила задачу эмансипации национальной: и тут, как и там, она, поставив определенную задачу во всей ее полноте, решила ее в рамках компромисса, соответствующего ограниченности ее классовых интересов. Карта Европы, радикально преобразовавшаяся несколько раз, приобретала очертания, которым суждено было оставаться неизменными в течение долгого времени. Консолидация капиталистических наций закончилась: были созданы территориальные и международно-правовые рамки, в которых капитализм мог беспрепятственно развиваться. Последняя фаза этого долгого процесса, протекавшая под знаком соперничества французского империализма и прусского милитаризма, внесла чрезвычайное оживление в политическую и умственную жизнь буржуазного общества этих стран, а косвенно и остальной Европы. Но буржуазное общество, в котором капиталистические отношения производства к тому времени достигли значительного развития, уже не могло зашевелиться без того, чтобы не привести немедленно в движение скрытые в нем самом противоречия. Оживление буржуазного либерализма и радикализма сопровождалось возрождением рабочего движения, разгромленного в 1848 г. и теперь с удесятеренной силой заявившего о своем существовании. Лассалевская агитация и образование Интернационала стали крупнейшими событиями в политической жизни 60-х годов, наложившими печать своего влияния, между прочим, на всю эволюцию буржуазной демократии. Ее выдающиеся представители пошли в большей или меньшей степени навстречу либо революционному социализму в его бланкистской или бакунистской интерпретации, либо практическому рабочему движению в его преобладавшей в течение 60-х годов кооперативной форме. Получавшаяся в результате такого сближения амальгама мелкобуржуазного социализма с ярко демократической окраской оказывала преобладающее влияние и на идеологию левых элементов русской интеллигенции в 60-е годы. И то же сближение мелкобуржуазной демокра- 191 тии с социализмом в социально-политической сфере способствовало тому, что коллективистские и коммунистические симпатии русской интеллигенции могли психологически сочетаться с тяготением к философии тогдашнего западно-европейского буржуазноиндивидуалистического радикализма. Материалистические и позитивистские разновидности этой философии, в которой буржуазная личность давала последний бой за свое освобождение, вполне отвечали запросам русской интеллигенции, переживавшей разгар борьбы с крепостническими узами и крепостническими традициями; а гуманитарная и социал-реформаторская окраска этого философского индивидуализма мирила социал-народнически настроенную интеллигенцию с классовой узостью и ограниченностью ее общего кругозора... Естественные науки, санкционировавшие в первой половине 60-х годов революционные стремления демократа-разночинца, впоследствии были использованы, по примеру Зап. Европы, умеренными и аккуратными представителями буржуазно-либерального индивидуализма... В то же время крушение надежд шестидесятых годов заставило разночинца признать ограниченность пределов его влияния на складывающееся пореформенное общество, с началом реакции отвернувшееся от интеллигентской демократии. Но, вместе с тем, то же крушение показало слабосилие интеллигенции самой по себе, и это обстоятельство, ослабляя влияние в интеллигенции радикальноиндивидуалистических течений, ставивших в центре общественного прогресса просвещенную личность интеллигента, должно было соответственно усилить влияние течений народнически-демократических, искавших для интеллигенции опоры в крестьянстве... По мере того, как укреплялась политическая реакция, рядом с центрами идейного влияния на интеллигенцию, вновь образовавшимися в самой России, начинают приобретать все большее значение такие же центры за границей, среди русской эмиграции. В течение эпохи "великих реформ" идейное влияние эмиграции значительно уступало влиянию русских литературных центров, особенно если иметь в виду влияние на широкую демократическую интеллигенцию. "Властителями дум" последней были Добролюбов, Чернышевский, Писа- 192 рев. Влияние Герцена и Огарева, представителей эмиграции дореформенной эпохи, было значительно до польского восстания в кругах просвещенных помещиков и либеральной бюрократии. Крушение движения 60-х годов выбросило в Западную Европу новые группы русской эмиграции, прошедшей через революционные кружки "Земли и Воли", через агитацию "каракозовцев" (1866) и "нечаевцев" (1869). В то же время великая встряска 60-х гг. вызвала впервые, как массовое явление, временные путешествия за границу демократических элементов (напомним, что при Николае I поездки за границу были крайне затруднены). При этом стеснения, которые правительство ставило в России образованию женщин, повели к тому, что в заграничные (преимущественно швейцарские) университеты направилась женская учащаяся молодежь. Образование срaвнитeльнo многочисленных русских "колоний" за границей облегчило непосредственное влияние на русскую интеллигенцию со стороны политической эмиграции и содействовало более близкому знакомству интеллигенции с передовыми направлениями европейского общественного движения, которые после Коммуны сводились только к социализму и анархизму, враждебно боровшимся в Интернационале. Несоответствие общественно-политических запросов, пробужденных эпохой реформ, с правовыми нормами, продолжавшими господствовать в России и крайне стеснявшими в ней развитие политической мысли, заставляло передовую часть русской демократической интеллигенции внимательно прислушиваться к голосу лидеров русской эмиграции. Представитель старой эмиграции, протянувший, в отличие от Герцена и Огарева, руку молодому революционному поколению и приобретший себе мировое имя своей деятельностью в Западной Европе, М. А. Бакунин, оказал самое глубокое влияние на формировавшуюся идеологию "поколения 70-х гг."... Гегельянец и консерватор в начале 40-х годов, Бакунин за границей подпал под влияние Прудона, Маркса и других революционных деятелей того времени. В событиях 1848 г. он принимает самое активное участие, но взгляды его к этому времени еще далеко не сложились в сколько-нибудь определенную систему... 193 Уже после того, как он снова бежал за границу и примкнул к Герцену, издававшему "Колокол", Бакунин в своей брошюре "Романов, Пугачев или Пестель?" занимает по отношению к крестьянскому вопросу позицию, далекую от непримиримости: он готов поддержать монархию, если последняя пойдет навстречу желаниям освобождаемых крестьян и тем поведет Россию в сторону от европейского капитализма к торжеству общинного начала... После поражения Польши М. А. Бакунин вновь окунается в революционное движение Запада. Первоначально и здесь он отыскивает родственные ему движения среди интеллигентских элементов буржуазной демократии, пытается привлечь на сторону всемирной революции буржуазно-свободомыслящую и республиканскую "Лигу мира и свободы". Безнадежность этого предприятия скоро выясняется, и мятежный русский революционер находит для себя поприще в начинающем громко заявлять о своем существовании Международном обществе рабочих. После долгих попыток приспособиться к общему направлению, в котором велась этим обществом его агитационная и организационная деятельность, Бакунин к концу 60-х гг. окончательно убеждается в непримиримости своего революционизма со все более торжестующим в Интернационале марксизмом. В борьбе с его политическими тенденциями и в тесном соприкосновении с различными бланкистскими, заговорщическими и прудонистскими элементами, составлявшими в различных (преимущественно романских) секциях Интернационала оппозицию Генеральному Совету, Бакунин окончательно отшлифовывает свое революционное мировоззрение, становясь, таким образом, идейным учителем всего анархистского движения второй половины прошлого века... Бакунизм именно и явился попыткой сочетать классовое движение современного пролетариата с инородным ему социальным протестом тех слоев крестьянства, которые уничтожал и в конце концов уничтожил или совершенно преобразил капитализм в XIX веке – уничтожил, главным образом, силами современного буржуазнобюрократического государства. Процесс этот происходил наиболее 194 остро в 60-х гг. в Испании и Италии, и в этих именно странах бакунизм стал господствующей формой социального движения, увлекши за собою и низы городского пролетариата и мещанства, и деклассированную, не захваченную еще зубьями буржуазной "государственности", плебейскую интеллигенцию. В славянских странах развитие капитализма шло тем же путем, выдвигая на первый план пауперизацию крестьян и создание массового люмпен-пролетариата, и Бакунин, учитывая эту аналогию, ожидал от славян – и особенно от России – руководящей роли во всемирной анархической революции. Объективные условия развития русского народа, по мнению Бакунина, подготовили его к тому, чтобы он в близком же будущем сыграл эту роль. Эти объективные условия, по Бакунину, раскололи национальный организм русского народа на два противоположных мира: общинное крестьянство, косное, полное предрассудков и отчасти уже раздираемое внутренними противоречиями, но при всем том способное к дальнейшему развитию в силу сохранившихся в нем антиавторитарных, эгалитарных и коллективистских традиции, и чиновнически-помещичью надстройку, являющуюся паразитическим продуктом на народном теле, держащуюся голым насилием и вносящую элементы разложений в крестьянский мир. Этот последний искони ведет борьбу с государством и правящими классами во имя абсолютного торжества общинных начал, во имя разрушения государства; покрываемая мистической монархической традицией, безуспешная, благодаря разрозненности крестьян, эта борьба нуждается только в новом объединяющем и направляющем подвижном элементе, каким в прежние века являлось казачество, чтобы привести крестьянство к полной победе, на пути к которой его движение перерастет ожившие мистические традиции и придет к анархистскому самосознанию. Революционной интеллигенции предстоит, как тому же казачеству, сыграть лишь роль выразителей потребностей и стремлений, заложенных в самом народе и выработанных в нем экономическими условиями, резко отличными от условий, в которых живут народы Запада. 195 Бакунизм шел навстречу настроению демократической интеллигенции, поскольку отвечал ее потребности круто порвать с буржуазным либерализмом, ставшим на Западе консервативной силой, а в России являвшимся чахлым растением, поскольку, с другой стороны, санкционируя ничтожное значение интеллигенции как самостоятельной силы, только что потерпевшей поражение, в то же время указывал ей в полуосвобожденной и явно неудовлетворенной крестьянской массе фактор неминуемого коренного переворота – фактор, к которому могла примкнуть интеллигенция. Наконец, аполитический характер бакунизма как нельзя более соответствовал разочарованию в возможности успешной политической борьбы, в которую верилось в течение первой половины 60-х годов... "Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости – вот краткая формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом", – говорит Лавров, считая "понятия, входящие в эту формулу... вполне определенными и не допускающими различных толкований для всякого, кто к ним добросовестно относится". Эта абстрактная формула прогресса выражала не что иное, как оценку русским демократом-интеллигентом положительных целей социалистического рабочего движения на Западе, присоединение русского демократа к стремлениям европейского пролетариата... Ни Лавров, ни тем паче Бакунин не сказали бы, подобно Михайловскому: "Требуется предотвратить язву пролетариата, свирепствующую в Европе и угрожающую в будущем России. Излечение этой язвы мне всегда казалось такой тяжелой задачей, которая, по крайней мере, моему уму не по силам. Но в то же время я убедился, что предупреждение ее возможно, если только меры будут приняты вовремя". И Лавров, и Бакунин допускали, что предупреждение появления пролетариата в России еще возможно, и могли бы принять формулу Михайловского: "в основание всех прений о русском рабочем вопросе... должен был бы лечь общеизвестный факт, что у нас рабочие не составляют отдельного рабочего сословия", но они отнюдь не проявляли 196 скептицизма к "излечению" "язвы" пролетариата" в странах Зап. Европы: оба недаром входили в Интернационал. Слова Михайловского о том, что "освобождение крестьян с землею сделало Россию в социальном отношении tabula rasa, на которой еще открыта возможность написать ту или другую страницу", Бакунин и Лавров могли бы принять лишь с известной оговоркой: после критики, произведенной Чернышевским над условиями "освовождения", и попыток революционеров 60-х гг. путем "критики оружием" добиться замены "господской воли" "подлинной волей", было для демократа значительным шагом назад допускать подобную идеализацию "освобождения". Но уже полным отказом от революционного демократизма явилось знаменитое утверждение Михайловского: "Рабочий вопрос в Европе есть вопрос революционный, ибо он требует передачи условий труда в руки работников, экспроприации теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только сохранение условий труда в руках работника, гарантии теперешним собственникам их собственности... Понятно, что цель эта не может быть достигнута без широкого государственного вмешательства, первым актом которого должно быть законодательное закрепление общины". Для Бакунина и Лаврова подобный отказ от экспроприации помещичьей собственности и апелляция к государственному вмешательству в катедер-социалистическом смысле были, разумеется, неприемлемы: от иллюзий такого рода, которыми и он соблазнился во время выпуска знаменитой своей брошюры ("Романов, Пугачев или Пестель"), Бакунин, ставши "апостолом всемирного разрушения", как его называл Э. Лавелэ, давно уже отказался. Противопоставление русского "рабочего вопроса" западно-европейскому делалось и им, но отнюдь не в смысле специфической "консервативности" рабочего вопроса в России... Перед поднятыми радикальной публицистикой вопросами о направлении общественного развития России, двигавшими русскую мысль дальше по пути, проложенному Герценом и Чернышевским, отстаивание буквы старого "западничества" против эпигонов славянофильства представлялось анахронизмом; и старомодный сюртук, в 197 котором выступал западнический либерализм, мешал читателям уловить ту ноту здорового и основательного скептицизма, который иногда слышен был в либеральной критике народнических идей... Старое романтическое славянофильство к этому времени сошло со сцены. Эпигоны славянофильства превратились в реакционных панславистов, преследовавших империалистские цели. Их влияние в начале 70-х гг. распространялось лишь на некоторые бюрократические и интеллигентские круги и не шло далее. Только к Ф. М. Достоевскому, вводившему кое-какие народнические элементы в свое мистическое миросозерцание, прислушивалась более широкая аудитория. Балканское движение изменило положение славянофилов в русском обществе. В то время, как среди радикальной молодежи движения балканских славян вызвали совершенно определенные симпатии как восстания народных масс против тиранической государственной власти, в широких кругах имущих классов они были приветствуемы как эпизоды борьбы за расширение сферы политического влияния России. Инспирируемые дипломатическими сферами, славянофильские группы развернули довольно сильную агитацию, под влиянием которой впоследствии правительство решилось на войну с Турцией. Либеральная пресса в значительной своей части примкнула к поднятой славянофилами агитации и способствовала тому, что свободолюбивые тенденции, вносившиеся частью интеллигенции в славянское дело, были заглушены консервативным национализмом. Славянофильские надежды были безжалостно разбиты берлинским трактатом, сделавшим Россию, вместо освободительницы славян от германизма, вассалом прусской монархии. Но националистическая агитация,"поднятая вокруг "славянского дела", не прошла бесследно: если само славянофильство с того времени окончательно клонится к упадку, то закладываются основания более беспринципного, но и более практического современного русского национализма, враждебно обращенного не столько против соседних государств, сколько против нерусских народностей, населяющих Россию... Имя Маркса с самого начала 70-х гг. стало пользоваться значительным уважением среди русской читающей публики – и это, не- 198 смотря на ее идейные симпатии к бакунизму, который в то время вел в Европе беспощадную войну против марксизма. Уже в 1872 году был переведен на русский язык "Капитал", и его критическим анализом противоречий капиталистического строя охотно пользовались народнические писатели. Но философско-исторические идеи Маркса оставались чужды русской радикальной интеллигенции. Тем не менее, литературные представители народничества, как в "Отеч. записках", так и в "Земле и Воле", считали уже нужным ставить вопрос о применении исторической концепции Маркса к судьбам русского народа и решали его в отрицательном смысле, отмечая, по выражению Михайловского, "трагическое положение русских марксистов", которым, как казалось народникам, пришлось бы способстовать хищническому русскому капитализму в деле обезземеления крестьян и экспроприирования кустарей, чтобы только оставаться верным "марксовой догме" общественного развития от частной собственности к коллективизму. Между тем, знакомство с текущей социалистической публицистикой в Зап. Европе постоянно наталкивало мысль русских социалистов на вопрос об отношении их программ и задач к научным принципам, установленным Марксом и приобретавшим все большее влияние в западно-европейском рабочем движении. После появления книги Энгельса против Дюринга внимание отдельных единиц было привлечено и к философско-исторической стороне марксизма... Для литературных представителей "Черного Передела" концентрация демократических элементов города вокруг народовольчества представлялась тем, чем она и являлась объективно, – первым политическим выступлением нарождающейся буржуазной демократии, созданной пореформенным развитием капитализма. Самоидеализация интеллигенции в идеологии "Народной Воли" не могла скрыть этого факта от бакунистов, знакомых с процессом самоопределения республиканской демократии на Западе. В лице демократической интеллигенции русский город выступал на тот путь борьбы за политическую реформу, который, как знали бакунисты из истории Запада, ведет к ненавистной им "буржуазной свободе" и к открытию свободной дороги для всестороннего развития капитализма. Старое революционное 199 движение, исходившее из принципиального разрыва с имущим "обществом" и противопоставления ему деревни, пришло к примирению с обществом и руководству его борьбой против крепостнических пут. Но политическая свобода, завоеванная "обществом", как знали бакунисты, ведет непосредственно не к социальной эмансипации "народа", а к его порабощению буржуазией. Приходилось или отказаться от поддержки, ведшейся во имя политического преобразования борьбы, или пересмотреть теорию, согласно которой политический прогресс в рамках буржуазных отношений производства означает непременно социальный регресс. Таким путем мысль чернопередельцев неизбежно шла к новому анализу условий экономического развития России. Этот анализ привел к разрушению народнической иллюзии о незатронутости деревенского мира противоречиями капиталистического строя. Сама народническая литература, в лице бытописателей-беллетристов и экономистов-статистиков, подготовила богатый материал, колебавший все прежние представления о цельности и прочности внутреннего строя деревенских отношений. Рассматривая их в свете нового опыта, чернопередельцы убеждались в том, что для русского народа уже началась та экономическая история, дальнейшие этапы которой они наблюдали в передовых странах Запада. Маркс, которого в 70-х гг. призывали лишь как свидетеля для обличения зол капиталистического строя, оказался теперь единственной надежной опорой для критики такого поворота от народа, от задач социальной эмансипации, к которому логически неизбежно привела бакунистская эпопея... Новое народничество под одновременным влиянием русских общественных условий и европейского "кризиса социализма" тесно сплетает в слагающейся системе своих воззрений историческую роль крестьянства как класса в современном буржуазном обществе, с тою его специфическою ролью, которую оно играет в России в силу особых условий исторического развития. Опираясь на ревизионистскую критику марксизма, новое народничество отрицает за рабочим классом капиталистической промышленности преимущественное значение, как фактора борьбы с капитализмом и классовым общественным 200 строем и как сознательной силы, продуктом общественного творчества которой только и должна явиться высшая форма социальных отношений. Напротив, подчеркивается роль мелкого "трудового", т. е. не эксплуатирующего чужую рабочую силу, крестьянства, как того общественного слоя, который, в противоположность утверждениям марксистов, отнюдь не безнадежно ведет свою борьбу с капитализмом и в этой именно борьбе вырабатывает и развивает такие формы социального быта, которые перерастают его индивидуалистические и собственнические традиции, делают крестьянство способным к усвоению и приспособлению социализма и сами в дальнейшем развитии являются зачатками и зародышами социалистического общественного строя... Но если социализм вырастает из борьбы мелких производителей в земледелии против капитализма, из общественной формы, которую не породил капитализм, а застал готовою, то такая постановка проблемы социализма имеет особенное значение в России, где крестьянское земледелие еще только вступает в сферу господства капиталистических отношений и не отлилось еще в типическую для современной цивилизации форму раздробленного хозяйства частных собственников, где капитализм застал еще довольно прочными определенные формы кооперации (община), уже не существовавшие в 3ап. Европе в соответствующий момент истории, и где поэтому еще господствуют в крестьянском сознании правовые и социальноэтические нормы, этими формами кооперации порожденные. Таким образом, ревизионистская концепция дает теоретическую санкцию старому народническому положению о русском крестьянстве как специфическом носителе социалистической идеи и представителе зачаточных высших форм социального быта. Держась этой народнической основы, социалисты-революционеры отбрасывают или смягчают в старом народничестве то, что, нося на себе отпечаток принципиального противопоставления русского социального строя западно-европейскому, исключало объединение народнических стремлений со стремлениями социально-реформистского крыла европейских социалистов и что вступило в противоречие с демократическими требованиями социализма вообще. Таким образом, вы- 201 двинувшееся на первый план, особенно в 80-х и 90-х годах, старонародническое требование о законодательном закреплении общины, предъявляемое современному сословно-классовому государству как неизбежная мера для предотвращения дальнейшего разложения ее, теряет свое значение у социалистов-революционеров и в меньшей мере – у параллельно с ними эволюционировавших представителей нового народничества в легальной литературе. Не отрицая наличности быстрого разложения общинной формы землевладения и землепользования и в этом вопросе вернувшись под влиянием марксистской критики к позиции классических народников 70-х годов, новонародничество настаивает лишь на наличности борьбы в крестьянстве между общинными и индивидуалистическими тенденциями, на том, что представителем общинных тенденций является трудовой, не причастный к эксплуатации слой крестьянства (что решительно отвергалось русскими марксистами, подчеркивающими рост индивидуалистических и мелкобуржуазных тенденций в недрах самого этого слоя не прибегающих к наемной рабочей силе крестьян и антиобщинные стремления сельского пролетариата), и доказывают возможность работать над воплощением этих тенденций в формах кооперации, приспособленных к успешной борьбе с капитализмом и способных к развитию в социалистическом духе... Открытая борьба реальных классовых интересов устраняет туманные лозунги прежних расхождений между славянофильским либерализмом и западническим конституционализмом, чтобы на место их поставить ясные лозунги порядка, собственности и государственной целости: бывшее правое крыло и часть умеренного центра конституционалистического движения... организуются в "Союз 17-го октября", по программе национально-либеральный, ведущий борьбу против дальнейшего развития революции и притязаний демократических масс, но конституционалистский и апеллирующий к самобытности русского исторического развития не для того, чтобы пропагандировать, подобно старым славянофилам, внеклассовую монархию и ее независимость от буржуазного парламентаризма, но для того лишь, чтобы подобно германским имущим классам протестовать против после- 202 довательного проведения принципов конституционализма всякий раз, как оно грозит дать демократии перевес над имущими классами; для того чтобы тесно связать монархическую власть с организованными имущими классами и сделать ее ширмой для их организации... Борьба старого режима за существование вызвала одну лишь попытку выработать новую идеологию, которая могла бы быть противопоставлена напору революционных идей. Реагируя непосредственно на опасности классового рабочего движения и столкнувшись с ним впервые в конце 90-х годов, в момент относительного затишья среди других общественных классов, абсолютизм пытался отвести это движение в русло сотрудничества с представителями старого порядка и оторвать его от всякой связи с оппозиционными и революционными течениями. На этой почве зародилась идеология "независимого социализма" – приспособленной к русским условиям социальнореакционной рабочей демагогии. В течение всего предреволюционного пятилетия перед нами проходят попытки организовать под знаменем "независимого социализма" часть городского рабочего класса и его борьбу против капиталистов использовать для того, чтобы сплотить его около социально-реакционных общественных групп... Основное отличие этой попытки от аналогичных предприятий в западно-европейских странах (как Австрия и Германия), откуда пример и был заимствован слугами русского абсолютизма, заключалось в том, что в упомянутых странах реакционная антикапиталистическая демагогия могла опираться на внутренние противоречия среди самой той трудящейся массы, которую требовалось оторвать от социализма и революции. Прежде всего – на противоречия конфессиональные, которые, напр., в Германии сыграли существенную роль в успехе социально-реакционной демагогии. Но значительно важнее был тот факт, что в этих странах в рабочее и демократическое движение с самого начала были втянуты рабочие и самостоятельные хозяева мелкой ремесленной промышленности, которых дальнейшее развитие капитализма ставило в двойственное положение, создавая безысходное противоречие между социально-революционными и демократическими идеалами, с одной стороны, и групповыми интересами, с другой; здесь 203 именно реакционная демагогия находила рычаг для того, чтобы оказывать влияние на трудящиеся массы, и, опираясь на все более поворачивающие в сторону идеалов средневековья массы разоряемых ремесленников, она могла уже идти ко всему рабочему классу с более или менее стройной идеологией христиански-монархического "национального социализма". Особенности русского общественного развития, благодаря которым не только социализм, но и идеи свободы и демократии пришли в народные массы через современную крупную промышленность городских центров, обусловили, между прочим, и то, что социально-реакционная демагогия, в отличие от западноевропейской, не могла выразить в себе ни одного идеального момента в настроении тех масс, к которым она обратилась, чтобы ослабить влияние на них социал-демократии. К рабочим крупной промышленности нельзя было и незачем идти с пропагандой сословнокорпоративной организации трудящихся, с идеалом превращения рабочего класса в одно из основных сословий реставрированного христианского государства, с реакционным протестом против распространения крупной промышленности. Соответственные мотивы и вытекающие отсюда проекты восстановления цехов или создания производительных ассоциаций поэтому играли лишь второстепенную роль в деятельности русских "независимых". Центр тяжести своей пропаганды им пришлось перенести непосредственно в область боевых вопросов капиталистической промышленности и, опираясь на критику революционного социализма, данную буржуазными и социалистическими реформистами, предлагать мирное и в союзе со стоящей над классами государственной властью осуществляемое решение этих вопросов. Союз абсолютизма, духовенства и пролетариата против буржуазии и интеллигенции – такова была единственная сколько-нибудь широкая идея, до которой представители старого режима доработались в течение предреволюционного периода в процессе борьбы за ограничение власти. 204 В. И. Вернадский ЗАДАЧИ НАУКИ В СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ В РОССИИ (1917) Совершенно другая область научных исследований выдвигается сейчас на первую очередь благодаря особенностям мирового положения России. Россия по своей истории, по своему этническому составу и по своей природе – страна не только европейская, но и азиатская. Мы являемся как бы представителями двух континентов, корни действующих в нашей стране духовных сил уходят не только в глубь европейского, но и в глубь азиатского былого; силы природы, которыми мы пользуемся, более связаны с Азией, чем с Европой, и мне кажется, что название Восточной Европы, которая почти совпадает с понятием Европейской России, далеко не охватывает всего того различия, какое представляет сейчас наше государство в общем сонме европейских стран. Для нас Сибирь, Кавказ, Туркестан – не бесправные колонии. На таком представлении не может быть построена база русского государства. Она может быть основана лишь на равноправии всех русских граждан. Мы должны чувствовать себя не только европейцами, но и азиатами, и одной из важнейших задач русской государственности должно являться сознательное участие в том возрождении Азии – колыбели многих глубочайших и важнейших созданий человеческого духа, которое сейчас нам приходится переживать. И едва ли можно сомневаться, что это возрождение, темп которого все увеличивается, является крупнейшим среди крупных мировых событий, свидетелями которых нам приходится быть. Для нас, в отличие от западных европейцев, возрождение Азии, то есть возобновление ее интенсивного участия в мировой жизни человечества, не есть чуждый, сторонний процесс – это есть наше возрождение. И, несомненно, в этом всемирно-историческом процессе европеизация Московской Руси в XVII веке сыграла крупную роль. С этой точки зрения необходимо более точное знакомство и более тесное общение России с жизнью Азии. И в этом направлении 205 должна сознательно идти наша государственная деятельность, этими стремлениями должна определяться государственная политика. Одной из первых и главнейших ее задач должно являться участие России и русских в культурном и духовном подъеме Азии, культурное наше сближение с азиатами. Одно из самых могучих средств для этого должно быть широкое наше участие в научном изучении Азии, совместная с азиатами работа русской молодежи в высшей школе, широкая работа азиатов в наших ученых учреждениях. Для создания этой духовной связи нет ничего сильнее научной творческой работы, ибо среди разнообразия других проявлений духовной жизни человечества, бесконечного разнообразия искусства, литературного творчества, религии и даже философии, единственным единящим и неизменным в человечестве является наука, в основах своих независимая от всяких человеческих отличий. Для этого необходимо не только предоставление широкой возможности молодежи Азии (русской и зарубежной) участия в высших школах и научных институтах Европейской России, но мощное развитие соответствующих государственных учреждений в России азиатской, понимая под этим и Закавказье. В этом отношении наша государственная политика была удивительно близорука, я бы сказал, антинациональна, шла вразрез с интересами России. Лучшей иллюстрацией этому является долгая борьба кавказского общества, всех живущих в нем национальностей, в том числе и русской, с русским правительством за высшую школу на Кавказе. Борьба эта длилась десятилетия. Сейчас научные центры работы в виде высших школ, научных станций, обсерваторий, лабораторий только что начинают охватывать Азиатский материк. Россия в этом отношении играет печальную роль. Далеко впереди стоит Япония, хотя и в ней в этом отношении господствует узкоутилитарный взгляд на науку и научную работу; начинает в последнее время играть роль английская Индия. У нас только за последние годы начинает проясняться государственное творчество в этом отношении, но оно идет слабо, неуверенно, неполно. Мне кажется, что русская Азия должна быть возможно быстро покрыта государственной сетью высших школ и научных учреждений и что это явится самым могучим и прочным средством выявления скрытой силы нашей 206 государственной организации, и уже с одной этой точки зрения должно сильно отразиться на нашем мировом положении. В основе наших азиатских научных учреждений должно лежать всестороннее изучение прошлого и настоящего Азии в самых разнообразных их проявлениях – в области языкознания и истории, археологии, быта, фольклора, литературы, религии, искусства, музыки, экономических и материальных ресурсов. Нельзя забывать одного. Естественные производительные силы Азии в едва ли сравнимой степени превышают естественные производительные силы Европы, в частности, в нашей стране азиатская Россия не только по величине превышает Россию европейскую. Она превышает ее и по потенциальной энергии. По мере того как начинается правильное использование наших естественных производительных сил, центр жизни нашей страны будет все более и более передвигаться, как это уже давно правильно отметил Д. И. Менделеев, на восток, должно быть, в южную часть Западной Сибири. Россия во все большей и большей степени будет расти и развиваться за счет своей азиатской части, таящей в себе едва затронутые зиждительные силы. Это должна всегда помнить здравая государственная политика, которая должна смотреть всегда вперед, в будущее. С. М. Соловьев ПУТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (1916) Если германская мифология, подобно греческой, оказалась силой жизненной и культурной, то наша мифология, в силу своей неразвитости, скудости и мрачности, более напоминает мифологию этрусков. Народ с такой мифологией не имел в себе самом жизненной силы, способности к исторической жизни и культурному развитию. И наш народ сгинул бы с лица земли, как народ этрусский, если бы в самой колыбели своей не совершил подвиг самоотречения, не принял от греков христианскую веру. Принятие христианства совпадает с началом нашей истории. Вот типичная черта, отличающая нас от других народов Европы. Если 207 они имеют богатое языческое прошлое, богатое языческое наследие, которое в эпоху Ренессанса явилось грозным соперником христианства, то наше языческое прошлое есть прошлое доисторическое, уходящее во мглу первобытного варварства. Наше крещение было в то же время началом нашей истории, нашим рождением как народа государственного. С самого начала распространение грамоты, просвещения неразрывно связано у нас с распространением христианства. Первые наши просветители – монахи, первая академия – Печерская Лавра. Пути нашей торговли тесно связаны с путями наших церковных миссий. Наша цивилизация с самого начала является творением монахов и отшельников, проникающих до крайнего севера, как св. Стефан Пермский, просветитель пермяков и зырян. Христианство для России явилось не только возрождением духовным, оно спасло Россию от опасности исчезнуть с лица земли, подобно этрускам. Оно дало нашим предкам нравственный идеал и надежду на загробное спасение. А эти два начала охватили и преобразили собою и материальную жизнь. Раз поставлен идеал, раз цель впереди, раз возможно спасение и бессмертие, то дикие племена, как звери, укрывавшиеся в лесах и дебрях, соединяются в государство для общего дела, научаются жертвовать частью для общего, подчиняют материальные вожделения лица нравственному идеалу, отчего все общество укрепляется не только духовно, но и материально. Итак, русская история, русская культура начинаются с принятия христианства. Культуры не христианской не знает Древняя Русь. Монашеский идеал является в то же время идеалом князя, воина и пахаря. Двумя актами национального самоотречения отмечена первая страница русской истории. Первый акт – призвание варягов – приобщение себя к западно-европейской гражданственности. Второй акт – принятие христианства – приобщение себя православной Византии. Пусть факт призвания варягов отвергается большинством современных историков. Если это легенда, то важно возникновение этой легенды. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите владеть и княжить нами". Эта фраза не казалась обидной для на208 ционального чувства наших предков. Только много позднее русский патриотизм счел обязательной противоположную формулу: "Наша земля велика, обильна, и порядок в ней образцовый". Но здравый смысл наших предков был мудрее славянофильской иллюзии. Отсутствие порядка навсегда осталось коренной чертой русской жизни, как в области государственных и общественных дел, так и в области духовной. Другая легенда объясняет нам, почему наши предки предпочли греческую веру латинской. Главным мотивом явилось сильное впечатление, испытанное нашими послами за богослужением во храме византийской Софии... Красота богослужения привлекла русских к греческому обряду, а не византийский догматизм, чуждый непосредственному славянскому уму. Приняв от византийцев формы богопочитания, Киев не стремился подражать расслабленным формам византийского государственного управления. В отношении политическом русские явились победителями греков, но, как некогда римляне, приняли от побежденного народа его культурное сокровище, которым в то время для греческого народа была православная вера. Что же касается государственной жизни, то Киев был ближе к феодальной Европе, чем к Византии, формы его государственности были гибки и подвижны, он всегда чувствовал благотворное и гуманное влияние Запада. Киевская Русь составляла одну тесную семью с Западной Европой. Разрыв между римской и восточной церквами тогда еще только начинался, и Киев знал не только две формы богопочитания, но и единую христианскую Европу. Великий князь Ярослав Мудрый, этот Соломон Киевской Руси, законодатель, просветитель и творец Киевской Софии, скрепил союз с Францией тесными семейными узами. В 1048 г. в Киев прибыли три французских епископа просить у Ярослава руку его дочери Анны для короля Генриха I. Через год Генрих I и царевна Анна были коронованы в Реймсе. Этой королевой была выстроена в Санли церковь во имя святого Винцента. Сестра Анны, жены Владимира Святого, Феофания была супругой императора Отгона II. При Владимире католический миссионер 209 монах Бонифаций, ехавший проповедовать печенегам, был радушно принят и обласкан киевским князем. Папа Григорий VII поддерживал русского князя Изяслава против польского короля Болеслава, называя в посланиях Изяслава "королем русским". Так далека была Киевская Русь от славянофильского противоположения "Святой Руси" "безбожному Западу"... Военная, рыцарская Русь Киева напоминает своими настроениями "Илиаду". Можно бы привести много аналогий. Назовем здесь "Прощание Гектора с Андромахой" и "Плач Ярославны", тогда как торговая, приморская культура Новгорода ближе к быту ионической Греции, обрисованному в "Одиссее". Но на всей культуре лежит печать христианского идеала и византийского аскетизма. Князь Киева – это рыцарь-монах, но облик его много симпатичнее, чем облик рыцаря Западной Европы. Правда, мы не имели в Киеве поэтического культа Мадонны, но зато христианский идеал целомудрия, нищелюбия и смирения здесь воспринят более совершенно, чем на феодальном Западе. Нищелюбие, с Киевского периода и доныне, остается наиболее типичным признаком русского православия. Тот характер Киевской культуры, который сказался в церковных и литературных памятниках эпохи, особенно поражает при сравнении с памятниками Руси Московской. Вместо "Поучения Мономаха" – Домострой, вместо "Слова о полку Игореве" – былины, где нет ничего рыцарского, где только благоговение перед физической силой, хитрость и грязный цинизм в отношении к женщине. Это различие объясняется как эпохой, так и характером южной Руси, ее положением в тесном соседстве с народами Запада. Киевская Русь сознавала себя частью средневековой, христианской Европы. Правда, она была под сильным влиянием Византии, но разве не сильно было византийское влияние в Италии, напр., в Венеции и Равенне? Арена, где разыгралась кратковременная история Киевской Руси, была небольшая сравнительно область от Днепра до Карпат. Эта область со всех сторон была сжата культурными народностями Венгрии, Польши. В борьбе с этими народами Киев в то же время цивилизовался, тогда как из Византии шла ученость книжная. 210 Отметим также характер южно-русского племени, более талантливого, открытого, мужественного. Скоро ураган монгольского нашествия устранит со сцены нашей истории это племя, которому мы обязаны лучшим, что имеем. Историческая необходимость отодвинет центр нашей культуры на восток и север, даст силу и рост племени совершенно противоположного характера, племени холодному, расчетливому, упорному и терпеливому. Волны финской крови окончательно охладят русскую жизнь, монгольское иго наложит свое неизгладимое клеймо на быт, нравы, литературу, исказит язык запасом варварских слов. Византия, которая скоро оградится от запада китайской стеной и падет под ударами Ислама, завещает России, вместе с сокровищами эллинизма и православия и свою восточную замкнутость и неподвижность государственных форм. В то же время юг России будет отдан в жертву Польше, католичеству и внутренней анархии. Понемногу он начнет терять свои национальные черты и отставать от культурной работы, совершаемой на северо-востоке. Перейдем к характеристике следующего за Киевским Московского периода. Когда вихрь с Востока разрушил Киев и монголы наложили ярмо на Русь, резко обозначились два типа политики: политика южнорусская и политика северных князей. Рыцари южной Руси не теряли надежды вооруженной силой свергнуть монгольское иго. Даниил Романович Галицкий вступает с Римом в союз против монголов, подготовляет крестовый поход, строит крепости, и Папа венчает Даниила "венцом королевским". Но попытки Даниила оказались тщетными, Папа не сдержал своих обещаний. Очевидно, с разделением церквей начинает вырастать стена между Россией и Ватиканом. Даниил был последним представителем Киевской Руси с ее рыцарскими преданиями и феодализмом. В то же время, когда Даниил заключил союз с Римом, на севере выдвигается первый представитель нарождающегося великорусского типа, святой князь Александр Невский. Ему приходится обороняться с двух сторон: разбив на западе меченосцев, он расчетливо ладит с Ордой, начиная политику московских князей, возвышавшихся под покровительством Орды. Обладая в высокой степени великорусскими чертами, терпением, упорством и смирением, Алек- 211 сандр религиозен не менее, чем киевские князья. Явившись в Орду смиренным данником, он мужественно отказывается от поклонения идолам, чем вызывает восхищение самого хана, и оканчивает жизнь схимником. Многое изменилось с переходом гегемонии от Киева к Москве, но осталось неизменным и продолжало развиваться верховное руководительство церкви в делах государственных... Россия медленным и верным путем из системы феодальных княжеств идет к образованию империи типа империи Римской и Византийской. Церковный ореол Византии переходит на Москву, где деятельность епископа и князя так тесно сплетены, что управление является подчас чисто теократическим. Московский Кремль начинает обращать на себя взоры Ватикана, который предпринимает ряд попыток к церковному соединению с отдаленной столицей Рутенов. Благоприятный момент для соединения наступил с назначением на московскую митрополичью кафедру грека Исидора. Исидор был вполне человеком Возрождения, гуманистом светского закала, поклонником унии и Рима. На флорентийском соборе он подписывает акт о соединении Москвы с Римом, причем несогласных с ним представителей русского духовенства заключает в оковы. Уже из этого поступка видно, чего могла ожидать далее русская церковь со стороны Ватикана. Можно только удивляться великодушию Василия Темного, который дал Исидору возможность бежать из Москвы и принять в Риме сан кардинала. Вмешательством Василия Россия спасена была от унии, от подчинения Риму, который переживал глубокий кризис: под предлогом гуманизма в Ватикане откровенно возрождалось античное язычество, тогда как Россия была хранительницей святоотеческого предания. После неудачи Исидора Ватикан делает новую попытку ввести унию в России. После падения Константинополя дочь Фомы Палеолога, Зоя, нашла себе приют в Риме. Папа надеялся, выдав ее замуж за московского князя Ивана III, через ее влияние склонить Ивана к унии. Но он обманулся в расчетах. Зоя, вступившая на московский престол под именем Софии, всего менее была склонна действовать в духе католической пропаганды. Наоборот, она принесла с собою в Кремль 212 византийские традиции, чем был нанесен последний удар остаткам русского феодализма. Иван начал править самодержавно и наконец закончил дело своих предшественников, сверг монгольское иго. В то же время София привезла с собою из Италии дух Возрождения, итальянских архитекторов, художников, мастеров и т. д. Можно предположить, что она привезла с собою и рукописи греческие и латинские. Таким образом было положено начало русского возрождения. Скоро из монастырей наших выйдет пророчество о Москве как третьем Риме. Наконец Иван IV, с его гениальным умом, воспитанным на византийской литературе, примет титул царя и создаст себе искусственную генеалогию, возведя свой род к ОктавиануАвгусту. Роль церкви так была значительна во все время развития Московского государства, что явилась естественной перемена в титуле московского епископа: как равный в правах с главами восточных церквей, московский епископ при Феодоре Ивановиче принимает титул патриаршеский... То, что современные нам историки рисуют как сплошное мракобесие, было на самом деле высокой культурой византийского типа. Строгий византизм Киевской Софии смягчился гением итальянского Возрождения в соборах Московского Кремля. Иван IV поставил себе роскошный памятник – собор Василия Блаженного, представляющий пестрое и восхитительное смешение стилей византийского и азиатского. Многовековое удаление от Запада, перенесение столицы к Востоку, порабощение монгольское – все это способствовало выработке особого религиозного типа, который и до наших дней остается по преимуществу типом русской святости. Этот московский идеал святости, конечно, страдает некоторой односторонностью, поскольку одни черты христианства, в силу исторических условий, развились в ущерб другим. Развитие человеческой личности было придавлено многовековым гнетом татар и самодержавием Москвы. Появляются смирение, покорность, черта прекрасная в деле религии, но в мирской жизни легко вырождающаяся в отсутствие чувства собственного достоинства, в бездеятельность и лень. Христианство, всегда имеющее две стороны, деятельную и созерцательную, делается по преимуществу со- 213 зерцательным, в духе восточных религий. Соблюдение обрядов и почитание икон – существенная часть христианства – в силу косности, неподвижности и отсутствия новых впечатлений, вырождается в суеверие, ханжество и идолопоклонство. Смирение перед Богом вырождается в смирение перед сильными мира сего. Побеждается гордость, но за это вырастают другие, менее явные, но не менее гибельные пороки: лживость и лицемерие. Византийский аскетизм придушает естественные побуждения человеческой природы, но не умерщвленная, а только заглушенная, природа вступает на путь извращения и тайных пороков. Общая пришибленность, отсутствие интересов, отсутствие поприща для деятельности – все это угашает в человеке его человеческое достоинство, он начинает слабеть и впадает в скотское состояние. Такова была картина Московской Руси, когда, по воле Провидения, Россия досталась в руки гениального царя, которому было суждено вдохнуть в Россию новую жизнь. Когда Россия утратила чувство солидарности с Европой, когда на фоне цареградского золота свершили великие подвиги отречения и безмолвия немногие избранные сосуды благодати, а вся мирская жизнь, вся проза жизни превратилась в сплошную грязь, пьянство и безделье, тогда на это поле, засеянное плевелами, пришел великий жнец, явился Петр. Своими могучими руками он принялся выдергивать плевелы, но выдернул и пшеницу. Объявив борьбу азиатскому образу, который приняла Россия, Петр подрезал корни той силы, которая в течение стольких веков двигала жизнь русского народа, он превратил церковь в отрасль государственного управления. Колоссальный образ Петра заслонил другую более скромную фигуру, фигуру его отца, тишайшего царя Алексея Михайловича. Между тем, уже Алексей Михайлович вступил на путь реформы и раскрыл двери Западу. При нем Россия была готова вступить на свой прежний путь, путь, проложенный князьями Киева. Не покидая византийского своего облика, Московский двор перестал бояться гостей с Запада. 214 Алексей Михайлович был культурнее и тоньше своего великого сына. Петр был талантливый инженер и администратор, но в вопросах культуры он "рубил с плеча", по-мужицки. Алексей Михайлович более приближался по своему типу к королям западных дворов. С большим для того времени образованием, со знанием философии и богословия, с утонченным художественным вкусом, который проявился в прекрасном стиле его писем, Алексей Михайлович был глубокий церковник и мистик. Соблюдая все уставы, он не был человеком обряда и формы, чем выгодно отличался от большинства своих современников. Его церковность постоянно согревалась горевшим в нем мистическим огнем. Он умел окружить себя людьми талантливыми и образованными. Тот кружок грекофилов, из которого вышла церковная реформа Никона, подготовлял коренное перерождение и обновление церкви, застывшей в неподвижных формах. Так, неподвижность и косность, которой всегда отличалась Москва, была преодолеваема наплывом культурных сил с юго-запада. Киевские монахи работали в новоучрежденной славяно-греко-латинской академии. Отметим два течения при дворе: греческое, во главе которого стоял Епифаний Славеницкий, и латинское, во главе которого стоял Симеон Полоцкий. Прилив культурных сил с юго-запада вызвал жестокую реакцию на диком востоке и севере: появился раскол. В то время Малороссия, тяготевшая попеременно то к Польше, то к Москве, окончательно примкнула к Москве. Алексей Михайлович обещал грекам освобождение от турецкого ига. Для теократически настроенного государя, конечно, желанен был престол Византии. Понятия церкви, реформы, просвещения при Алексее Михайловиче не исключали друг друга, а восполняли. Не то было при его сыне. Исходя из правильной идеи приобщения России к западной цивилизации, встретив противодействие в некоторых лицах церковных, Петр обошелся с церковью слишком просто и самовластно. Дав ход таким сомнительным лицам, как Феофан Прокопович, он начал борьбу уже не с ханжеством и суеверием, а с подлинными заветами православия. Как натура примитивная и грубая, Петр в противоположность своему 215 отцу, был настроен несколько рационалистически. Если в допетровской Руси созерцательно-аскетический идеал вытеснил собою другие идеалы христианства, то Петр склонен был понимать всякое монашество, как бегство от службы и тунеядство. Запрещено было просить милостыню – дело неслыханное в Киевской и Московской Руси, всегда помнившей завет Спасителя о нищих. Если при благочестивом Алексее Михайловиче в раскол ушли только крайне упорные элементы общества, то при деятельности Феофана Прокоповича массами уходили в раскол сравнительно умеренные люди, не желавшие изменять вере отцов. Меры, которые принимались против них, всего менее можно было назвать европейскими, и они показали, как сильна была в Петре та азиатская, варварская закваска, которую он думал истребить в России. И вот, в результате деятельности Петра, Россия в смысле духовной культуры, представляет одни развалины. Под влиянием страшного вывиха, подобного которому не приходилось испытывать никакому другому народу, Россия оказалась разбитой на две части, во всем противоположные друг другу: народ, невежественный, но сохранивший идеалы православия, и двор, общество, без всякой религии, без всякой традиции, жалкий и безобразный сколок немецких Версалей, где правили такие сомнительные особы, как Екатерина 1-я и Анна Иоановна, отдав Россию на жертву немецким паразитам, фаворитам, временщикам. Век Елисаветы и Екатерины П был первым пробуждением национального чувства после того обморока, в который оно было повергнуто при наследниках Петра. Что-то русское зазвучало в стихах первых наших поэтов Ломоносова и Державина, но все же они пели еще с чужого голоса. Православие – вера русская, вера народная – лежало разбитое, обесславленное. Если Державин обращался к религиозной поэзии, то его оды кажутся списком с немецких од. Величие и слава Екатерининского века – слава "просвещенного абсолютизма". Относительно церкви, вздохнувшей было при набожной Елисавете, Екатерина продолжала и усиливала политику Петра I. За противоречия правительственным мерам видные пастыри церкви затерзывались по тюрьмам. Все привилегии получило дворянство, 216 ушедшее в подражание Западу и потерявшее национальный облик. Народ, церковь – были парализованы. Но в эту эпоху гонения православие безмолвно и твердо копило свои силы. Забитое, заглушенное в официальных сферах, оно все ярче разгоралось в недрах темного, нищего народа; промчится полвека, и оно встало, заговорило, оно нашло своих пророков. Первые, кто заговорил от лица народа, кто бросил вызов казенному Петербургу, были Пушкин и Гоголь... Мы проследили процесс постепенного овосточивания России. Небольшое европейское государство, заключенное между Карпатами и Днепром, раскидывается далеко на восток, делается скорее азиатским, чем европейским, пока, наконец, история не останавливает этого движения России к востоку, движения стихийного и бессознательного. Происходит роковая катастрофа на Дальнем Востоке, и после нее десять лет разложения русской жизни. Но вот Россия оказывается во главе европейской коалиции, с честью играет свою роль, и позор своего поражения на Дальнем Востоке искупает трофеями на Западе. Самая коренная русская область, Галиция, Галицкая Русь, возвращается к нам; будущее нашей культуры тесно связывается с югозападом. Юго-запад России – Литва, Польша, Украина и Галиция – в близком будущем должен играть видную и благодарную роль, прежде всего роль религиозную. В. И. Ленин ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1918) Если взять масштаб западноевропейских революций, мы стоим сейчас приблизительно на уровне достигнутого в 1793 году и в 1871 году. Мы имеем законное право гордиться, что поднялись на этот уровень и в одном отношении пошли, несомненно, несколько дальше, именно: декретировали и ввели по всей России высший тип государства, Советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но решающего в этом отношении еще не осуществили. 217 Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать – эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора, как и все прогрессы капитализма, соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и контроля и т. д. Советская республика во что бы то ни стало должна перенять все ценное из завоеваний науки и техники в этой области. Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма. Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление ее. Н. С. Трубецкой ЕВРОПА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (1920) Космополит отрицает различия между национальностями. Если такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру. Нецивилизованные народы должны понять эту культуру, приобщиться к ней и, войдя в семью цивилизованных народов, идти с ними вместе по одному пути мирового прогресса. Цивилизация есть высшее благо, во имя которого надо жертвовать национальными особенностями. В такой формулировке шовинизм и космополитизм, действительно, как будто резко отличаются друг от друга. В первом господство постулируется для культуры одной этнографическиантропологической особи, во втором – для культуры сверх этнографического человечества. Однако, посмотрим, какое содержание вкладывают европейские космополиты в термины "цивилизация" и "цивилизованное человече218 ство"? Под "цивилизацией" они разумеют ту культуру, которую в совместной работе выработали романские и германские народы Европы. Под цивилизованными народами – прежде всего опять-таки тех же романцев и германцев, а затем и те другие народы, которые приняли европейскую культуру. Таким образом, мы видим, что та культура, которая, по мнению космополитов, должна господствовать в мире, упразднив все прочие культуры, есть культура такой же определенной этнографическиантропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шовинист. Принципиальной разницы тут никакой нет. В самом деле, национальное, этнографически-антропологическое и лингвистическое единство каждого из народов Европы яляется лишь относительным. Каждый из этих народов представляет собою соединение разных, более мелких этнических групп, имеющих свои диалектические культурные и антропологические особенности, но связанных друг с другом узами родства и общей истории, создавшей некий общий для всех их запас культурных ценностей. Таким образом, шовинист, провозглашающий свой народ венцом создания и единственным носителем всех возможных совершенств, на самом деле является поборником целой группы этнических единиц. Мало того, ведь шовинист хочет, чтобы и другие народы слились с его народом, утратив свою национальную физиономию. Ко всем представителям других народов, которые уже так поступили, утратили свой национальный облик и усвоили язык, веру и культуру его народа, шовинист будет относиться, как к своим людям, будет восхвалять те вклады в культуру его народа, которые будут сделаны этими людьми, конечно, только если они верно усвоили тот дух, который ему симпатичен, и сумели вполне отрешиться от своей прежней национальной психологии. К таким инородцам, ассимилировавшимся с господствующим народом, шовинисты всегда относятся несколько подозрительно, особенно если их приобщение совершилось не очень давно, но принципиально их ни один шовинист не отвергает; мы знаем даже, что среди европейских шовинистов есть немало людей, которые своими фамилиями и антропологическими признаками ясно показывают, что по происхождению 219 они вовсе не принадлежат к тому народу, господство которого они так пламенно проповедывают. Если мы возьмем теперь европейского космополита, то увидим, что, по существу, он не отличается от шовиниста. Та "цивилизация", та культура, которую он считает наивысшей и перед которой, по его мнению, должны стушеваться все прочие культуры, тоже представляет собою известный запас культурных ценностей, общий нескольким народам, связанным друг с другом узами родства и общей историей. Как шовинист отвлекается от частных особенностей отдельных этнических групп, входящих в состав его народа, так и космополит отбрасывает особенности культур отдельных романо-германсхих народов и берет только то, что входит в их общий культурный запас. Он тоже признает культурную ценность за деятельностью тех не-романогерманцев, которые вполне восприняли цивилизацию романогерманцев, отбросив от себя все, что противоречит духу этой цивилизации, и променяв свою национальную физиономию на общероманогерманскую. Точь-в-точь, как шовинист, считающий "своими" тех инородцев и иностранцев, которые сумели вполне ассимилироваться с господствующим народом! Даже та враждебность, которую испытывают космополиты по отношению к шовинистам и вообще к тем началам, которые обособляют культуру отдельных романо-германских народов, даже эта враждебность имеет параллель в миросозерцании шовинистов. Именно, шовинисты всегда враждебно настроены ко всяким попыткам сепаратизма, исходящим из отдельных частей их народа. Они стараются стереть, затушевать все те местные особенности, которые могут нарушить единство их народа. Таким образом, параллелизм между шовинистами и космополитами оказывается полным. Это, по существу, одно и то же отношение в культуре той этнографически-антропологической единицы, к которой данный человек принадлежит. Разница лишь в том, что шовинист берет более тесную этническую группу, чем космополит; но при этом шовинист все же берет группу не вполне однородную, а космополит, со своей стороны, все же берет определенную этническую группу. Значит, разница только в степени, а не в принципе. 220 При оценке европейского космополитизма надо всегда помнить, что слова "человечество", "общечеловеческая цивилизация" и прочее являются выражениями крайне неточными и что за ними скрываются очень определенные этнографические понятия. Европейская культура не есть культура человечества. Это есть продукт истории определенной этнической группы. Германские и кельтские племена, подвергшиеся в различной пропорции воздействию римской культуры и сильно перемешавшиеся между собой создали известный общий уклад жизни из элементов своей национальной и римской культуры. В силу общих этнографических и географических условий они долго жили одною общей жизнью, в их быте и истории, благодаря постоянному общению друг с другом, общие элементы были настолько значительны, что чувство романо-германского единства бессознательно всегда жило в них. Со временем, как у столь многих других народов, у них проснулась жажда изучать источники их культуры. Столкновение с памятниками римской и греческой культуры вынесло на поверхность идею сверхнациональной, мировой цивилизации, идею, свойственную греко-римскому миру. Мы знаем, что эта идея была основана опять-таки на этнографически-географических причинах. Под "всем миром" в Риме, конечно, разумели лишь ... народы, населявшие бассейн Средиземного моря или тянувшиеся к этому морю, выработавшие в силу постоянного общения друг с другом ряд общих культурных ценностей и, наконец, объединившиеся благодаря нивелирующему воздействию греческой и римской колонизации и римского военного господства. Как бы то ни было, античные космополитические идеи сделались в Европе основой образования. Попав на благоприятную почву бессознательного чувства романо-германского единства, они и породили теоретические основания так называемого европейского "космополитизма", который правильнее было бы называть откровенно общеромано-германским шовинизмом. Вот реальные исторические основания европейских космополитических теорий. Психологическое же основание космополитизма – то же самое, что и основание шовинизма. Это разновидность того бессознательного предрассудка, той особой психологии, которую лучше 221 всего назвать эгоцентризмом. Человек с ярко выраженной эгоцентрической психологией бессознательно считает себя центром вселенной, венцом создания, лучшим, наиболее совершенным из всех существ... Человек, уверенный в том, что он всех умнее, всех лучше и что все у него хорошо, подвергается насмешкам окружающих, а если он при этом агрессивен, получает и заслуженные щелчки. Семьи, наивно убежденные в том, что все их члены гениальны, умны и красивы, обыкновенно служат посмешищем для своих знакомых, рассказывающих о них забавные анекдоты. Такие крайние проявления эгоцентризма редки и обыкновенно встречают отпор. Иначе обстоит дело, когда эгоцентризм распространяется на более широкую группу лиц. Здесь отпор тоже обыкновенно имеется, но сломить такой эгоцентризм труднее. Чаще всего дело разрешается борьбой двух эгоцентрически настроенных групп, причем победитель остается при своем убеждении... С приобщением к чужой культуре не надо отождествлять смешение культур. Как общее правило, надо сказать, что при отсутствии антропологического смешения возможно именно лишь смешение культур. Приобщение, наоборот, возможно лишь при антропологическом смешении. Таковы, напр, приобщение манжуров к культуре Китая, гиксов – к культуре Египта, варягов и тюрко-болгар – к культуре славян и т. д., далее – приобщение пруссов, полабов и лужичан (в этом последнем случае пока еще не полное) к культуре немцев. Таким образом, и ... на вопрос: "возможно ли полное приобщение целого народа к культуре, созданной другим народом, без антропологического смешения обоих народов?" – приходится также ответить отрицательно... Но, если европейская цивилизация ничем не выше всякой другой, если полное приобщение к чужой культуре невозможно и если стремление к полной европеизации сулит всем не-романо-германским народам самую жалкую и трагическую участь, то очевидно, что с европеизацией этим народам надо бороться из всех сил. И вот тут-то возникает ужасный вопрос: что если эта борьба невозможна и если всеобщая европеизация есть неизбежный мировой закон? 222 С виду многое говорит за то, что это действительно так. Когда европейцы встречаются с каким-нибудь не-романо-германским народом, они подвозят к нему свои товары и пушки. Если народ не окажет им сопротивления, европейцы завоюют его, сделают своей колонией и европеизируют его насильственно. Если же народ задумает сопротивляться, то для того, чтобы быть в состоянии бороться с европейцами, он принужден обзавестись пушками и всеми усовершенствованиями европейской техники. Но для этого нужны, с одной стороны, фабрики и заводы, а с другой – изучение европейских прикладных наук. Но фабрики немыслимы без социально-политического уклада жизни Европы, а прикладные науки – без наук "чистых". Таким образом, для борьбы с Европой народу, о котором идет речь, приходится шаг за шагом усвоить всю современную ему романо-германскую цивилизацию и европеизироваться добровольно. Значит, и в том и в другом случае европеизация как будто неизбежна. Все только что сказанное может породить впечатление, будто бы европеизация является неизбежным последствием наличности у европейцев военной техники и фабричного производства товаров. Но военная техника есть следствие милитаризма, фабричное производство – следствие капитализма. Милитаризм же и капитализм не вечны. Они возникли исторически и, как предсказывают европейские социалисты, скоро должны погибнуть, уступив место новому социалистическому строю. Выходит, что противники всеобщей европеизации должны мечтать об установлении в европейских странах социалистического строя. Однако, это не более, как парадокс. Социалисты более всех европейцев настаивают на интернационале, на воинствующем космополитизме, истинная сущность которого уже раскрыта нами в начале этой работы. И это не случайно. Социализм возможен только при всеобщей европеизации, при нивелировке всех национальностей земного шара и подчинении их всех единообразной культуре и одному общему укладу жизни. Если бы социалистический строй утвердился в Европе, европейским социалистическим государствам пришлось бы прежде всего огнем и мечом водворить тот же строй во всем мире, а после этого зорко следить за тем, чтобы ни один народ не изменил 223 этому строю. Иначе, т. е. в том случае, если бы где-либо сохранился уголок земного шара, не затронутый социализмом, этот "уголок" сразу сделался бы новым рассадником капитализма. Но для того, чтобы быть на страже социалистического строя, европейцам пришлось бы поддерживать свою военную технику на прежней высоте и оставаться вооруженными до зубов. А т. к. такое вооруженное состояние части "человечества" всегда грозит независимости других частей того же человечества, которые, несмотря на все заверения, все-таки будут чувствовать себя неуютно по соседству с вооруженными людьми, то в результате состояние вооруженного мира распространится, конечно, на все народы земного шара. Далее, ввиду того, что все романогерманские народы давно уже привыкли пользоваться для своей материальной культуры и для удовлетворения своих насущных потребностей предметами и продуктами, производимыми вне территории Европы, то международная, и особенно "колониальная", торговля непременно сохранятся и при социалистическом строе, причем эта торговля, конечно, будет носить особый характер в связи с особенностями социалистического хозяйства вообще. Главным предметом вывоза из романо-германских стран по-прежнему останутся товары фабричного производства. Таким образом, оба стимула европеизации, существующие в настоящее время, военная техника и фабричное производство, сохранятся и при социалистическом строе. К ним только еще присоединятся новые стимулы в виде требования единого социалистического уклада жизни во всех странах, требования неизбежного, ибо социалистическое государство может торговать лишь с социалистическими же государствами. Что касается до тех отрицательных последствий европеизации, о которых мы говорили выше, то они сохранятся при социалистическом строе совершенно так же, как при строе капиталистическом... Петр Великий в начале своей деятельности хотел заимствовать у "немцев" лишь их военную и мореплавательную технику, но постепенно сам увлекся процессом заимствования и перенял многое лишнее, не имеющее прямого отношения к основной цели. Все же он не переставал сознавать, что рано или поздно Россия, взяв из Европы все, 224 что ей нужно, должна повернуться к Европе спиной и продолжать развивать свою культуру свободно, без постоянного "равнения на запад". Но он умер, не подготовив себе достойных преемников. Весь восемнадцатый век прошел для России в недостойном поверхностном обезьянничании с Европы. К концу этого века умы верхов русского общества уже пропитались романо-германскими предрассудками, и весь девятнадцатый и начало двадцатого века прошли в стремлении к полной европеизации всех сторон русской жизни, причем Россия усвоила именно те приемы "скачущей эволюции", о которых мы говорили выше. На наших глазах та же история готова повториться в Японии, которая первоначально хотела заимствовать у романо-германцев лишь военную и флотскую технику, но постепенно в своем подражательном стремлении пошла гораздо дальше, так что в настоящее время значительная часть "образованного" общества и там усвоила методы романо-германского мышления; правда, европеизация в Японии до сих пор еще умерялась здоровым инстинктом национальной гордости и приверженностью к историческим традициям, но, кто знает, долго ли удержатся японцы на этой позиции. И все же, даже если признать, что предлагаемое нами решение вопроса до сих пор не имело исторических прецедентов, из этого еще не следует, чтобы самое решение было невозможно. Все дело заключается в том, что до сих пор истинная природа европейского космополитизма и других европейских теорий, основанных на эгоцентрических предрассудках, осталась не раскрытой. Не сознавая всей неосновательности эгоцентрической психологии романо-германцев интеллигенция европеизированных народов, т. е. та часть этих народов, которая наиболее полно воспринимает духовную культуру романогерманцев, до сих пор не умела бороться с последствиями этой стороны европейской культуры и доверчиво шла за романо-германскими идеологами, не чувствуя подводных камней на своем пути. Вся картина должна коренным образом измениться, лишь только эта интеллигенция начнет сознательно относиться к делу и подходить к европейской цивилизации с объективной критикой. 225 Таким образом, весь центр тяжести должен быть перенесен в область психологии интеллигенции европеизированных народов. Эта психология должна быть коренным образом преобразована. Интеллигенция европеизированных народов должна сорвать со своих глаз повязку, наложенную на них романо-германцами, освободиться от наваждения романо-германской идеологии. Она должна понять вполне ясно, твердо и бесповоротно: что ее до сих пор обманывали; что европейская культура не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной и определенной этнической или этнографической группы народов, имевших общую историю; что только для этой определенной группы народов, создавших ее, европейская культура обязательна; что она ничем не совершеннее, не "выше" всякой другой культуры, созданной иной этнографической группой, ибо "высших" и "низших" культур и народов вообще нет, а есть лишь культуры и народы более или менее похожие друг на друга; что поэтому усвоение романо-германской культуры народом, не участвовавшим в ее создании, не является безусловным благом и не имеет никакой безусловной моральной силы; что полное, органическое усвоение романо-германской культуры (как и всякой чужой культуры вообще), усвоение, дающее возможность и дальше творить в духе той же культуры нога в ногу с народами, создавшими ее, возможно лишь при антропологическом смешении с романо-германцами, даже лишь при антропологическом поглощении данного народа романо-германцами; что без такого антропологического смешения возможен лишь суррогат полного усвоения культуры, при котором усваивается лишь "статика" культуры, но не ее "динамика", т. е. народ, усвоив современное состояние европейской культуры, оказывается неспособным к дальнейшему развитию ее и каждое новое изменение элементов этой культуры должен вновь заимствовать у романо-германцев; что при таких условиях этому народу приходится совершенно 226 отказаться от самостоятельного культурного творчества, жить отраженным светом Европы, обратиться в обезьяну, непрерывно подражающую романо-германцам; что вследствие этого данный народ всегда будет "отставать" от романо-германцев, т. е. усваивать и воспроизводить различные этапы их культурного развития всегда с известным запозданием и окажется, по отношению к природным "европейцам", в невыгодном, подчиненном положении, в материальной и духовной зависимости от них; что, таким образом, европеизация является безусловным злом для всякого не-романо-германского народа; что с этим злом можно, а следовательно, и надо бороться всеми силами. Все это надо сознать не внешним образом, а внутренне; не только сознать, но прочувствовать, пережить, выстрадать. Надо, чтобы истина предстала во всей своей наготе, без всяких прикрас, без остатков того великого обмана, от которого ее предстоит очистить. Надо, чтобы ясной и очевидной сделалась невозможность каких бы то ни было компромиссов: борьба так борьба. Все это предполагает, как мы сказали выше, полный переворот, революцию в психологии интеллигенции не-романо-германских народов. Главною сущностью этого переворота является сознание относительности того, что прежде казалось безусловным: благ европейской "цивилизации". Это должно быть проведено с безжалостным радикализмом. Сделать это трудно, в высшей степени трудно, но вместе с тем и безусловно необходимо. Переворот в сознании интеллигенции не-романо-германских народов неизбежно окажется роковым для дела всеобщей европеизации. Ведь до сих пор именно эта интеллигенция и была проводником европеизации, именно она, уверовавши в космополитизм и "блага цивилизации" и сожалея об "отсталости" и "косности" своего народа, старалась приобщить этот народ к европейской культуре, насильственно разрушая все веками сложившиеся устои его собственной, самобытной культуры. 227 И. В. Сталин ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА XVI СЪЕЗДУ ВКП(Б) (1930) Если охарактеризовать в двух словах истекший период, его можно было бы назвать периодом переломным. Он был переломным не только для нас, для СССР, но и для капиталистических стран всего мира. Но между этими двумя переломами существует коренная разница. В то время, как перелом этот означал для СССР поворот в сторону нового, более серьезного экономического подъема, для капиталистических стран перелом означал поворот к экономическому упадку. У нас, в СССР, растущий подъем социалистического строительства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. У них, у капиталистов, растущий кризис экономики и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Мы имеем два ряда факторов и две различных тенденции, действующие в противоположных направлениях. Политика подрыва экономических связей СССР с капиталистическими странами, провокационные наскоки на СССР, явная и скрытая работа по подготовке интервенции против СССР. Это – факторы, угрожающие международному положению СССР. Действиями этих факторов объясняются такие факты, как разрыв английского консервативного кабинета с СССР, захват КВДЖ китайскими милитаристами, финансовая блокада СССР, "поход" клерикалов во главе с папой против СССР, организация вредительства наших спецов агентами иностранных государств, организация взрывов и поджогов, вроде тех, которые были проделаны некоторыми служащими "ЛенаГольдфильдс", покушения на представителей СССР (Польша), придирки к нашему экспорту (САСШ, Польша) и т. п. Сочувствие и поддержка СССР со стороны рабочих капиталистических стран, рост экономического и политического могущества СССР, рост обороноспособности СССР, политика мира, неизменно проводимая Советской властью. Это – факторы, укрепляющие международное положение СССР. Действиями этих факторов объясняются такие факты, как успешная ликвидация конфликта на КВДЖ, восста228 новление сношений с Великобританией, рост экономических связей с капиталистическими странами и т. д. При условии предоставления нам кредитов мы согласны платить небольшую долю довоенных долгов, рассматривая их как добавочный процент на кредиты. Без этого условия мы не можем и не должны платить. От нас требуют большего? На каком основании? Разве не известно, что эти долги были сделаны царским правительством, которое было свергнуто революцией и за обязательства которого Советское правительство не может брать на себя ответственности? Говорят о международном праве, о международных обязательствах. Но на основании какого международного права отсекли господа "союзники" от СССР Бессарабию и отдали ее в рабство румынским боярам? По каким международным обязательствам капиталисты и правительства Франции, Англии, Америки, Японии напали на СССР, интервенировали его, грабили его целых три года и разоряли его население? Если это называется международным правом и международным обязательством, то что же называется тогда грабежом?.. Нет, кажется, стран, более "отгороженных" от русских большевиков, чем Китай, Индия, Индокитай. И что же? Большевизм растет там и будет расти, несмотря на всякие "кордоны", так как есть там, очевидно, условия, благоприятствующие большевизму... Наша политика есть политика мира и усиления торговых связей со всеми странами. Результатом этой политики является улучшение отношений с рядом стран и заключение ряда договоров по торговле, технической помощи и т. д. Ее же результатом является присоединение СССР к пакту Келлога, подписание известного протокола по линии пакта Келлога с Польшей, Румынией, Литвой и т. д., подписание протокола о продлении действия договора с Турцией о дружбе и нейтралитете. Наконец, результатом этой политики является тот факт, что нам удалось отстоять мир, не дав врагам вовлечь себя в конфликты, несмотря на ряд провокационных актов и авантюристские наскоки поджигателей войны. Эту политику мира будем вести и впредь всеми силами, всеми средствами. Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому. 229 Г. П. Федотов СУДЬБА ИМПЕРИЙ (1947) Правда, Россия является Империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре она занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, то есть качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в Империи Романовых был гораздо выше немецкого в Империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимилизационную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии. Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась вся та же русская Россия или даже святая Русь. Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век "екатерининских орлов", Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел "царевну киргизкайсацкой орды", а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет "и ныне дикий тунгуз и друг степей калмык". Кому из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову 230 вспоминать о тунгузах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонятной – искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам – универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова. После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждались Империя, все Империи как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, XIX век для большинства интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но, и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде порусски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался "Памятник"), и все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов. Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались представленными историками националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи. 231 Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был на столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальнозоркости. Несомненно, что параллельный немецкому русский Drang nach Osten оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако – как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими "колонизаторами", а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности – в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республики не угрожают целости России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые, несомненно, куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане? Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который "губил, ничтожил племена". Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить о Туркестане. Покоренный с 232 чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным. Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция – в том числе и националистическая – примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого – целое столетие – над душой польского народа, ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой "тюрьмы народов". Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими Империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали – а они выживали, вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной англий- 233 ской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих Империй Европы. Г. В. Вернадский ОПЫТ ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ (1934) В длительном процессе своего исторического развития русский народ освоил и объединил территорию Евразии в смысле политическом, экономическом и культурном, сперва в виде Российской Империи, затем в виде Советского Союза. Судьбы Евразии таким образом теперь прочно связаны с судьбою русского племени. Тем не менее и сейчас понятие истории Евразии не совпадает вполне с понятием русской истории, т. к. и сейчас помимо русского народа в Евразии живут иные народы, развитие которых тесно связано с развитием народа русского, но которые с русским народом не тождественны. Еще более наглядно это было в прошлые века, когда взаимные политические и культурные соотношения народов Евразии заметно отличались от настоящего времени; когда русский народ занимал лишь часть территории Евразии, а политическое первенство в Евразии принадлежало народам турко-монгольским. Русская история есть история русского народа в рамках Евразии, которые постепенно русским народом осваиваются. История Евразии есть история сообщества различных народов на почве Евразийского месторазвития, их взаимных между собою притягиваний и отталкиваний и их отношения вместе с порознь к внешним (вне-Евразийским) народам и культурам. Русская история и история Евразии должны взаимно дополнять друг друга, но обе одинаково имеют право на существование. Об этом здесь сказать необходимо, так как по поводу этого вопроса существует значительная путаница понятий. Со стороны некоторых представителей зарубежной русской историографии введение в историческую науку самого термина Евразии было встречено крайне враждебно 234 (А. А. Кизеветтер). С другой стороны, марксистская историография в России отрицает право на существование за предметом русской истории. «Термин "русская история" есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом" (М. Н. Покровский). Первая Всесоюзная конференция историков-марксистов (конец декабря 1928– начало января 1929) решительно отвергла термин "русская история" и вместо него постановила ввести в оборот термин "история народов СССР"». Конкретное содержание термина "истории народов СССР" не может считаться достаточно разработанным в марксистской историографии. По признанию самих советских историков этим термином отдельные представители марксистской историографии пользуются различно: иногда механически им заменяют понятие "русской истории", иногда подразумевают под ним лишь историю "нацменьшинств", т. е. бывших "инородцев". Советская историография в лице руководящих ее представителей начинает, однако, сознавать, что ни то, ни другое понимание, вкладываемое в термин "история народов СССР" не отвечает назревшей необходимости пересмотра прежних точек зрения на исторический процесс. Постепенно в советской историографии пробивается сознание того, что "историю народов СССР" нужно рассматривать как нечто совокупное, объединенное проекцией будущего культурноисторического единства. История народов СССР, рассматриваемая с точки зрения такого культурно-исторического единства, как история сложного биоценоза человеческих обществ на почве единого месторазвития – это и есть то, что мы называем Историей Евразии. Термин "история Евразии" кажется нам предпочтительнее термина "история народов СССР" потому, что подчеркивает единство и собранность исторического процесса, тогда как термин "история народов" предполагает изучение истории каждого народа враздробь и порознь. Следует еще иметь в виду, что история целого отнюдь не исключает истории частей этого целого. С нашей точки зрения, есть и 235 может быть история Евразии (как совокупности евразийских народов, или народов СССР), но наряду с этим есть и может быть история отдельных народов Евразии, или народов СССР. Во избежание недоразумений мы и предпочитаем употреблять термин "история Евразии", говоря об истории целого, т. е. всего биоценоза евразийских народов, чем разумеется нисколько не отрицается возможность изучения отдельных народов Евразии – или СССР, будут ли то "нацменьшинства" или преобладающая народность. С этой точки зрения странно отрицать право существования за наукою истории русского народа, как это делает современная марксистская историография. Подведем теперь итоги этому предварительному обследованию понятий. История Евразии есть история совокупности народов Евразии. Русская история есть отдел истории отдельных Евразийских народов – или народов СССР – причем русская история поневоле должна была включать в поле своего зрения геополитически все более и более широкую область, по мере того как русский народ в своем историческом развитии охватывал все большую и большую часть Евразийского месторазвития... Творцом и основным действующим лицом истории Евразии является население Евразии в совокупности составляющих его народов и их биоценозе. Историческое месторазвитие народов Евразии в их совокупности – то же, что месторазвитие народа Русского. Но в то время, как для народа Русского Евразия в целом является в средние века месторазвитием лишь потенциальным, а практически история собственно русская до половины XVI века развертывается преимущественно в рамках Евразии Западной ("Восточной Европы"), при изучении истории Евразии с самых ранних времен вся Евразия в целом является географическою базою. Гораздо более сложной задачею, чем при изучении истории России, является в истории Евразии изучение соотношения народности и территории. Должны приниматься в расчет давление и сопро- 236 тивление оказываемое друг на друга отдельными народностями Евразии, а равно и степень вовлечения каждой из них в сложный оборот общеевразийской культурной, политической и экономической жизни, при наличии, с одной стороны, сложных групповых и классовых противоречий, а с другой стороны – сил центростремительных и культурообразующих. Что касается месторазвития евразийской истории, т. е. Евразии как понятия географического, то здесь мы отсылаем читателя к Введению в книгу "Начертание Русской истории", а также к книгам П. Н. Савицкого, где понятие Евразии всесторонне обосновано. Что касается населения Евразии, то прежде чем говорить о ее народах как совокупности, необходимо взглянуть на них по отдельности, расчленив таким образом целое на части. Удобнее всего исходить при этом из нынешнего положения, взяв в основу этнический состав Советского Союза. Разумеется, нет нужды здесь перечислять все отдельные народности (которых считается в Советском Союзе 185). Ограничимся лишь более крупными группами. Наиболее крупною группою является русский народ (или русская семья народов: великорусы, украинцы, белорусы). Из всего населения Советского Союза в 147 миллионов человек (по переписи 1926 года) к русскому племени принадлежало около 114 миллионов человек (в том числе русских собственно, или великорусов, 78 миллионов, украинцев – 31 миллион, белорусов – до 5 миллионов). К этому следует причислить свыше 8 миллионов украинцев, живущих вне пределов Советского Союза (в Польше, Румынии, Чехословакии), свыше 3 миллионов белорусов, живущих на территории Польши, и около 300 000 великорусов в пределах Латвии и Эстонии. Общая цифра русской семьи на территории Советского Союза и смежных с нею составляет, следовательно, не менее 125 миллионов человек. Второе место по численности после русских занимают тюркские (иначе турецкие) народности – свыше 15 миллионов на территории Советского Союза. Из них наиболее значительны следующие группы: казаки (киргизы) вместе с каракиргизами – до 5 миллионов человек, 237 татары (поволжские и крымские) – 3 миллиона человек, башкиры – менее 1 миллиона, азербайджанские турки – до 2 миллионов, туркмены – менее 1 миллиона, узбеки – 4 миллиона, якуты – 1/4 миллиона, чуваши – более 1 миллиона. Монгольская группа в пределах Советского Союза (буряты и калмыки) не особенно численна, составляя менее 1/2 миллиона. На смежной с Союзом территории Внешней Монголии проживает около 1 миллиона монголов. К угро-финской группе народов относятся карелы (1/4 миллиона), мордва (1,5 миллиона), мари или черемисы (1/2 миллиона), вотяки (1/2 миллиона), коми или зыряне (1/4 миллиона) и прочие, всего около 3,5 миллионов. В общем численность народов так называемой урало-алтайской группы (турки, монголы, финны) составляет в пределах Советского Союза около 20 миллионов. Упомянем тут же тунгусо-маньчжурскую группу. Тунгусов в настоящее время считается всего около 40 000 человек. Не нужно, однако, забывать, что это остаток народности, игравшей некогда в истории Евразии весьма значительную роль. Из народностей индоиранской группы следует заметить таджиков (до 1 миллиона) и осетинов (свыше 1/2 миллиона). Что касается народов западной группы индоевропейской семьи народов, то из славян (кроме русских) наиболее численны поляки (3/4 миллиона). Немцы, главная масса которых переселилась в Россию в XVIII–XIX вв., составляют около 1,25 миллиона. Особо поставим кавказских яфетидов (армяне – свыше 1,5 миллионов, грузины – около 1,5 миллионов), куда причисляется и большинство горцев Кавказа (черкесы – 80 тысяч чел., кабардинцы – 140 тысяч, чеченцы – 320 тысяч, авары – 160 тысяч и многие другие племена и народности горного Кавказа). Наконец, следует иметь в виду, что в пределах Советского Союза обитает более 2,5 миллионов евреев. Из всех народностей руководящую роль в историческом развитии Евразии играли сначала турко-монголы, потом русские. На Сред- 238 нем Востоке (в Туркестане) большое значение имели индоиранцы. В Горном Кавказе и Закавказье коренным населением были яфетиды. Русские в настоящее время расселились по территории чуть не всей Евразии, преобладая по численности среди евразийских народов. В Средние Века положение было иным. Большинство территорий Евразии было заселено народами турко-монгольскими. По приблизительным соображениям можно думать, что в ХIII–XIV веках численность турко-монгольских племен на территории Евразии (около 10 миллионов человек) более или менее соответствовала численности русского народа, занимавшего тогда лишь часть Западной Евразии. Неоднородность населения Евразии по этническому составу и языковому признаку усугублялась в ходе исторического процесса еще многообразностью культур различных народов или групп народов Евразии. В отношении экономического быта одни народы Евразии были привержены преимущественно к скотоводству (турко-монголы), другие к лесной охоте и звероловству (угро-финны), третьи к земледелию и торговле (русские, индоиранцы). В отношении социального и политического строя также со Средних Веков было значительное разнообразие. Могут быть упомянуты различные формы родового и вотчинного ("феодального") быта среди турко-монгольских кочевников, земельно-вотчинный строй в русских и индоиранских государственных образованиях; демократический строй древнерусских городских республик и казачьих войск; вотчинно-рабовладельческие государства Среднего Востока; вотчинно-крепостные государственные формы, возобладавшие надолго в России. В отношении религиозных верований народы Евразии также с давних времен сильно различались между собою. После русской революции нет сколько-нибудь точных данных о принадлежности различных групп населения Евразии к той или иной церкви. По данным начала ХХ века масса русского народа принадлежала к христианству, для тюрских (турецких) племен обычной религией был ислам, для монголов – буддизм. Такое размежевание религий в соответствии с этническим составом населения не было исконным в Евразии, а яви- 239 лось результатом длительного исторического процесса. Во всяком случае ясно, что принадлежность к разным религиям должна была усугублять рознь между народами Евразии. В отношении искусства, науки, литературы – всего, что вместе с религиозными верованиями обычно обнимается именем духовной культуры – также было значительное многообразие между народами Евразии. И все же, при всех взаимных отталкиваниях народностей Евразии друг от друга, действовали также и силы взаимного притяжения их друг к другу. Результатом долгого исторического симбиоза явилось создание некоторых общих черт для народов Евразии.... Благодаря единству географического лика Евразии и наличию объединительных экономических факторов, в истории политических образований на территории Евразии постоянно проявлялось стремление евразийских народов к созданию единого государства, которое объединяло бы всю Евразию или значительную ее часть. Как только такое объединение бывало достигнуто, ему приходилось считаться с разлагающим влиянием центробежных сил – политических, этнических, психологических. Экономический объединительный фактор оказывался часто недостаточно сильным, а в отношении географическом давали себя чувствовать местные особенности рельефа, растительных зон или гидрографии, проступавшие на фоне общего географического единства Евразии. Благодаря преобладанию то сил центростремительных, то сил центробежных, процесс создания и жизни государственных образований на территории Евразии принял характер периодической ритмичности... Подобно тому, как в русской истории значительную роль играли и играют многообразные культурно-политические влияния извне, так и в истории Евразии такие влияния должны приниматься в расчет и, разумеется, являются еще гораздо более многообразными, чем в истории собственно русской. Взаимные культурные влияния различных стран и народов идут 240 обычно по путям международной торговли. За купцом и воином проникает в чужие страны монах и художник. По торговым путям проникали и к народам Евразии проповедники великих религий, которые почти все зародились в восточном углу Средиземноморья. Новые религиозные верования или вытесняли первобытную религию населения Евразии, или наслаивались на нее в разной степени и разных сочетаниях... История постепенного распространения великих религий среди отдельных народов Евразии и взаимодействие этих религий на почве Евразии тесно связаны с политической и общекультурной историей Евразии, представляя важный отдел евразийской истории. Процесс естественного развития религиозных воззрений народов Евразии со времени русской революции 1917 года прерван государственной пропагандой атеизма и материализма. Что получится в результате столкновения вековых религиозных устоев с новыми доктринами – сказать, разумеется, сейчас нельзя. Огромный психический сдвиг в духовной жизни народов Евразии во всяком случае неизбежен... В своеобразии деталей географического строения отдельных частей Евразии заключались также предпосылки возникновения особых политических групп в отдельных частях Евразии в периоды ее распада. По своему географическому положению окраинные части Евразии близко соприкасались с соседними внеевразийскими областями. Эти географические особенности обусловили торговые и общекультурные связи некоторых частей и народов Евразии с мирами внеЕвропейскими. На этой же почве проложены были и некоторые основные линии внешнеполитических отношений Евразии в целом или отдельных ее частей. На Крайнем Северо-Западе Евразии то были вопросы Лапландский и Балтийский – вековая борьба русского народа за доступы к побережьям Ледовитого океана (Мурман) и Балтийского моря, причем одно время немалую роль в русской экспансии сыграла монгольская поддержка. Здесь же следует упомянуть и соперничество из-за остро- 241 вов Ледовитого океана, лежащих между северо-западной оконечностью Евразии и Северным полюсом, в частности из-за Шпицбергена (Грумант). На Западном рубеже Евразии то была борьба за национальную целокупность русского народа. Опять-таки одно время монгольские силы поддерживали русский элемент на Днепре и к западу от него. Временами борьба русского народа с натиском западных его соседей – поляков, литовцев, немцев – утихала. Временами достигался компромисс – смешанное государственное образование с элементами как западной – латинской (римско-католической) культуры, так и русской православной культуры. Таким компромиссом было Литовско-русское государство XIV–XVII веков. В юго-западном углу Евразии то был вопрос ЧерноморскоБалканский, или вернее более широкий – вопрос о связях Евразии с Восточным Средиземноморьем вообще, тем, что обыкновенно именовалось и именуется в Европейской науке Ближним Востоком (термин, который в данном случае усвоила и наука русская). Вопрос этот был обоюдный – с одной стороны, это была тяга народов Евразии на Ближний Восток, с другой – влияние Ближнего Востока на Евразию политическое и культурное. В Средние Века одной из двух основных культурно-политических сил на Ближнем Востоке было Византийское царство. Оттуда пришло к русским христианство в форме православия, давшее на столетия окраску русской культуре и определившее особность ее от Запада. Другой силой Ближнего Востока были арабы, принесшие ислам турецким народам Евразии. Одному из турецких народов, оторвавшихся от почвы Евразии – туркам-османам – и суждено было под знаменем ислама уничтожить Византийское царство. Падение Византии не меняет основной геополитической схемы ближневосточных отношений Евразии... Правительствам Евразии, как объединенного политического целого, приходилось и приходится считаться с наследием (в их совокупности) международных проблем, ранее касавшихся отдельных частей Евразии порознь. 242 Географическая база обеспечивает Евразии возможность политического и хозяйственного самодовления. Но во всяких международных отношениях есть две стороны, а иногда и больше. Фактическое развитие евразийской международной политики зависит не только от народов Евразии, но и от народов внеевразийских... Ввиду того, что некоторые из народов Евразии связаны узами или этническими, или религиозно-культурными с некоторыми внеевразийскими народами, являются логические возможности для сепаратного выступления на международной арене отдельных народов или групп народов Евразии не только в прошлом, но и в будущем. Так возникают проблемы Панславизма, Пантюркизма, Панисламизма. Последняя может быть решена вне политических рамок, если подходить к ней со стороны не политической, а культурнорелигиозной только. Панславизм всегда являлся более утопией, чем орудием практической политики ввиду того, что группа славян западных (поляки, чехи) и геополитически, и культурно-исторически к Европе была и есть ближе, чем к России. Пантюркизм был особенно силен, пока мог быть практически связан с Панисламизмом и одушевлен его идеями. С ослаблением политической роли религий в наше время и с разрывом в османской Турции между пантюркизмом и панисламизмом, политическая позиция панисламизма представляется весьма ослабленной. Что касается пантюркизма, то поскольку целью его является отрыв турецких народов Евразии от политического объединения с этой последней, такое распадение Евразии (если оно было бы возможно) явилось бы в первую очередь крайне невыгодным для самих турецких народов, ныне входящих в состав Евразии. Течения панславизма и пантюркизма могли бы стать крупною силою и сыграть крупную политическую роль в случае их примирения между собою и согласованных между собою действий. В этом случае течения эти могли бы способствовать сближению и союзу между Евразией, с одной стороны, и зарубежными турецкими и славянскими народами – с другой. 243 Еще один -изм нужно упомянуть: паназиатизм, теорию, сейчас усиленно выдвигаемую японскою прессою в поддержку и обоснование японского империализма. "Азия – для азиатов" – конечно, при подразумеваемом условии японского руководства азиатами. В ответ на этот лозунг может быть выдвинуто положение "Евразия – для евразийцев". Если народы Евразии достаточно сознают свою взаимную связь и неразрывность своей исторической судьбы, то всякий лозунг, основанный на других геополитических основаниях, является, очевидно, лишь орудием чужого империализма в попытке его расщепить единство Евразии... Независимо от социально-экономической программы вождей Советской революции, их программа по национальному вопросу сумела задеть такие струны в душе народов Евразии, которые их притягивали к Москве, а не отталкивали от нее. Как бы ни относиться к советской идеологии и советской политике, нельзя не признать, что, по крайней мере, на некоторое время Москва сделалась маяком для угнетенных народов не только в самой Евразии, но и далеко за ее пределами. Не в коммунизме тут было дело, а именно в идее равноправия и свободы народов Востока, которые с давних пор были подвергнуты деспотизму изнутри и империалистическому хищничеству извне. Молния русской революции зажгла пожар на всем Востоке, и сейчас еще трудно предвидеть все его результаты... Результатом планового хозяйства, нового территориального распределения промышленности и зон специальных сельскохозяйственных культур, а также постройки новых железнодорожных линий – результатом всего этого является значительно более тесная связь между собою отдельных районов Евразии в хозяйственном отношении, чем то было раньше. При том очевидно, что, если процесс пойдет дальше в том же направлении, связь эта будет все увеличиваться. Этим путем достигается такое единство Евразии, которого прежде быть не могло. 244 А. Д. Сахаров ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ (1972) Я по-прежнему не могу не ценить большие благотворные изменения (социальные, культурные, экономические), которые произошли в нашей стране за последние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что аналогичные изменения имели место во многих странах и что они являются проявлением общемирового прогресса. Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи возможно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя. В капиталистических странах этот процесс должен сопровождаться дальнейшим усилением элементов социальной защиты прав трудящихся, ослаблением милитаризма и его влияния на политическую жизнь. В социалистических странах также необходимо ослабление милитаризации экономики и мессианской идеологии, жизненно необходимо ослабление крайних проявлений централизма и партийногосударственной бюрократической монополии как в экономической области производства и потребления, так и в области идеологии и культуры. Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации общества, развитию гласности, законности, обеспечению основных прав человека. Я по-прежнему надеюсь на эволюцию общества в этих направлениях под воздействием технико-экономического прогресса, хотя мои прогнозы стали более сдержанными. Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истиной гарантией сохранения человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру... Милитаризация экономики накладывает глубокий отпечаток на международную и внутреннюю политику, приводит к нарушениям демократии, гласности и законности, создает угрозу миру. Хорошо 245 изучена роль военно-промышленного комплекса в политике США. Аналогичная роль тех же факторов в СССР и других социалистических странах менее изучена. Однако необходимо отметить, что ни в одной стране доля военных расходов, отнесенная к национальному доходу, не достигает таких размеров, как в СССР (более 40 процентов). А. И. Солженицын КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ. ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ (1990) Исторический Железный Занавес отлично защищал нашу страну ото всего хорошего, что есть на Западе: от гражданской нестесненности, уважения к личности, разнообразия личной деятельности, от всеобщего благосостояния, от благотворительных движений – но тот Занавес не доходил до самого-самого низу, и туда подтекала навозная жижа распущенности опустившейся "поп-масс-культуры", вульгарнейших мод и издержек публичности – и вот эти отбросы жадно впитывала наша обделенная молодежь: западная – дурит от сытости, а наша в нищете бездумно перехватывает их забавы. И наше нынешнее телевидение услужливо разносит те нечистые потоки по всей стране. (Возражения против всего этого считаются у нас дремучим консерватизмом. Но поучительно заметить, как о сходном явлении звучат тревожные голоса в Израиле: "Ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами", "западным интеллектуальным мусором".)... Постепенно мы будем пересоставлять государственный организм. Это надо начинать не все сразу, а с какого-то краю. И ясно, что снизу, с мест. При сильной центральной власти терпеливо и настойчиво расширять права местной жизни. Конечно, какая-то определенная политическая форма постепенно будет нами принята, – по нашей полной политической неопытности скорей всего не сразу удачная, не сразу наиболее приспособленная 246 к потребностям именно нашей страны. Надо искать свой путь. Сейчас у нас самовнушение, что нам никакого собственного пути искать не надо, ни над чем задумываться, – а только поскорей перенять, "как делается на Западе". Но на Западе делается – еще ой как по-разному! У каждой страны своя традиция. Только нам одним – не нужно ни оглядываться, ни прислушиваться, что говорили у нас умные люди еще до нашего рождения. А скажем и так: государственное устройство – второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве – допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве – невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности – то это проявляется при любом строе. Политическая жизнь – совсем не главный вид жизни человека, политика – совсем не желанное занятие для большинства. Чем размашистей идет в стране политическая жизнь – тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав человек нуждается отстоять и душу, освободить ее для жизни ума и чувств... Когда в 1937 г. Сталин вводил наши мартышечьи "выборы" – вынужден был и он придать им вид всеобщего-равного-прямоготайного голосования ("четырех-хвостки") – порядок, который в сегодняшнем мире кажется несомненным как всеобщий закон природы. Между тем и после первой Французской революции (конституция 1791 г.) голосование еще не было таковым: оставались ограничения и неравенства в разных цензах. Идея всеобщего избирательного права победила во Франции только в революцию 1848. В Англии весь XIX век находились видные борцы за "конституционный порядок" – такой, который бы обеспечивал, чтобы никакое большинство не было тираном над меньшинством, чтобы в парламенте было представлено все разнообразие слоев общества, кто пользуется уважением и сознает ответственность перед страной – это была задача сохранить устои страны, на которых она выросла. С 1918 г. сползла ко всеобщему избирательному и Англия. 247 Достоевский считал всеобщее равное голосование "самым нелепым изобретением XIX века". Во всяком случае, оно – не закон Ньютона, и в свойствах его разрешительно и усумниться. "Всеобщее и равное" – при крайнем неравенстве личностей, их способностей, их вклада в общественную жизнь, разном возрасте, разном жизненном опыте, разной степени укорененности в этой местности и в этой стране? То есть – торжество бессодержательного количества над содержательным качеством. И еще, такие выборы ("общегражданские") предполагают неструктурность нации: что она есть не живой организм, а механическая совокупность рассыпанных единиц. "Тайное" – тоже не украшение, оно облегчает душевную непрямоту или отвечает, увы, нуждам боязни. Но на Земле и сегодня есть места, где голосуют открыто. "Прямое" (то есть депутаты любой высоты избираются прямо от нижних избирательных урн) особенно спорно в такой огромной стране, как наша. Оно обрекает избирателей не знать своих депутатов – и преимущество получают более ловкие на язык или имеющие сильную закулисную поддержку. Все особенности избирательной системы и способов подсчета голосов подробнейше обсуждались в России комиссиями, партийными комитетами весной и летом 1917, из-за чего Учредительное Собрание и упустило время. И все демократические партии высказались против выборов 4-, 3- или даже 2-степенных: потому что при таких выборах тянется цепочка личного знания кандидатов, избираемые представители теснее связаны со своей исходной местностью, "с местной колокольней" – а это лишало все партии возможности вставлять своих кандидатов из центра. Лидер кадетов П. Н. Милюков настаивал, что только прямые выборы от больших округов "обеспечат выбор интеллигентного и политически подготовленного представителя"... А уж пройдя избрание – кандидат становится народным представителем. Афинская демократия отвергала всякое "представительство" как вид олигархии. Но она могла себе это позволить при своей малообъемности. 248 Напротив, Французские Генеральные Штаты в 1789, едва собравшись, провели закон, что отныне каждый депутат есть лишь часть этого коллективного собрания, которое и есть воля народа. Тем самым каждый депутат отсекался от своих избирателей и от личной ответственности перед ними. Наши четыре последовательных Государственных Думы мало выражали собой глубины и пространства России, только узкие слои нескольких городов, большинство населения на самом деле не вникало в смысл тех выборов и тех партий. И наш блистательный думец В. Маклаков признал, что "воля народа" и при демократии фикция: за нее всего лишь пронимается решение большинства парламента... И во всеобщих выборах большинство далеко не всегда выражает себя. Голосование часто проявляется вяло. В ряде западных стран больше половины избирателей и даже до 2/3 – порой вообще не являются голосовать, что делает всю процедуру как бы и бессмысленной. И числа голосующих иногда раскалываются так, что ничтожный перевес достигается довеском от крохотной малозначительной партии – она-то как бы и решает судьбу страны или курс ее. Как принцип это давно предвидел и С. Л. Франк: “И при демократии властвует меньшинство”, и В.В. Розанов: "Демократия – это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством". В самом деле, гибкая, хорошо приработанная демократия умеет лишить силы протесты простых людей, не дать им звучного выхода. Несправедливости творятся и при демократии, и мошенники умеют ускользать от ответственности. Эти приемы – распыляются по учреждениям демократической бюрократии и становятся неуловимы. Сегодня и из самой старинной в мире демократии, швейцарской, раздается тревожное предупреждение (Ганс Штауб), что важные решения принимаются в анонимных и неконтролируемых местах, где-то за кулисами, под влиянием "групп давления", "лоббистов". И при всеобщем юридическом равенстве остается фактическое неравенство богатых и бедных, а значит, более сильных и более слабых. (Хотя уровень "бедности", как его сегодня понимают на 249 Западе, много, много выше наших представлений.) Наш государствовед Б. Н. Чичерин отмечал еще в XIX в., что из аристократий всех видов одна всплывает и при демократии: денежная. Что же отрицать, что при демократии деньги обеспечивают реальную власть, неизбежна концентрация власти у людей с большими деньгами. За годы гнилого социализма накопились такие и у нас в "теневой экономике" и срослись с чиновными тузами, и даже в годы ''перестройки" обогатились в путанице неясных законов и теперь на старте ринуться в открытую, – и тем важней отначала строгое сдерживание любого вида монополий, чтоб не допустить их верховластия. А еще удручает, что рождаемая современной состязательной публичностью интеллектуальная псевдоэлита подвергает осмеянию абсолютность понятий Добра и Зла, прикрывает равнодушие к ним "плюрализмом идей" и поступков. Изначальная европейская демократия была напоена чувством христианской ответственности, самодисциплины. Однако постепенно эти духовные основы выветриваются. Духовная независимость притесняется, пригибается диктатурой пошлости, моды и групповых интересов. Мы входим в демократию не в самую ее здоровую пору... Из высказанных выше критических замечаний о современной демократии вовсе не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. Очень нужна. Но при полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни – она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться снизу, а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху, сразу во всем объеме и шири. Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств: небольшого города, поселка, станицы, волости (группа деревень) и в пределе уезда (района). Только в таком объеме люди безошибочно смогут определить избранцев, хорошо известных им и по деловым способностям, и по душевным качествам. Здесь – не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие или партийные рекомендации. 250 Это – именно такой объем, в каком может начать расти, укрепляться и сама себя осознавать новая российская демократия. И это – самое наше жизненное и самое наше верное, ибо отстоит в нашей местности неотравленные воздух и воду, наши дома, квартиры, наши больницы, ясли, школы, магазины, местное снабжение, и будет живо содействовать росту местной нестесненной экономической инициативы. Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропорядочной жизни, да само понятие "гражданской свободы" теряет смысл. Демократия малых пространств тем сильна, что она непосредственная. Демократия по-настоящему эффективна там, где применимы народные собрания, а не представительные. Такие повелись – еще с Афин и даже раньше. Такие – уверенно действуют сегодня в Соединенных Штатах и направляют местную жизнь. Такое посчастливилось мне наблюдать и в Швейцарии, в кантоне Аппенцель... Демократия малых пространств веками существовала и в России. Это было сквозь все века русский деревенский мир, а в иные поры – городские веча, казачье самоуправление. С конца прошлого века росла и проделала немалый путь еще одна форма его – земство, к сожалению только уездное и губернское, без корня волостного земства и без обвершения всероссийским. Октябрьский переворот насильственно сломал всякое земство, заменив его советами, от самого начала подмятыми компартией. Всей историей с 1918 г. эти советы опорочены: они никогда не были реальным самоуправлением на каком-либо уровне. Вносимые сейчас робкие избирательные изменения тоже не могут эту форму спасти: она не обеспечивает местных интересов с их влиянием через всю структуру снизу вверх. Я полагаю, что "советы депутатов" надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить земской системой. 251 Л. А. Андреева ХРИСТИАНСТВО И ВЛАСТЬ В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ (2001) Под папоцезаризмом понимается политическая модель власти, реализуя которую Папа Римский сосредоточил в своих руках как светскую, так и духовную власть и являлся одновременно земным владыкой и первосвященником, главой церкви. Для ее легитимации во второй половине VIII века в Риме был сфабрикован документ о так называемом "Константиновом даре". Согласно ему в IV веке император Константин Великий в благодарность за то, что Папа Сильвестр I поспособствовал ему в исцелении от проказы, предоставил последнему и всем его преемникам примат над четырьмя восточными патриархами, а также императорские регалии, то есть политическое верховенство над всей западной частью Римской империи. Однако, сохранив примат западной церкви, Папа будто бы не принял императорские регалии. Лишь в случае прекращения императорской власти это право используется, и Папа автоматически становится преемником императорского достоинства. Появление этого фальшивого документа давало возможность подвести юридическую базу под создание папского государства. Следует при этом обратить внимание, что папоцезаризм и создание папской универсальной теократической монархии (середина XI века понтификат Григория VII–конец XIII века понтификат Бонифация VIII) опиралось преимущественно не на юридические, а на теологические постулаты. В период классического папоцезаризма земные владыки признавали верховную власть Папы Римского и являлись его вассалами. Можно сказать, что римские папы рассматривали европейских монархов как своих заместителей по светским делам, которых они могли за непослушание лишить короны. Неоднократно германские, французские, английские монархи отлучались Папой за непокорность от церкви, а на эти страны накладывался интердикт (запрет во всех церквах совершать богослужения и таинства). Папская монархия име252 ла жесткую иерархическую структуру и мощную материальную базу. Папский престол руководил апелляционным судом, обширной бюрократией и дипломатическим корпусом, контролировал организованные в европейском масштабе финансы. С Вормского собора 1122 года Папа получил право на ношение императорских инсигнаций (в т. ч. тиары как символа вселенской власти). При Папе Иннокентии III (1198–1216) было провозглашено, что Папа Римский уже не просто преемник св. Петра, а наместник Христа на Земле, т. е. титулатура закрепила новые властные полномочия Папы. Их появление оправдывалось тем, что согласно Евангелию Христос (Послание ап. Павла к евреям) является вечным первосвященником на небесах и вместе с тем вечным царем богоизбранного народа – царем Иудейским. Следовательно, его наместник также объединяет в своей должности понтифика функции земного первосвященника и земного владыки – царя. Политическая ситуация, сложившаяся при Иннокентии III, позволила юридически закрепить догмат о наместничестве, который впервые был отчетливо сформулирован еще в IX веке Папой Николаем I, называвшим себя наместником Христа на Земле (Vicarius Christi) и считавшим себя королем и священником (rex et sacerdos), передавшим светскую власть и вооруженные силы императору. Но папам так и не удалось надолго удержать полную религиозную и политическую власть наместника Христа. Постоянная борьба между папами и европейскими монархами, их взаимные беспощадные обличения приучили европейцев не видеть ни в светской, ни в духовной власти непререкаемого "сакрального" авторитета, критически относиться к любым институтам власти. Все европейское Средневековье прошло под знаком борьбы между светскими владыками и римскими папами за абсолютную власть наместника Христа. Короли в своей борьбе с папами были вынуждены искать себе опору в различных слоях общества, что и явилось одной из причин создания сословного общества в Европе. Победа над папством была одержана, когда уже сформировалась сословная структура европейского общества, ставшая непреодолимым препятствием для европейских 253 монархов, которые попытаются овладеть "обоими мечами" (светской и духовной властью). В Восточно-Римской империи (Византии) в противоположность Западу император (василевс) провозглашался наместником Христа, и мы имеем дело с политической моделью цезаропапизма, когда в должности христианского императора объединены функции царя (василевса) и главы Церкви. Мистическую связь между Христом и василевсом как его земным заместителем олицетворял двухместный императорский трон. По будням император восседал на правой его стороне, по воскресным и другим праздничным дням – на левой, оставляя место для Иисуса Христа, присутствие которого символизировал крест. Византийская мифология власти провозглашала, что василевс действует, царствует и живет "во Христе", его дела – божественные дела, его правление – совместное с Христом. Из этого построения логически вытекал священный характер императорской персоны. Император становился объектом культа. Его жилище называли "священным дворцом", его облачение, как и дворец, было священно. В знак особой милости император мог подарить свою одежду какому-нибудь городу, и тогда она торжественно вывешивалась в главном городском храме. Даже к портретам императора прилагались эпитеты sacra laurata, sacer vultus, divinus vultus (лат. "священный портрет", "священный лик", "божественный лик"). Их встречали перед городскими воротами с зажженными факелами и кадилами в руках, как полагалось встречать монархов, и склонялись перед ними, воспроизводя ритуальный поклон императору. Изображения императоров можно было увидеть на различных предметах христианского культа и на стенах церквей. Византийские василевсы изображались с нимбами святости (Юстиниан Великий, Василий II Болгаробойца), с X века в их официальную титулатуру включался эпитет "святой". Император в качестве "наместника Христа" приобретал священнические функции. При этом христианская трактовка социальных функций Христа как царя и первосвященника усиливала мысль о "цареосвященстве" византийского василевса. 254 В церковных церемониях и процессиях, в дворцовой жизни император должен был восприниматься как образ, точнее "отображение" Христа. Например, в качестве наместника и живого образа Христа ощущал себя император в литургической церемонии Страстной недели – омовении ног беднякам. Символично, что в этой церемонии византийский патриарх выступал только в роли чтеца Евангелия. Когда он читал отрывок из Евангелия об омовении Иисусом Христом ног беднякам, сам император в это время реально воспроизводил эту сцену. Византийский император причащался в алтаре, как священнослужитель, т. е. отдельно телу Христову с дискоса (когда причастие дается прямо в руки) и отдельно крови Христовой из потира. Тот факт, что император принимал причастие от патриарха, а не причащался самостоятельно, может рассматриваться как рудимент религиозно-политической доктрины IV века, когда император воспринимался как светский владыка. Можно констатировать, что канонически император обладал священническим достоинством, а его первенствующее место в церковной иерархии определялось выполнявшимися им религиозными функциями. Византийский император имел право инвеституры патриарха (т.е. вводил его в сан). Это показывает, что византийский патриарх заимствовал свою власть не непосредственно у Бога, а у императора, в то время как между василевсом как автократором и Царем небесным как Пантократором существовала прямая связь, исключающая чьелибо посредничество. Однако следует заметить, что первосвященничество византийского императора строго совпадало с границами распространения его политической власти. Можно констатировать, что до схизмы 1054 года реально существовало два первосвященника: Папа Римский и василевс Ромейской империи. Борьба между Папой и императором за власть наместника Христа обретет позднее формы борьбы Восточной и Западной церквей. Это противостояние завершится отделением в 1054 году церкви Константинопольской от юрисдикции Папы Римского, в результате 255 чего василевс сможет в полной мере ощущать себя наместником Христа хотя бы в границах Восточно-Римской (Ромейской) империи. Византийский император как наместник Христа имел следующие права: устанавливать вероисповедное единство, определенную религиозную догму и норму правоверного учения (формально совместно с Собором), давать заключительное решение по спорным догматическим вопросам, исполнять роль третейского судьи в клире. Формально в Византии был провозглашен принцип "симфонии царства и священства". Однако именно от воли императора зависело назначение патриарха, митрополитов и епископов. "Патриарх Константинополя практически назначался василевсом. Иногда император предлагал свою кандидатуру, иногда выбирал угодного из списка, предложенного митрополитами, иногда тянул записки. При этом следует учитывать, что византийская церковь в отличие от западной христианской была материально зависимой от государственной власти. Благосостояние служителей культа полностью зависело от нее (византийская церковь не имела вассалов.) Некоторые примеры из истории Византийской империи позволяют составить представление о том, чем в действительности была эта "симфония царства и священства". Если император хотел низложить патриарха, то его ничто не могло остановить. Сначала по его приказу в ход пускались сообщения о тайных пороках владыки. Например, философу М. Пселлу было поручено написать порочащий патриарха Кируллярия памфлет. Практиковались и такие меры, как изоляция патриарха от народа. Если патриарх продолжал оставаться непослушным, то прибегали к прямой расправе, иногда казни. Патриарх Константин II был низложен в 766 году и казнен, патриарха Евфимия избивали при низложении в 912 году до тех пор, пока он не потерял сознание, его коллега и соперник Николай Мистик, свергнутый пятью годами раньше, был лишен в ссылке теплой одежды, спал в мороз на соломе, не имел права читать книги. В конце XII века император Исаак Ангел низложил и заточил одного за другим четырех патриархов (!!!). Аналогичным образом распоряжался патриаршею кафедрой в XIII веке и император Михаил VIII Палеолог. 256 Неудивительно, что византийские императоры ценили в своих патриархах необразованность выше их добродетелей. Таким образом, можно констатировать, что византийские императоры обладали всей полнотой как светской, так и духовной власти (патриархи рассматривались ими как заместители по духовным делам). Император как актуализация (воплощение) Иисуса Христа обладал наивысшей сакральностью и в этом качестве занимал первенствующее место в иерархии посредников между миром сакрального и миром профанного (т. е. в иерархии священничества). Интересно, что этот факт был признан и юбилейным архиерейским собором Русской православной церкви 16– 18 августа 2000 года. В принятом им официальном документе "Основы социальной концепции Русской православной церкви", в частности, говорится о том, что христианские императоры Византии были прямыми преемниками языческих Римских принцепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: pontifex maximus – верховный первосвященник. Политическая история Запада и Востока сложилась по- разному. … в эпоху Ивана Грозного окончательно оформилась религиозная доктрина власти, согласно которой московский великий князь был признан не просто "могуществом, силой Бога на земле", а его реальным воплощением – Спасителем, Мессией всего народа Божьего. Этот статус уже полностью освобождал великого князя от какой-либо ответственности перед народом: "А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны". В официальном письме Ивана Грозного князю Курбскому царь недвусмысленно присваивает себе функции владыки человеческих душ и Спасителя. Неудивительно, что московские великие князья, ощущавшие себя хозяевами человеческих душ, при вступлении на престол не считали необходимым давать религиозные ограничительные клятвы, подобно французским или английским королям. В царствование Ивана Грозного происходит юридическое закрепление статуса великого князя Московского как царя. Характерно, что этот статус был закреплен не в светском кодексе, а в церковном памятнике "Стоглаве". В структурно-логическом построении преам- 257 булы кодекса вавилонского царя Хаммурапи и "Стоглава" есть общее. В кодексе Хаммурапи "непорочный и полновластный царь, которого бог Мардук призвал управлять народом и доставлять стране благополучие, даровал право и законы". В "Стоглаве" – "державный самодержец, прекроткий царь Иван, многим разумом и мудростью венчанный по непосредственному наущению Христа”. Любопытно сохранившееся в древнерусской литературе византийское предание о происхождении царских регалий. Смысл этого сказания заключается в том, что некогда было славное царство Вавилонское, но оно погибло из-за своего нечестия. Богом данные царские регалии, украшавшие некогда славного царя Навуходоносора, были скрыты и хранились втайне тремя святыми отроками. И вот по божьему определению, в виде божьей грамоты они были переданы православным греческим царям. Легко предположить, что православный царь воспринимался как достойный наследник своих вавилонских предшественников. 16 января 1547 года состоялось венчание на царство Ивана IV. Формально принятый титул "боговенчанного царя" уже окончательно юридически закрепил за ним прерогативы верховного попечения об интересах Церкви, какие принадлежали византийским императорам и какие уже в весьма значительной степени были приобретены самими московскими князьями путем историческим. Уже на Стоглавом церковном Соборе 1551 года царь выступил в руководящей роли, свойственной византийским василевсам. В 1562 году патриарх Константинопольский Иосаф III прислал "соборную грамоту", подтвердившую право Ивана Грозного "быти и зватися царем законно и благочестиво", и объявил московского государя "царем и государем православных христиан всей вселенной от Востока до Запада и до океана". В 1589 году было учреждено Патриаршество, и Церковь обрела патриарха, которым стал митрополит Московский Иов. Характерно, что инициатива учреждения патриаршества исходила от светской власти. Сама процедура избрания была организована в византийском духе. В Успенском соборе Кремля русские и греческие епископы совершили обряд "тайного совещания" об избрании 3 кандидатов на патриаршество (эти кандидаты были заранее указаны им царем Федором 258 Иоанновичем и его шурином, Борисом Годуновым). Затем Собор отправился в царский дворец, где царь в своем выборе остановился на Иове, что и явилось актом окончательного избрания. Само место наречения в патриархи – царский дворец – свидетельствовало о первенстве светской власти в делах церковно-канонических. Далее, вновь в Успенском соборе, состоялось поставление новоизбранного (точнее назначенного верховной властью) патриарха. Царь выступил в роли "ставящего" патриарха и произнес инвеститурную речь. При этом Федор Иоаннович вручил Иову, согласно ритуалу, подлинный посох митрополита Петра. Эта процедура наглядно показывает, что патриарх получал церковную власть от царя. Учреждение патриаршества было закреплено в "Уложенной грамоте", имевшей вид соборного документа. В XVII веке в России окончательно установится режим цезаропапизма. К этому времени экономический базис был приведен в соответствие с религиозно-политической надстройкой: российский самодержец стал монополистом в торговле и промышленности, собственником большей части земли (дворяне не являлись владельцами поместий, которые были отданы им царем лишь в управление на условиях обязательного несения царской службы). Абсолютная политическая власть российских самодержцев была адекватна их экономическому могуществу. Как апофеоз цезаропапизма прозвучали на Большом Московском соборе 1666 года упомянутые слова Паисия Лигарида о том, что царь именуется Богом и имеет право на богоименование. Особенно наглядно власть царя как "наместника Бога" на земле проявлялась в том факте, что людей, умерших в государевой опале, хоронили вне кладбищ, как почивших нехристианской смертью. Утверждалось, что страшным, непрощаемым видом греха является преступление против царя; оно приравнивалось к преступлению против Бога. Тем самым политическое повиновение царю было полностью тождественно религиозному послушанию Богу. Царь-богочеловек присваивал себе функции судьи от имени Небес и обладал властью, сопоставимой с властью Бога... 259 Петр Великий в своей реформаторской деятельности не мог уже опираться на прежнюю, православную мифологию власти. Он ввел в русскую политическую мысль идею государства как института, стоящего над монархом, что явилось началом крушения наместнической формы власти. Свою деятельность Петр рассматривал не только как службу Царю Небесному, но и как службу Российскому государству. В самой постановке вопроса о приоритете чисто земной инстанции – государства над монархом заключена оппозиция христианскому пониманию иерархии власти: "Царь – наместник Христа". Отделение понятия государства от должности самодержца являлось во всех странах первым шагом на пути заката абсолютных монархий, основанных на божественном праве. Какое значение придавал Петр идее государства, видно, например, из того факта, что он пожертвовал одним из фундаментальных принципов неограниченных монархий – старшинством в наследовании престола. Как государственник он не мог допустить, чтобы недостойный сын или другое лицо, не обладавшее способностями к государственной деятельности, управляло Россией только в силу своего старшинства. Петр I ввел в российскую политическую мысль новую оценку личности самодержца, который должен был своими деловыми качествами соответствовать роли повелителя великой страны. Показательно, что даже императорские регалии не были юридически собственностью царей. При организации Камер-коллегии в 1719 году Петр I впервые включил в ее регламент параграф "О подлежащих государству вещах". Все императорские регалии (на тот момент царские) были признаны собственностью государства и выдавались царствующим особам "для временного употребления". С петровской эпохи в России начался процесс десакрализации должности царя как наместника Христа. Естественно, православная мифология власти (как и сама Православная церковь) не могли служить идеологической опорой реформаторской политике Петра. Среди противников реформ черному и белому духовенству принадлежала одна из ведущих ролей. В делах Преображенского приказа процессы 260 духовных лиц составляли около 20 %. Они обвинялись в поношении царя, его мероприятий, в разбрасывании подложных писем, распространении порочащих царя слухов и т. п. Петр же, памятуя о папских притязаниях патриарха Никона и о финансовом могуществе Церкви, стремился к ее нейтрализации. Начал же император с моральной дискредитации церковной иерархии. Запретив иерархам в 1700 году после смерти патриарха Адриана провести очередной Собор по избранию нового патриарха, он одновременно организовал альтернативную акцию – "всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор", состоявший из ближних к царю лиц и пародировавший церковную иерархию. Тем самым была начата государственная кампания по искоренению клерикализма. Антиклерикальная кампания идейно подготовила административную ликвидацию старой церковной иерархии во главе с патриархом. С 1700 года после смерти патриарха Адриана на его месте находился только местоблюститель и администратор патриаршего престола Стефан Яворский (кстати, тоже замешанный в деле царевича Алексея). С 1720 года с целью ликвидации патриаршества велось обсуждение "Духовного регламента" и шел сбор подписей правящих архиереев и иных духовных лиц, которые должны были его подписать наравне с сенаторами. Удалось собрать 87 подписей, в том числе всех правящих иерархов, кроме сибирского владыки. 25 января 1721 года "Духовный регламент" получил силу закона. Патриаршество было ликвидировано, и учреждался высший коллегиальный орган – Духовная коллегия, позже – Святейший правительствующий синод. Для обеспечения надзора со стороны государства за деятельностью Синода вводилась должность обер-прокурора Синода. Высшая власть над Синодом принадлежала самодержцу – его председателю и "крайнему судии". Активное участие в разработке церковной реформы Петра принимал архиепископ Псковский Феофан Прокопович. Это один из примеров личного влияния духовного лица на государственные дела, основанного на близости взглядов Петра и Феофана. 261 Именно Феофан предпринимает попытку теоретически обосновать новую триаду "Бог – государство – самодержец". По существу, это – эклектика из Священного писания и теории "Общественного договора", ставившая целью легитимизацию власти самодержца не только посредством божественного, но и естественного права. Меняет он и обоснование цели государственной власти: с достижения царства небесного и вечного спасения на то, что всякая власть всенародную пользу имеет. Ясно очерчена и другая мысль о тождественности воли народной воле Божьей. Фактически тем самым признается, что Государь может действовать по принципу "только бы народу не вредно и воле Божией не противно», т. е. самостоятельно, как вождь, но в рамках суверенитета нации. Таким образом, при Петре источники власти и мотивация ее деятельности вновь "вернулись на землю". Никто из духовных лиц Православной церкви впоследствии не делал таких радикальных выводов, которые по своей сути шли вразрез с догмами христианства. Появился новый авторитет – "воля народа". Феофан Прокопович был идеологом реформированной религии, близкой к протестантизму. Его понимание христианства, будучи антиподом римско-византийскому пониманию христианства, возвращало власть на землю. Вне сомнения, Феофан Прокопович не пытался подорвать самодержавную власть Петра. Он искал новые аргументы в ее защиту и не мог уже найти их только в догматах божественного права. Постановка вопроса о пользе народу и следовании воле народа влекла за собой сразу ряд вопросов: как выражается воля народа, кто судит, что монарх действует в пользу народа; что делать в ситуации, когда монарх действует не в пользу народа? Ответов на такие вопросы Феофан Прокопович не давал. А конечные выводы о том, что "не может народ судити дела государя своего", не соответствовали его же понятиям о воле народа. Пытаясь обосновать самодержавие земным аргументом "воля народа", Феофан, по существу, подрывал монархию, основанную на божественном праве. Ведь самодержавная власть может иметь только один источник легитимизации – Небо. Самодержавная власть, 262 нуждающаяся в земной легитимизации, перестает, по определению, быть таковой. Сейчас довольно распространено мнение, будто церковная реформа Петра привела к деформации отношений между Церковью и самодержцем, ущемлению ее суверенных прав. Но ведь результатом реформы явилось именно признание де-юре внешней формы традиционной для христианства властной модели, в соответствии с которой Римский кесарь выступал одновременно и как монарх, и как первосвященник (вселенский Халкидонский собор 451 года провозгласил многолетие "царю-первосвященнику, учителю веры"). Как в Восточно-Римской империи, так и на Руси патриархи играли роль заместителей царей по духовным делам. Любые попытки церковных иерархов взять под свой контроль исполнение подлинно первосвященнических функций пресекались царями, и потому реформа Петра лишь юридически закрепила то состояние, в котором де-факто пребывала допетровская Русь. Однако внутренние формы старой теократической модели были наполнены новым, секулярным по духу содержанием. Петр практически скопировал европейскую модель власти абсолютного монарха, в основу которой были положены идеи естественного права. Если христианский василевс имел целью служение царству Божию, то высшей целью служения абсолютного монарха в рамках естественного права становилось земное царство, в котором Церковь подчинена сугубо земной инстанции – государству. Инкорпорирование понятия государства в традиционную христианскую конструкцию власти было вызвано тем, что в условиях Нового времени христианская мифология власти уже не справлялась с возложенными на нее задачами. Однако насильственная инкорпорация инородного по своей природе элемента – государства – в традиционную христианскую систему легитимизации власти всегда и всюду, рано или поздно, приводила к одному результату: крушению абсолютных монархий, основанных на божественном праве. На ход исторического развития России, как и на ход западноевропейской истории, оказал решающее влияние религиозный догмат о верховном правителе – наместнике Иисуса Христа, в должности ко- 263 торого объединены функции светского и жреческого Мессии. Так же как и в Европе, в России идея тотальной наместнической власти, в конечном счете, исчерпала себя. С XVIII века в России начинается необратимый процесс секуляризации христианской модели наместнической власти, который завершился только в начале XX века с крушением власти последнего российского императора Николая II, считавшего себя "орудием Всевышнего, посредством которого Всевышний управляет Российскою империею". В. А. Мельянцев РОССИЯ ЗА ТРИ ВЕКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ (2003) Минуло три столетия с начала петровских реформ, инициировавших процесс экономической и социально-культурной модернизации России. С тех пор в стране и в мире произошли огромные изменения. Но сегодня, пожалуй, как никогда остро стоит вопрос: почему же, несмотря на немалые экономические, демографические и социальные жертвы, а также известные успехи в развитии культуры, науки и образования, Россия все-таки не смогла, в отличие от ныне развитых и ряда быстроразвивающихся государств, создать механизм современного (интенсивного) роста, выбиться в число передовых стран мира? Ответ на этот вопрос предполагает уточнение некоторых базисных характеристик российской идентичности, сопоставление их с ключевыми параметрами развития ведущих стран Запада и Востока. В силу ряда неблагоприятных географических, природноклиматических, а главное – исторических факторов, в России сложился в целом замедленный тип социально-экономической эволюции. Обладая рядом важных природных ресурсов (обширные земли, недра, леса, пушнина), наша страна, как известно, во многом обделена другими, не менее важными, предпосылками развития хозяйства. Она расположена в основном на приполярных территориях, в зоне рискованного земледелия, отличающейся сравнительно небольшим вегетационным периодом и сложными условиями для ведения эффективно264 го сельского хозяйства. К тому же Россия долгое время была лишена широкого доступа к морским, т. е. наиболее дешевым видам транспортных коммуникаций. Общественно-политический строй, сформировавшийся в обстановке жесткого противостояния Степи и Западу в XIII–XVII веках (и в ряде своих основных черт сохранившийся в XIX и даже в XX веке), был не феодальным, как в Западной Европе (что нередко утверждается в учебниках и популярных изданиях), а азиатским, вотчинным, деспотическим. Московское царство в конечном счете подмяло под себя общество и церковь, ликвидировало остатки вольности городов (в Северо-Западной Руси), подавило или резко ограничило свободу всех сословий, включая дворян и купцов. На долгие годы в качестве устойчивой доминанты, культурной традиции, институциональной нормы установились самодержавный произвол, односторонние обязанности низов по отношению к верхам, законы "приказного права" и негативного отбора, способствовавшие воспроизводству антиинтеллектуализма и невежества. Вопреки бытующим представлениям, Россия конца XVII века не может рассматриваться как страна, балансирующая между Западом и Востоком, т. е. отстающая по уровню развития от первого, но опережающая второй. Она являлась более отсталой, чем крупные страны и Запада, и Востока. Уровень урожайности зерновых здесь был в среднем вдвое меньше, чем в Западной Европе, и в четыре раза меньше, чем в Китае, Индии, Египте. Уровень урбанизации едва ли достигал 5 %, в то время как в крупных странах Востока и Запада он составлял 10–15 %. В России грамотность взрослого населения не превышала 2–5 %, т. е. была вдвое-втрое меньше, чем в Китае и в четыре-пять раз меньше, чем в странах Западной Европы. Подушевой валовой внутренний продукт (ВВП) в России того времени был в полтора-два раза ниже, чем в странах Запада и в полтора раза меньше, чем в Китае и Индии. Не стоит преувеличивать значимость модернизационного импульса, данного петровскими реформами и последовавшими преобразованиями XVIII–первой половины XIX веков (вплоть до отмены кре- 265 постного права). В этот период увеличивалась несвобода податного населения и расширялась сфера применения принудительного труда, нарастал культурный раскол нации. Действительные темпы экономического роста России в отмеченный период были существенно ниже показателей, нередко встречающихся в популярных изданиях и учебниках. Миф о быстрых темпах развития экономики в Российской империи возник потому, что в фокусе внимания исследователей был "современный", т. е. мануфактурный, сектор – он рос в среднем на 3–4% в год. Но даже к концу XVIII века его доля в хозяйстве страны не превышала, по моим оценкам, 3-5 % ВВП, в то время как остальная часть экономики (традиционный сектор) росла гораздо медленнее, примерно теми же темпами, что и численность населения. В итоге ВВП России в расчете на душу населения увеличивался в XVIII веке в лучшем случае на 0,1 % в год. Для стран Западной Европы этот показатель был в два-три раза выше. К 1800 году Россия уже вдвое-втрое отставала от ведущих стран Запада. При этом она продолжала по ряду существенных показателей отставать и от стран Азии, например Китая. Российская империя имела существенно более низкий уровень урбанизации. В начале XIX века этот показатель не превышал 5-7 %, в то время как в среднем по Западной Европе он составлял 11-13 %, в Китае 7-8 %, в Индии 9-13 %, на Ближнем Востоке 14-16 %. Несмотря на создание Академии наук в Петербурге, Московского университета и ряда других, в том числе элитных учебных заведений (школ, лицеев), средний уровень грамотности населения в 1800 году, ввиду засилия крепостных порядков, пассивности и придавленности церкви, весьма слабой "буржуазности" городов и невысокого уровня урбанизации, составлял в России лишь 2-6 % среди женщин и 4-8 % среди взрослого мужского населения, т.е. оказался в 8-10 раз ниже, чем в странах Запада и в 3-5 раз ниже, чем в Японии и Китае. После освобождения крестьян от крепостной зависимости и проведения ряда весьма ограниченных буржуазных реформ царская Россия в конце XIХ–начале XX веков приступила к индустриализации. Огромную роль в этом процессе играли не только "чисто рыноч- 266 ные силы" (хотя без них, разумеется, ничего бы не состоялось), но и государственные военно-технические заказы, строительство инфраструктуры, т. е. систем транспорта и связи, переход от политики фритредерства (1860–1881) к системе протекционизма, стимулировавшей интенсивный процесс замещения импорта отечественными товарами. Чрезвычайно важное значение имели развитие кредитнобанковской системы и введение в 1897 году золотого стандарта рубля, а также широкое привлечение иностранного капитала. Вклад иностранного капитала в модернизацию России конца XIX– начала XX веков оценивается по-разному, но в целом достаточно высоко. По данным П. Грегори, в 1885–1913-й годы, т. е. в период "промышленного рывка", из внешних источников финансировалось около 10% чистых внутренних инвестиций, в том числе 15-20 % в 1893–1901 годы и 13-15 % в 1907–1913 годы. В крупных российских банках доля иностранного капитала возросла примерно с 25 % в 1890 году до 40-45 % в 1914 году. Около двух третей всех машин, использовавшихся в цензовой промышленности России, были произведены за границей. Несмотря на слабость национального предпринимательства, отмеченные факторы способствовали росту нормы капиталовложений. Она выросла с 9-11 % ВВП в 1885–1887 годах до 14-16 % в 1911–1913 годах. Но достигнутая к 1913 году норма инвестиций была примерно в полтора раза ниже, чем в США, Германии и Японии. В Российской империи конца XIX–начала XX веков существенно выросли государственные затраты на нужды образования и здравоохранения: с 0,6-0,8 % ВВП в 1885 году до 1,5-1,7 % в период с 1910 по 1913 год, а общие (учтенные) расходы на образование, здравоохранение и науку достигли к началу Первой мировой войны 1,8-2,0 % ВВП. Но последний показатель был значительно меньше, чем в США – 2,5-2,7 % ВВП, Японии – 2,8-3,2 % и Германии – 3,1-3,4 % ВВП. По моим расчетам и оценкам, только в 1885 – 1913 годах доля человеческого капитала в совокупном (физическом и человеческом) капитале России возросла с 12-15 % до 20-25 % и стала больше, чем в среднем по странам Востока и Юга (5-9 %). Однако еще в 1913 году этот 267 показатель незначительно превышал уровень стран Запада на старте их индустриализации (в 1800 году). А ведь доля человеческого капитала в совокупном капитале развитых стран за прошедший век существенно выросла и в 1913 году достигла 33% совокупного капитала. Довольно быстро увеличивались количество учащихся и грамотность. Если в конце XVIII века в России всеми видами обучения было охвачено лишь 0,15-0,20% всего населения, то к концу правления Николая I (1855) – 0,6-0,7 %; к 1890 году – 2,0-2,2 %, а к 1913 году уже 4,7-4,9 %. Однако этот показатель оставался в 3-3,5 раза меньше, чем в среднем по странам Запада и Японии (во Франции 14%, в Германии 19%, в США 22%, в Японии 16%). Индикатор грамотности среди взрослого населения европейской части Российской империи вырос с 13-15 % в середине XIX века до 21-23 % в 1897 году и примерно до 35-38 % в 1915 году. Но таких показателей некоторые протестантские страны Запада достигли еще в XVII веке, а ряд других стран Западной Европы – к середине или к концу XVIII века. По моим расчетам и оценкам, среднегодовой темп прироста подушевого ВВП в царской России обнаружил определенную тенденцию к ускорению — с 0,10-0,15 % в 1860–1870-м годах до 0,7-0,8 % в 1870–1885-м годах и 1,4-1,6 % в целом за 1885–1913-й годы. Это означало, что процесс модернизации, инициированный "сверху", был в целом поддержан оживлением предпринимательской активности в основных секторах экономики, т. е. "снизу". Однако развитие не было сбалансированным (традиционные отрасли существенно отставали от более современных) и устойчивым: за период с 1885 по 1913 год коэффициент флуктуации (колебаний погодового роста) ВВП России достигал 220-240 %, что в полтора-два раза выше, чем в США, Германии и Японии. На рубеже XX века в России за сравнительно короткий срок произошли немалые социальные сдвиги в структуре занятости населения. Согласно данным переписи 1897 года и ряда более поздних обследований доля населения, связанная с сельским хозяйством, с конца 1890-х годов по 1914 год сократилась примерно с трех четвертей до двух третей. Судя по этому показателю, Россия приобрела более мо- 268 дернизированную структуру экономики, чем такие крупные страны Востока, как, например, Китай, Индия и Египет. Однако к началу Первой мировой войны в странах Запада доля занятости в агросфере сократилась еще больше, в среднем до одной трети. Получается, что Россия к 1914 году только вышла на рубежи, достигнутые в странах Запада к началу XIX века. Уровень урбанизации в нашей стране составлял, по разным оценкам, 14-18 %. Это было уже примерно в полтора-два раза больше, чем в Китае и Индии, но все еще заметно меньше, чем в странах Запада (в среднем 40-42 %). В итоге, несмотря на некоторый прогресс в осуществлении модернизации, Россия в дореволюционный период так и не смогла начать процесс догоняющего развития по отношению к Западу. Более того, отставание по ряду показателей нарастало. К 1913 году разрыв в подушевом ВВП между ними достиг трех-четырехкратного размера. Чтобы действительно встать на путь догоняющего развития и осуществить радикальный переход к модели современного экономического роста, в XX веке России было необходимо реализовать серию глубоких буржуазно-демократических, рыночно ориентированных институциональных реформ, способных активизировать гражданское общество, уменьшить острые социально-экономические диспропорции, создать предпосылки для существенного наращивания не только обычных капиталовложений, но и инвестиций в человеческий капитал, а также резко активизировать инновационный потенциал. Однако эти задачи, как мы знаем, не были решены. Оценка итогов экономического роста советской экономики в современной науке остается неоднозначной. Российские и зарубежные исследователи в целом сходятся во мнении, что благодаря огромным усилиям и немалым жертвам Советский Союз действительно догнал или почти догнал страны Запада в отдельных областях техникотехнологического и военного развития, а также в сфере образования, средней продолжительности жизни и науке. Вместе с тем, продолжается дискуссия по поводу темпов, пропорций и основных факторов роста. Подчеркну, что окончательная оценка макроэкономических итогов роста советской экономики вряд 269 ли вообще возможна, ибо в отсутствие свободного рынка и конкуренции экономический рост и цены на товары и услуги весьма слабо корректировались платежеспособным спросом. Тем не менее, ряд зарубежных ученых (в том числе М. Харрисон и Р. Аллен), получив доступ к ранее закрытым архивным материалам СССР, уточнили устоявшиеся оценки динамики советского ВВП в сторону повышения. В частности, за период первых пятилеток (1928–1940), по которому велась особенно жаркая дискуссия, среднегодовые темпы прироста ВВП составили, по данным Харрисона, 5,9 %, а по расчетам Алена – даже 6,3 %. Однако отмеченные расчеты, на мой взгляд, небезупречны. Сделанные мною расчеты показывают, что экономическая динамика СССР была в целом достаточно "скромной". Несмотря на колоссальные затраты, среднегодовой темп прироста подушевого ВВП в России/СССР вряд ли возрос более чем в полтора раза – с 1,5 % в 1885–1913-м годах до 2,2-2,4 % в 1913–1990-м. Советский "рекорд" не был уникален, его превзошли Япония и Тайвань (3,3-3,5 %), а также Южная Корея, Италия, Норвегия, Португалия, Турция, Иран, Венесуэла, Бразилия, Швеция, Греция (2,4-2,9 %). Замечу, что в отличие от СССР, где действовала административно-командная система и плановые задания практически заменяли хозяйственный механизм, экономический рост этих стран был более полноценным, ибо корректировался реальным платежеспособным спросом населения. Огромная часть ресурсов страны расходовалась, как известно, на создание и поддержание вооруженных сил и репрессивного аппарата. По имеющимся оценкам доля собственно военных расходов в ВВП увеличилась с 4 % в 1909–1913-м годах до 15-20 % в 1980-е годы. Суммарная доля валовых инвестиций и военных расходов в российском ВВП за период с 1913 по 1990-й год, вероятно, утроилась – с 18-20 % до 50-60 % (что по крайней мере вдвое превышало аналогичный показатель в среднем по развитым капиталистическим странам). В результате по структуре своего совокупного капитала СССР к концу 1980-х годов, невзирая на все достижения, оказался ближе к развивающимся странам, чем к развитым, в которых объем аккумулиро- 270 ванных инвестиций в человеческий капитал в полтора-два раза превышал размеры основного капитала (в СССР, наоборот, несмотря на все разговоры о человеческом факторе, накопленные инвестиции в человеческий капитал составляли едва ли одну треть стоимости производственных фондов). Недовложения в человека, отсутствие реальных экономических стимулов, милитаризация экономики привели к каскадному падению темпов роста ВВП и совокупной факторной производительности (СФП), характеризующей эффективность производства (по уточненным расчетам, динамика СФП стала отрицательной с середины 1970-х годов). Вклад СФП в прирост ВВП в целом за 1928–1990-й годы (около одной пятой) оказался не только меньше, чем по развитым и в целом по развивающимся странам, но и меньше, чем в среднем по царской России в последние три десятилетия ее развития (1885–1913), когда она вступила на путь современного экономического роста. В результате цели догоняющего (и тем более перегоняющего) развития, которые были провозглашены коммунистической партией, не были реализованы. Разрыв между Россией/СССР и развитыми странами в целом не изменился. Производство продукции на душу населения как в России, так и в СССР в 1913– 1990-м годах было примерно в три-четыре раза меньше, чем в развитых странах мира. А с 1970-х годов обозначилось реальное отставание практически по всем направлениям, включая важнейшие характеристики человеческого фактора. Можно еще больше усилить этот вывод, если сравнить соответствующие показатели ВВП за вычетом инвестиций и военных расходов, т. е., по сути, по индикатору подушевого потребления. Получается, что, во-первых, в 1913–1990-м годах подушевой рост этого совокупного показателя составил лишь 1,5 % в год и был ниже, чем во многих десятках стран; во-вторых, он едва ли утроился за 77 лет. Втретьих, по индикатору подушевого потребления разрыв между Россией/СССР и ныне развитыми странами увеличился в полтора-два раза: если в 1913 году мы отставали от Запада примерно в 3,5 раза, то в 1990 году – в 6 раз. Как показывает исторический опыт, проблемы становления со- 271 временного (интенсивного) экономического роста в России в определенной мере осложнялись не совсем удобным географическим фактором (удаленностью от морских коммуникаций, суровостью природных условий), перманентной вовлеченностью в военные конфликты или подготовкой к ним. Но главное, как представляется, российская экономика весьма часто была зарегулирована, временами недорегулирована, но почти всегда плохо управляема. Государство, опираясь на пассивное население, запаздывало с проведением рыночных реформ (либо, как при советской власти, в интересах бюрократии и беднейшего населения проводило антирыночную плановораспределительную политику). Временами государство (чиновничество) проявляло немалую энергию и силу в борьбе с диссидентами, но было мало активно (не заинтересовано) в создании классических "адамсмитовских" условий нормального буржуазного развития, состоящих в обеспечении правового порядка, облегчении налогового бремени, поддержании и развитии современных коммуникаций, экономической и социальной инфраструктуры, проведении ответственной и предсказуемой политики. Без обеспечения правового порядка и при сохранении низкого уровня ответственности государства перед обществом, – а эти черты были и остаются весьма характерными для России – рентостремительная, а не прибыль-ориентированная активность и пагубная неопределенность будут продолжать тормозить процесс капиталообразования, создания изобретений и внедрения инноваций, стимулировать отток финансового и человеческого капитала из страны. Надо подчеркнуть экономическую сопоставимость двух последних явлений. По моим расчетам, в условиях переходного периода отток человеческого капитала (эквивалентный в 1990-е годы примерно 5-7 % российского ВВП в год), вероятно, даже превышал огромный по масштабам отток финансового капитала (примерно 2-4 % ВВП). Правда, с учетом выплат по обслуживанию внешнего долга (1,5-2 % учтенного ВВП) последний источник оттока капитала также чрезвычайно весом. Для преодоления растущего технологического и экономического отставания России и перехода к современному (интенсивному) рос- 272 ту необходимо не ослабление, а усиление рыночно-ориентированного государства, нацеленного на развитие (developmental state), которое себя неплохо показало и в ныне развитых странах на разных (особенно в кризисных) этапах развития и в новых индустриальных странах. Форсированный переход этих стран к экономике, основанной на знаниях и новейших технологиях, – как это сейчас становится все более и более ясно – был невозможен в обстановке резко набирающей обороты глобализации и развернувшейся информационной революции без длительного, рационально-прагматического государственного интервенционизма в интересах резкого усиления конкурентоспособности национальной экономики. 273 Сведения об авторах и произведениях Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – литератор, историк, филолог. Публикуемые в хрестоматии два первых отрывка являются черновиками из его неоконченных рукописей. Рукопись «О русской истории» первоначально предназначалась в качестве предисловия к «Русской истории для детей». Печатается по изданию: Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. Сочинения исторические. М., 1961. С. 2–4, 7–9, 17–24. Алексеев Вениамин Васильевич, академик РАН, директор Института истории и археологии УрО РАН, Алексеева Елена Вениаминовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. Печатается по изданию: Алексеев В. В., Алексеева Е. В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции // Отечественная история. 2005. № 5. С. 3–20. Андреева Лариса Анатольевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН. Печатается по изданию: Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе: компаративный анализ // Общественные науки и современность. 2001. № 1. С. 85–102. Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – критик и публицист. «Россия до Петра Великого» является рецензией на исторические сочинения Голикова, Бергмана, Кошихина, опубликованные в 1840, 1841 и посвященные эпохе Петра. Печатается по изданию: Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т.4. М., 1979. С. 7–12. Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – ученый, мыслитель, создатель ряда самостоятельных направлений в науке. Печатается по изданию: Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. М., 1989. С. 319–323. Вернадский Георгий Владимирович (1886–1967) – сын В. И. Вернадского, историк. В 1920 г. Работал в Таврическом университете в Крыму, затем в эмиграции. С 1927 г. в Иельском университе- 274 те (США). Печатается по изданию: Вернадский Г. В. Опыт истории Евразии. М., 1991. С. 5–12, 14, 20–25, 166, 179. Гаспринский (Гаспралы) Исмаил Бей (родился в 1851) – крымско-татарский просветитель, писатель, издатель первой еженедельной тюркоязычной газеты «Терджиман» (Переводчик), начавшей выходить с 1883 г. Печатается по изданию: Гаспринский (Гаспралы) Исмаил Бей. Из наследия. Симферополь, 1991. С. 22–23, 26–28, 52– 56. Герцен Александр Иванович (1812–1870) – писатель, публицист, философ, общественный деятель. Печатается по изданию: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М. , 1955. С. 148–159, 170–175, 182–183, 198–199, 231–232. Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) литератор и естествоиспытатель. Окончил Александровский лицей и физикоматематический факультет Санкт-Петербургского университета. Находился под следствием и был выслан из Петербурга по делу петрашевцев. Участник и руководитель ряда научных экспедиций. Печатается по изданию: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 23– 25, 39, 44–45, 48–53, 58–63, 254–258, 263–268, 274–275, 400–402. Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – писатель. «Дневник писателя» начал печататься с 1873 г. в газете «Гражданин», с 1876 г. он выходил отдельными выпусками, а в 1876–1877 гг. – ежемесячно. Печатается по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 17–18, 36–37, 91–95; Т. 25. С. 6–9, 96– 97, 195–199. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – писатель, историк. Печатается по изданию: Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 94–97; Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 16–18, 22– 24, 31–33, 62–63, 65–67. Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – литератор, критик, философ. Публикация статьи «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» стала поводом для запрещения его следующей книги. Печатается по изданию: Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 220–238. 275 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – деятель социал-демократического движения в России. Лидер его большевистского направления. С октября 1917 г. председатель Совета Народных Комиссаров, создатель международного коммунистического движения. Печатается по изданию: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 175, 189–190. Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873–1924) – деятель социал-демократического движения в России, один из лидеров меньшевистского направления в нем, марксист. С 1920 г. – в эмиграции. Печатается по изданию: Мартов Л. Общественные и умственные течения в России. 1870 – 1905 гг. //В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории. М., 1994. Ч. 2. С. 54 – 62. Мельянцев Виталий Альбертович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международных экономических отношений Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Печатается по изданию: В. А. Мельянцев Россия за три века: экономический рост в мировом контексте // Общественные науки и современность. 2003. № 5. С. 84–95. Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) – химик, педагог, общественный деятель. Печатается по изданию: Менделеев Д. К познанию России и Дополнения к познанию России // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 2. С. 22–25. Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, публицист, политический деятель. Печатается по изданию: Милюков П. Н. «Исконные начала» и «требования жизни» в русском государственном строе // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 2. С. 42–47. Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – журналист, литературный критик, ученый. Печатается по изданию: Надеждин Н. И. Европеизм и народность в отношении к русской словесности // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 1. С. 29–33. Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – критик и публицист. Печатается по изданию: Писарев Д. И. Соч. в 4 т. Т. 2. Статьи 1862– 1864. М., 1955.С. 57, 64–67, 69–70, 81–82. 276 Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, писатель, журналист. В 1827–1830 гг. издавал журнал «Московский вестник», а в 1841–1856 гг. журнал «Москвитянин». С 1841 г. академик Петербургской академии наук. Статья «За русскую старину» является ответом на статью в «Московских ведомостях» (1845), в которой утверждалось, что Россия в своем развитии не прошла через период средних веков. Печатается по изданию: Погодин М. П. За русскую старину // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 1. С. 88–89. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт, писатель, историк. «Заметки по русской истории ХVIII века» являются историческим введением в автобиографические записки, которые Пушкин сжег после 1825 г. Печатается по изданию: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М., 1981. С. 273–275. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) – физик. В 60–70-е годы был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1975 г. – лауреат Нобелевской премии мира. Памятная записка была направлена на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 5 марта 1971 г. Ответа на нее не последовало. Послесловие написано в июне 1972 г. Печатается по изданию: Сахаров А. Мир, прогресс, права человека. Л., 1990. С. 32–33. Солженицын Александр Исаевич (родился в 1918 г.) – писатель. С 1945 по 1956 г. в заключении и ссылке. В 1957 г. реабилитирован. В 1970 г. лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1974 г. арестован и депортирован в ФРГ. В настоящее время живет в России. Печатается по изданию: Солженицын А. Как нам обустроить Россию. Посильные соображения. Л., 1990. С. 25–28, 38–39, 42, 44–45, 47–49. Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – историк, с 1872 г. академик Петербургской академии наук. С 1847 г. в Московском университете, профессор, в 1864–1879 гг. декан историкофилологического факультета, в 1871–1877 гг. ректор. В последние годы жизни председатель московского общества истории и древностей российских и директор Оружейной палаты. «Публичные чтения о Петре Великом» прочитаны автором в Колонном зале Дворянского 277 собрания во время празднования 200-летия со дня рождения Петра I. Печатается по изданию: Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 45, 50–57, 62–67. Соловьев Владимир Сергеевич (1885–1941) – философ, поэт и критик, впоследствии священник. Сын С. М. Соловьева. Печатается по изданию: Соловьев В. С. Путь русской культуры // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 2. С. 81–86. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) – деятель социал-демократического движения в России. Один из руководителей его большевистского направления, с конца 20-х годов фактически единоличный руководитель партии и Советского государства и лидер международного коммунистического движения. Печатается по изданию: Сталин И. В. Соч. Т. 12. М., 1949. С. 235, 256–261. Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – государственный деятель, с 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров. Печатается по изданию: Столыпин П. А. Жизнь и смерть. Саратов, 1991. С. 238–239, 254–255, 266–267. Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) – языковед, с 1919 г. в эмиграции, один из лидеров евразийства. Работа «Европа и человечество» сыграла большую роль в формировании евразийства как духовного течения и исторической школы. Печатается по изданию Трубецкой Н. С. Европа и человечество // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 2. С. 125–130. Федотов Григорий Петрович (1886–1951) – историк, теолог, публицист, с 1925 г. в эмиграции. Преподавал в Богословском институте (Париж), с 1941 г. в русской православной гимназии в НьюЙорке. Активно сотрудничал в ряде эмигрантских изданий, в том числе в евразийском журнале «Версты». Печатается по изданию: Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2. М., 1991. С. 302–303, 316–319. Хомяков Алексей Степанович (1808–1860) – поэт, писатель, публицист, религиозный философ. Печатается по изданию: В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией… Ч. 1. С. 64–65, 70–73. 278 Позиция № 46 в плане издания учебной литературы МГУ на 2005 г. Людмила Владимировна Шепотько ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Хрестоматия 17,5 уч.- изд. л. Тираж 150 экз. Формат 60 ? 84/16 Заказ № Отпечатано в типографии ИПК МГУ им. адм. Г. И. Невельского Владивосток, 59, ул. Верхнепортовая, 50а 279