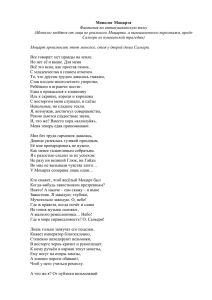ЗЛОДЕЯНИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ
реклама
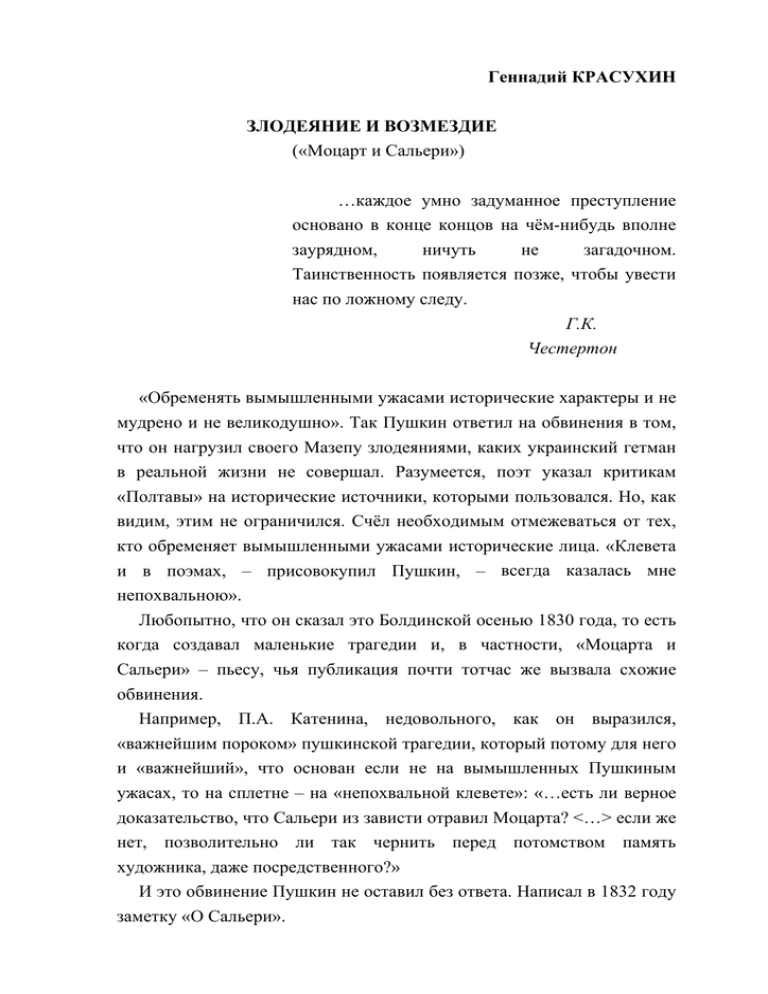
Геннадий КРАСУХИН ЗЛОДЕЯНИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ («Моцарт и Сальери») …каждое умно задуманное преступление основано в конце концов на чём-нибудь вполне заурядном, ничуть не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас по ложному следу. Г.К. Честертон «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно». Так Пушкин ответил на обвинения в том, что он нагрузил своего Мазепу злодеяниями, каких украинский гетман в реальной жизни не совершал. Разумеется, поэт указал критикам «Полтавы» на исторические источники, которыми пользовался. Но, как видим, этим не ограничился. Счёл необходимым отмежеваться от тех, кто обременяет вымышленными ужасами исторические лица. «Клевета и в поэмах, – присовокупил Пушкин, – всегда казалась мне непохвальною». Любопытно, что он сказал это Болдинской осенью 1830 года, то есть когда создавал маленькие трагедии и, в частности, «Моцарта и Сальери» – пьесу, чья публикация почти тотчас же вызвала схожие обвинения. Например, П.А. Катенина, недовольного, как он выразился, «важнейшим пороком» пушкинской трагедии, который потому для него и «важнейший», что основан если не на вымышленных Пушкиным ужасах, то на сплетне – на «непохвальной клевете»: «…есть ли верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? <…> если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного?» И это обвинение Пушкин не оставил без ответа. Написал в 1832 году заметку «О Сальери». 2 Пушкин знал, конечно, что далеко не все исследователи согласны с тем, что Сальери отравил Моцарта (этот факт не считается доказанным и поныне), и понимал, что «некоторые немецкие журналы», на которые он сослался как на источник распространения версии, будто Сальери и сам перед смертью сознался в отравлении, – не слишком авторитетны для тех, кто, как Катенин, требовал «верного доказательства». Поэтому в заметке «О Сальери» главный пушкинский аргумент – не немецкие журналы (журналами в то время называли и газеты), а то, что, по Пушкину, является важнейшей подоплёкой Сальериева преступления, что наполняет его мощной потенцией, – эпизод, разыгравшийся во время представления оперы Моцарта «Дон-Жуан»: «раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистию» 1 . Конечно, зависть – чувство очень малопочтенное, побуждающее не любить и даже ненавидеть того, кому завидуешь. Но, разумеется, что и люто ненавидящий ближнего завистник, втайне желающий ему любых несчастий – вплоть до смерти, совсем не обязательно может решиться на убийство. Такие случаи единичны. Так что Катенин абсолютно прав, требуя «верного доказательства». Но прав и Пушкин, убеждённый в том, что «верным доказательством» является кощунственная выходка Сальери на представлении оперы Моцарта: «Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца» 2 . Ибо поступок 1 Пушкин написал, что это случилось «в первое представление “Дон Жуана”». На что М.П. Алексеев много позже ответил, что «Сальери не мог присутствовать на первом представлении “Дон Жуана”, так как оно состоялось в Праге (29 октября 1787), а Сальери находился в это время в Вене». Ну что ж. Когда именно это произошло, Пушкин мог и запамятовать или иметь об этом неверную информацию. Куда важнее, что ужаснувший поэта факт публичного вандализма подтолкнул Пушкина к очень серьёзным выводам. 2 А была ли вообще эта кощунственная выходка? Доказано ли, что Сальери освистал «Дон-Жуана»? Для нас это не так уж и важно. Нам представляется, что прав М.Бонфельд, убеждённый в том, что «вне всякого сомнения, поверив ходившим в то время легендам, рисовавшим столь неприглядную демонстрацию зависти талантливого композитора к гениальному, Пушкин поверил и во вторую легенду – об отравлении его ближайшего, “кровного” собрата по творчеству. Да, Пушкин верил 3 Сальери – аномальный, ненормальный с точки зрения здравого смысла – показывает, что его совершил человек, не просто охваченный завистью, но, по точному пушкинскому определению, – «в бешенстве, снедаемый завистью». А бешенство – опаснейшее свойство человека. Оно действительно смертоносно: сам корень слова «бешенство» указывает на то, что поддавшийся этому чувству человек себе не принадлежит, что им руководит бес. Мне думается, что заметкой «О Сальери» Пушкин многое прояснил и в мотивации злодеяния своего персонажа. И очень жаль, что исследователи его трагедии в этом к нему не прислушались. *** «Драм.<атический> поэт, – сформулировал однажды Пушкин, – беспристрастный, как судьба…». «Никакого предрассудка любимой мысли», – записал он в другой раз о том, «что нужно драматическому писателю». А это значит, что принципиально неверными (и мы в разговоре о драмах Пушкина всё время стараемся это показать) окажутся попытки исследователей определить на стороне кого из героев выступает в том или ином месте своей пьесы Пушкин. Это значит, что устами персонажей говорят они сами, а не их автор, дело которого (опять же по Пушкину) передать в пьесе «истину страстей» и «правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» (там же: 178; «правдоподобие здесь – «правда»). Что пушкинский Сальери – завистник, мы слышим от него самого. Что он убийца, убеждаемся, так сказать, воочию. Но что разожгло его зависть до бешенства, до желания убить ненавистного ему человека? Обычно на этот вопрос отвечают так: Моцарт, который для Сальери и сам по себе человек, недостойный своего дара, от души хохочет, в кощунственную выходку Сальери, верил вне всякого сомнения! Из этой веры и родилась пьеса, то есть художественное произведение, чьи персонажи могут разительно отличаться от своих прототипов. Поэтому примеривать сюжет пушкинской трагедии на прототипов её героев – на совершенно реальных композиторов Моцарта и Сальери, как это сделал в той же статье М.Бонфельд, на наш взгляд, абсолютно неправомочно. 4 слушая неумелую, фальшивую игру трактирного скрипача, которого привёл в дом к Сальери. Того это бесит: Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля, Мне не смешно, когда фигляр презренный Пародией бесчестит Алигьери. По мнению М.М. Бахтина, эти слова произносит «хмурый агеласт». Агеласт – человек, лишённый юмора, не понимающий его. Но если б Моцарт знал Сальери как агеласта, зачем бы он привёл к нему в дом скрипача-неумёху да ещё приговаривал при этом: «Не вытерпел, привёл я скрыпача, / Чтоб угостить тебя его искусством»? Нет, он ведёт себя как человек, которому не терпится поделиться свежеуслышанным анекдотом с другим, с другом, с тем, о ком он знает, что тот его поймёт. Другое дело, что реакция Сальери ошарашивает, озадачивает Моцарта, но он находит ей единственно правдоподобное объяснение: Ты, Сальери, Не в духе нынче. Я приду к тебе В другое время. Единственно логичное объяснение поведения Сальери: «нынче» тот, по мнению Моцарта, «не в духе», потому что «в другое время» он знал Сальери другим, да и последующий текст трагедии это подтверждает: вон как оживлён и совсем не хмур Сальери во второй (и последней) сцене, где, кстати, возникает разговор о комедиографе Бомарше, с которым, как выясняется, был дружен Сальери. А главное, если признать, что Сальери доводит до исступления именно весёлость Моцарта, то связь этого эпизода с завистью Сальери окажется весьма проблематичной. Как связаны между собой зависть Сальери с его же ненавистью к Моцарту, от которой он заходится, хватается за яд и помышляет об убийстве? Точнее – как одно здесь вытекает из другого? 5 Отвечая на это, обычно указывают, что Сальери завидует не столько дару Моцарта, сколько тому, что «священный дар», «бессмертный гений» …не в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, моленья послан – А озаряет голову безумца, Гуляки праздного… Вот, дескать, и в весёлости Моцарта Сальери увидел очередное доказательство пренебрежения искусством, лишнее свидетельство того, что с точки зрения творчества он, Моцарт, – нонсенс, неправильность, недоразумение… Но те, кто так отвечают, те, кто так думают, идут здесь не за Пушкиным, а за самим же Сальери, который именно так всё это и изображает. Хитрый, коварный лис, поднаторевший в искусстве обмана, сумевший не просто втереться в доверие к Моцарту, но сделаться близким ему человеком, стать его другом, он и здесь умело и ловко заметает следы. Признался было в том, что охвачен низким чувством, и тут же донельзя его облагородил: он завидует, видите ли, не дару Моцарта, а тому, что тот получил его не по заслугам! Завидует, так сказать, из чувства справедливости! В бумагах Пушкина сохранился афоризм, который предположительно тоже относят к 1830 году: «Зависть – сестра соревнования, следст.<венно> из хорошего роду». Трудно сказать, для чего или для кого записал Пушкин своё изречение. Может, для кого-то из своих героев? Во всяком случае, важно уяснить себе, что он не оправдывает зависти, как думают иные исследователи, но устанавливает её родословную, – так указывают на выродка, припоминая, что тот – из хорошей семьи. Но как не прибавит обаяния выродку это обстоятельство, так не облагородит зависти констатация её благородного происхождения. Зависть вообще нельзя облагородить, её можно только изжить в себе, если ты осознал, что захвачен низким, корыстным чувством, и сумел 6 мобилизовать все свои душевные силы на борьбу с ним. Говоря языком пушкинской трагедии, зависть и чувство справедливости – «две вещи несовместные»! Понимая это, многие пушкинисты вообще оставляют в стороне разговор о зависти Сальери и сосредотачиваются на декларируемой им роли жреца искусства, которую, разумеется, развенчивают, как развенчивают и провозглашённое Сальери жреческое право на убийство Моцарта: «Я избран, чтоб его / Остановить». С Сальери спорят, его увещевают, с его убеждениями борются, их даже объявляют сверхчеловеческими, а его самого – предтечей Ницше. Вот как выгодно сумел подать себя Сальери! Неплохой психолог и неплохой актёр, он почти безупречен в придуманной для себя, в отведённой себе роли. Но именно – почти. Недаром П.А. Катенин, прочитавший пьесу, потребовал и для прототипа пушкинского героя «верного доказательства», что тот «из зависти отравил Моцарта». Стало быть, он разглядел, что в пьесе такое доказательство Пушкиным предъявлено, что пушкинский Сальери отравил Моцарта, не следуя некой своей доктрине и не повинуясь неким своим убеждениям, но из зависти. *** Что Сальери в совершенстве владеет собою, что он терпелив и даже долготерпелив, скажет зловещий «дар любви» – яд, доставшийся ему в наследство от «моей Изоры», который он «осьмнадцать лет» носит с собой, не сомневаясь, что пустит его в дело, неторопливо высматривая, выжидая достойную жертву. (Какова, однако, сущность этого человека, если даже былая его любовь словно пропитала его ядом, уподобила смертоносному анчару из знаменитого пушкинского стихотворения!) Поэтому, конечно, правы исследователи, особенно пристально всматриваясь в сцену с трактирным скрипачом, – это единственное место в пьесе, где Сальери утратил контроль над собой: его резкость и даже грубость настолько не соответствуют реальной ситуации, что Моцарт и не соотнёс их с ней, решив, что его друг нынче попросту не в духе. 7 «Пошёл, старик!» – взашей гонит взбешённый Сальери из дому скрипача, завершая гневную свою инвективу в адрес тех, кто «бесчестит», «пачкает» искусство. Что же всё-таки вывело Сальери из себя? Послушаем Моцарта, которого, прежде чем прийти в неистовое бешенство, слушает Сальери: Я шёл к тебе, Нёс кое-что тебе я показать; Но проходя перед трактиром, вдруг Услышал скрыпку… Нет, мой друг Сальери! Смешнее отроду ты ничего Не слыхивал… Слепой скрыпач в трактире Разыгрывал voi che sapete. Чудо! Не вытерпел, привёл я скрыпача, Чтоб угостить тебя его искусством. «Войди!» – приглашает старика Моцарт и заказывает ему: «Из Моцарта нам что-нибудь!». Он заказывает из Моцарта, потому что насмешил его старик, потешно разыгрывая его, Моцартову, музыку: «voi che sapete» («О вы, кому известно») – арию Керубино из оперы «Женитьба Фигаро». И Сальери ждёт, что скрипач заиграет эту арию. Возможно, что и он посмеялся бы вместе с Моцартом, ведь он так артистично умеет ему подыгрывать. Но скрипач играет не эту арию и даже не из этой оперы. Старик, как сказано в ремарке пьесы, «играет арию из “Дон-Жуана”». Играет, наверное, не менее потешно, о чём свидетельствует от души хохочущий Моцарт. Но до смеха ли Сальери, который из всего этого выводит, как невероятно популярен Моцарт у всех слоёв общества? Может ли смеяться тот, для кого игра скрипача сейчас, как пытка: она наполняет душу Сальери чёрной, сумасшедшей завистью к славе Моцарта. Да, именно в этом, а не в чём-то другом, истоки бешенства, которым охвачен пушкинский Сальери и которое вполне сопоставимо с бешенством его прототипа, освиставшего оперу Моцарта (кстати, именно «Дон-Жуана»; и это, думается, не случайно: Пушкин как бы 8 сближает своего героя с его реальным прототипом в том, что оба с ненавистью слушают одни и те же звуки!). В пьесе Сальери долго не может овладеть собой. Не может успокоиться даже тогда, когда Моцарт играет ему свою новинку. Слушает ли её Сальери? Наверняка, не очень внимательно, потому что в это время его воображение все ещё занято трактирным скрипачом. Он и сам скажет об этом, едва замрут последние аккорды Моцартовой музыки: Ты с этим шёл ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрыпача слепого! – Боже! Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Да и в следующей – второй сцене, конечно, искренне удивлён Сальери, узнав, что Моцарт пишет реквием. И, конечно, навряд ли он бы удивлялся, если б вслушался в то, что говорил ему Моцарт после ухода скрипача, перед тем как сыграть свою новую вещь: Представь себе… кого бы? Ну, хоть меня – немного помоложе; Влюблённого – не слишком, а слегка – С красоткой, или с другом – хоть с тобой – Я весел… Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак иль что-нибудь такое… Разумеется, он не рассказывает музыку, как решил С.М. Бонди, верно заметивший, что вообще-то «рассказать словами» музыку нельзя. Пушкин знает законы музыки и не побуждает своего героя к нелепости. Его Моцарт рассказывает другу не музыку, а о том душевном состоянии, в каком она была написана, делится с Сальери новым своим душевным состоянием, своими тревожными предчувствиями, о которых заговорит ещё громче во второй сцене. Но Сальери, чьё воображение никак не может освободиться от ушедшего скрипача, сейчас его не слушает, не слышит. Вот почему так удивительно 9 неконкретна, так обща, так трафаретна его восторженная оценка нового произведения Моцарта: Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Он, кажется, ощущает и сам, что его рецензия слишком абстрактна, и потому старается расцветить её экзальтацией: Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я. Но гармоническое ухо Моцарта немедленно улавливает неоправданное повышение регистра тона, и он возвращает друга, так сказать, с небес на землю: Ба! право? может быть… Но божество моё проголодалось. Странно было бы поверить, что Сальери действительно считает Моцарта богом. Особенно после того, как тот привёл к нему в дом трактирного скрипача, раздувшего в душе Сальери бушующий костёр зависти. Ведь если до встречи со скрипачом Сальери выражал своё удовлетворение тем, что Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашёл созвучия своим созданьям, – если он в это верил или хотя бы хотел в это верить, то приведённый Моцартом старик не оставил от его веры камня на камне. Недаром, привычно обволакивая пафосным туманом своё решение убить Моцарта: «Я избран, чтоб его / Остановить…», окутывая им и самостийно возложенное на себя представительство от имени всех: 10 «…не то мы все погибли, / Мы все, жрецы, служители музыки…», Сальери не только не смог удержать эту общность со всеми, но вынужден констатировать такое от всех отличие, которое особенно болезненно, особенно нестерпимо его самолюбию. «Не то мы все погибли…» – начал Сальери. А закончил так: Не я один с моей глухою славой… С «глухою» – то есть со славой, нашедшей отклик в немногих сердцах, с очень малой, очень узкой, очень ограниченной известностью. Воистину на собственную погибель привёл Моцарт слепца-скрипача к Сальери, превратив его из злейшего своего завистника в смертельного врага! *** Потому что слава – цель и смысл существования Сальери в музыке, которая для него не божество, как он всё время нам внушает, а всего лишь средство к достижению славы, подножие на пути к ней. Сальери и сам свидетельствует, что устремился к славе сразу же, как только взялся за сочинительство. Свидетельствует, так сказать, косвенно – не желая того, не замечая, что проговаривается. Потому что собирался создать о себе прямо противоположное впечатление: Я стал творить, но в тишине, но в тайне, Не смея помышлять ещё о славе. Но, вспоминая о первых своих шагах в творчестве, описывая, как именно «стал творить», он не только не подтверждает, что слава его в то время не занимала, но, наоборот, показывает, что лишь о ней и думал, «помышлял», «смел помышлять»: Нередко, просидев в безмолвной келье Два-три дня, позабыв и сон и пищу, Вкусив восторг и слёзы вдохновенья, 11 Я жёг мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, с лёгким дымом исчезали. Ибо чем же ещё, если не помыслом о славе, объяснить хладнокровное уничтожение Сальери даже тех своих опусов, благодаря которым он вкусил «восторг и слёзы вдохновенья», которые ощутил как «мной рожденны» – физической частичкой самого себя. Чем объяснить такое его самоедство, если не расчётливым прикидыванием, примериванием, досягают или нет его создания до известных, знаменитых, прославленных образцов? И разве не о той же расчётливой устремлённости к славе говорит невероятное, с точки зрения здравого смысла, поведение Сальери, «когда великий Глюк / Явился и открыл нам новы тайны / (Глубокие, пленительные тайны)»? Не бросил ли я всё, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошёл ли бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную? Правда, тот же здравый смысл подсказывает аналогию: Сальери ведёт себя здесь, как игрок, рискующий всем своим капиталом. Но в том-то и дело, что подобная аналогия выйдет весьма приблизительной, потому что капитал, с которым расстаётся Сальери, для него цены не имеет: за его готовностью отказаться от себя – бросить «всё, что прежде знал, / Что так любил, чему так жадно верил…», проступает единственная признаваемая им ценность, ощущаемая как величайшая драгоценность, ради обладания которой он пойдёт на что угодно, – слава. Поэтому не стоит верить Сальери, что был в его жизни якобы такой период, когда он «наслаждался мирно» не только «своим трудом, успехом, славой», но «также / Трудами и успехами друзей, / Товарищей моих в искусстве дивном». Привыкший проницать за дивным 12 искусством величину успеха его создателя, он попросту не мог бы «мирно» наслаждаться чужим успехом, чужою славой. Не следует ему верить и в том, что до Моцарта он не знал зависти. Если бы ревнивые кошки не скребли у него на сердце, «когда Пиччини / Пленить умел слух диких парижан» и «когда услышал в первый раз / Я Ифигении начальны звуки», то зачем бы ему вообще вспоминать об этих событиях? Тем более что, вспоминая о них, он фиксирует такую примечательную подробность музыкальной жизни его прототипа, как борьба враждующих партий «глюкистов» и «пиччиннистов», группировавшихся вокруг Глюка и Пиччинни (его фамилию Пушкин пишет с одним «н», не так, как мы сегодня, – с двумя). В эту борьбу был втянут и реальный композитор Антонио Сальери. Но если пушкинский Сальери – «глюкист», как его прототип (а это, видимо, так: он же и сам говорит, что пошёл за «великим Глюком»!), то для чего ему подчёркивать, что он не завидовал Пиччини, которого «глюкисты» не уважали и чей талант отрицали? В том-то и дело, что пушкинский герой и здесь сидит на своём любимом коньке: прикидывает на вес и величину чужую славу. Время сумело примирить Сальери со славой, доставшейся увертюре – «начальным звукам» Глюковой оперы. Потому, наверное, что, следуя им, он и сам вышел на тропу известности. Но над его завистью к успеху Пиччини в Париже время не властно. Недаром Сальери и сейчас злобствует, называя (точнее – обзывая) парижан «дикими». Кстати, именно эта злоба и выдаёт его первоначальное отношение к Глюковой увертюре, которая уравнена для него с успехом Пиччини у парижан тем, что достойна зависти. Вот как недобро памятлив на чужой успех Сальери! Сам же признаёт, что многим, если не всем, обязан Глюку, а надолго, быть может, даже навсегда запомнил свои неприятные ощущения, «когда услышал в первый раз / Я Ифигении начальны звуки»! *** Но почему же всего этого не видит в Сальери Моцарт? Конечно, прежде всего потому, что Сальери безупречно играет роль друга Моцарта, а тот не может распознать его игры. 13 Не может не по простодушию и не потому, что якобы лишён проницательности, а потому, что Сальери ни разу не дал ему повода что-либо заподозрить. Величайшее психологическое мастерство Пушкина проявляется в этой трагедии тем, что её герои говорят на разных языках, но Сальери так умело при этом приспосабливается к собеседнику, что тот убеждён, что они – союзники, единомышленники. Эта убеждённость особенно сказывается в его обращённом к Сальери тосте, который выражает не только огромную приязнь, не только громадное доверие к Сальери, но и неколебимую уверенность Моцарта в их сопричастности друг другу: За твоё Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери, Двух сыновей гармонии. Трагикомизм ситуации здесь состоит в том, что с этими словами Моцарт выпивает яд, так и не сумев понять, с кем имеет дело. Да и как ему это понять, если единственная на протяжении всей пьесы их размолвка, спровоцированная появлением скрипача из трактира, разрешается благодаря Сальери чуть ли не идиллически: – Теперь / Тебе не до меня, – заключает Моцарт, убеждаясь, что его друг «не в духе нынче». – Ах, Моцарт, Моцарт! – укоризненно откликается Сальери. – / Когда же мне не до тебя? Что ему всё-таки не до Моцарта, не до его новинки, скажет он сам, после того как Моцарт закончит играть: Ты с этим шёл ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрыпача слепого! – Боже! Ты, Моцарт, недостоин сам себя. 14 Но мог ли понять это Моцарт, даже не подозревающий, что не его новая вещь, а «скрыпач слепой» занимал, пока он играл, воображение Сальери? Что, кроме лёгкого дружеского упрёка себе, мог он услышать в этих словах Сальери? К тому же легчайший ему упрёк сдобрен для Моцарта тем, что его новинка Сальери явно и очень по вкусу. И тот охотно это подтверждает, рассыпаясь в высочайших, пусть и преувеличенных, на слух Моцарта, комплиментах. «Ты плачешь?» – спрашивает уже отравленный Моцарт, приметив слёзы на глазах Сальери, которому играет свой реквием. «Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии», – отзывается об этих слезах Моцарт, опровергая, кстати, таким образом мнение писателя Фазиля Искандера о том, что Моцарт догадался, что Сальери его отравит. Искандер не первый в пушкинистике, кто так думает. Первым подобную мысль высказал, кажется, С.М. Бонди. Но Искандер впервые её внятно обосновал: по его мнению, Моцарт знает, что его отравят, готов выпить и выпивает отраву, чтобы своею смертью воздействовать на совесть и душу Сальери – пробудить их к жизни, к покаянию. Такая убеждённость замечательного современного писателя добавляет характеру Моцарта черту жертвенного подвижничества, но, как видим, расходится с пушкинским текстом, где отравленный Моцарт искренно восхищён силой и глубиной гармонического чувства своего убийцы, которое для него – очень прочная скрепа связи с ним, союза с ним. Об этом союзе он говорил, провозглашая тост за Сальери, говорит и сейчас, глубоко взволнованный слезами друга, ещё раз убеждённый его слезами, что на «вольное искусство» – на его цели и на его задачи – они с другом смотрят одинаково: Нас мало избранных, счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов. Допустить, что Моцарт сейчас лицедействует, – значит не просто уравнять его с Сальери, но обессмыслить всё его поведение здесь: какая необходимость в таком его притворстве, если он знает, что уходит 15 умирать? Да и нашёл бы Моцарт в себе сил восхищаться отравителем, если б знал об отравлении? Думаю, что навряд ли. Но, зафиксировав восхищение Моцарта, пушкинский текст зафиксировал и то, что восхищается он зря, потому что напрасно решил, что слёзы Сальери относятся к нему, к его реквиему. Снова Моцарт не может понять состояние души Сальери. Снова идёт по ложному следу и потому не постигает истинного смысла ответа Сальери на своё: «Ты плачешь?»: Эти слёзы Впервые лью: и больно и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как будто нож целебный мне отсёк Страдавший член! А ведь Сальери сказал: «Впервые лью» совсем не потому, что, как решили многие пушкинисты, позабыл о других слезах, которые ему довелось проливать и о которых сам же рассказывал прежде, – о тех, что лил, «ребёнком будучи», слушая органную музыку, или о тех, которые нередко сопровождали его вдохновение, когда он делал первые шаги на музыкальном поприще. Нет, он говорит «впервые» потому как раз, что нынешние – «эти слёзы» музыкой не вызваны и с ней не связаны. (Но как бы мог Моцарт догадаться об этом?) Мы помним, как, доставая яд – «последний дар моей Изоры», пространно распространялся Сальери о том, почему восемнадцать лет удерживал себя от искушения пустить его в дело, помним, чем обосновывал Сальери свой решение отравить Моцарта, в ком сошлись для него вся злоба и вся несправедливость мира. Недаром пушкинская трагедия начинается даже не сетованием Сальери, а его откровенным богохульством: Все говорят: нет правды на земле, Но правды нет – и выше, – 16 и виною этой сатанинской убеждённости – Моцарт, который заставляет Сальери отслеживать каждый его шаг, завидовать каждому его шагу. Велика зависть Сальери и велика его ненависть. Так велики они, что никакие резоны не смогут заставить его изменить своё решение. Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил? – вспоминает расхожую сплетню Моцарт. Не думаю: он слишком был смешон Для ремесла такого, – отвечает Сальери каламбуром Вольтера, который словом «смешон» обыгрывал тяготение Бомарше к комедийному жанру. Но, повторяя Вольтера, Сальери как бы снимает двусмысленность его каламбура, ибо в том, что «для ремесла такого» нужны значительность и незаурядность, нисколько не сомневается. Именно поэтому он так подчёркнуто небрежен к аргументам Моцарта в пользу того, почему Бомарше не может быть отравителем: Он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство – Две вещи несовместные. Не правда ль? «Ты думаешь?» – отзывается вопросом на вопрос Сальери. И словно для того, чтобы показать смехотворность, блажность подобного мнения, тут же, как отмечено в ремарке пушкинской пьесы, «бросает яд в стакан Моцарта». «Впервые лью» – сказал о своих слезах отравитель. Он довольно точно сравнил себя с тем, кто исполнил тяжкий долг, кто перенёс удачную хирургическую операцию, – с тем, кто, высвободившись изпод болезненной и мучительной тяжести, обрёл упоительную лёгкость. Сальери плачет от упоения собой, достигшим апогея внутренней свободы, ибо вместе с уходящим из жизни Моцартом уходят, как 17 чувствует сам Сальери, и несправедливость к нему судьбы, и постоянная его настороженность, и неодолимая зависть к Моцарту. «Ты плачешь?» – спрашивает его Моцарт, и объясняющий своё состояние убийца, кажется, готов поделиться радостью с собственной жертвой, которая больше не представляет для него опасности и чьи последние жизненные мгновенья могут стать ещё большей усладой для умиляющегося собой Сальери: Друг Моцарт, эти слёзы… Не замечай их. Продолжай, спеши Ещё наполнить звуками мне душу. Поэтому с таким утробным, животным удовлетворением произносит он в спину уходящему умирать Моцарту в ответ на его «пойду, засну»: Ты заснёшь Надолго, Моцарт! Предал ли Сальери их отношения друг к другу, которые, по словам Сергия Булгакова, «запечатлены исключительным избранием дружбы». Думаю, что нет, не предал, потому что ему нечего было предавать: ведь он всего лишь притворялся другом Моцарта. Это только с точки зрения ни о чём не подозревающего Моцарта их отношения могут быть представлены как «исключительное избрание дружбы» 3 . Но какую страшную цену заплатил Моцарт за свою веру в это! 3 Вот типичный подход к литературной вещи философа, который вышел за пределы её контекста и оказался не на поле художника, а на своём, философском, поле. А на нём всякая сентенция литературного персонажа – обычная жизненная максима, какую он, философ, волен одобрять или оспаривать в соответствии с тем учением, которое проповедует. Так что не литературоведческий анализ выходит из-под пера философа, пусть даже и выдающегося, каким был С. Булгаков, а, эссе, то есть – заметки на полях произведения, а не углублённый разбор его. 18 *** И в то же время мы не можем вовсе отказать ему в проницательности, не можем не подтвердить верности его предчувствия, которое, конечно, есть следствие гениальной его художнической интуиции и незаурядного ума. Своей интуицией художника он улавливает некую дисгармонию, о которой говорил не слышавшему его Сальери в первой сцене, говорит и сейчас в – трактире: Мне день и ночь покоя не даёт Мой чёрный человек. За мною всюду Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам-третей Сидит! Прежде он рассказывал Сальери, как вторгаются в его безоблачное, жизнерадостное, жизнелюбивое восприятие мира «…виденье гробовое, / Незапный мрак иль что-нибудь такое…» Сейчас он более конкретен: «виденье гробовое», «незапный мрак» олицетворены, персонифицированы для него в таинственном незнакомце: Недели три тому, пришёл я поздно Домой. Сказали мне, что заходил За мною кто-то. Отчего – не знаю, Всю ночь я думал: кто бы это был? И что ему во мне? Назавтра тот же Зашёл и не застал опять меня. На третий день играл я на полу С моим мальчишкой. Кликнули меня; Я вышел. Человек, одетый в чёрном, Учтиво поклонившись, заказал Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас И стал писать – и с той поры за мною Не приходил мой чёрный человек… 19 «Не пророк, а угадчик» – Пушкин очень ценил эту народную поговорку о человеческом уме, который, по пушкинским словам, исключительно удачно ею охарактеризован: «он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, но невозможно ему предвидеть случая…». Что Моцарт видит «общий ход вещей», что он может «выводить из оного глубокие предположения», как раз и доказывает чёрный человек, занимающий сейчас его воображение, потому что, по всем народным поверьям, чёрный человек – это образ смерти. Нам уже приходилось говорить о постоянно подчёркиваемой самим Пушкиным принципиальной ориентации его театра на театр Шекспира, который основан на народной драме, то есть такой театр абсолютно всерьёз считается с преданиями и верованиями народа. «Вот и теперь / Мне кажется, он с нами сам-третей / Сидит!» – говорит Моцарт Сальери о чёрном человеке, делится с другом предчувствием близкой смерти. Откуда, от кого она последует, он не знает, ибо «невозможно ему предвидеть случая», роль которого в этом смысле отведена Сальери. Он чувствует только, что скоро умрёт, хотя и совестится своего предчувствия: «Мне совестно признаться в этом…» – говорит он Сальери. Нет, он не знает, что его убийца Сальери. Отравленный им, он уходит умирать, сопровождаемый репликой Сальери, давшего волю своему чувству глубочайшего удовлетворения: «Ты заснёшь / Надолго, Моцарт!» Но как недолго длится его удовлетворение, как краток период его эйфории, как быстро и как внезапно оставляет его победное настроение, чтобы уступить место паническому: Но ужель он прав, И я не гений? Гений и злодейство Две вещи несовместные. Много ль времени прошло с тех пор, как сразу после этих слов Моцарта он бросил ему в стакан яд, словно насмехаясь над ними? И вот он уже охвачен паникой, вспоминая их, повторяя их… 20 Удивительно, что Полное собрание пушкинских сочинений не зафиксировало, как по-разному записал одни и те же слова в своей пьесе Пушкин. За моцартовскими «гений и злодейство» в первой публикации пушкинской трагедии (альманах «Северные цветы на 1832 год) следовало тире, которое я восстановил при цитировании: оно подобно знаку равенства, ибо в том, что они «две вещи несовместные», Моцарт не сомневается. У Сальери тире отсутствует – наверняка потому, что злодею даже сейчас очень важно поколебать категорическую уверенность уничтоженного им художника, взять под сомнение его непререкаемую убеждённость: Неправда: А Бонаротти? Но распространённая легенда о том, что Микеланджело умертвил натурщика, чтобы правдоподобней запечатлеть муки умирающего, кажется, становится не очень убедительной и для самого Сальери: …или это сказка Тупой, бессмысленной толпы – и не был Убийцею создатель Ватикана? Так что апелляция к Бонаротти (сейчас его имя пишут по-другому: Буонаротти) не только не даст Сальери преимущества в его споре с убитым им Моцартом, но, пожалуй, что она лишь унизит Сальери. Ведь он потому и говорит о себе: «гордый», что брезгливо отстраняется от «тупой, бессмысленной толпы», заносится перед ней. Но кроме её «сказки», других аргументов для спора с Моцартом у Сальери нет. А спорить с ним он теперь принуждён навсегда. Потому что пьеса окончена. Как раз на ставшем для Сальери чрезвычайно сомнительном контр-доводе. Можно было бы не то что согласиться, но не оспаривать Е. Абдуллаева, который написал, что после убийства Моцарта «вопрос о том, какую цену следует платить “небу” за обладанием гением <…> становится для Сальери радикально: является он гением или нет?». 21 Мне-то думается, что относительно себя Сальери не обольщался до убийства Моцарта, не обольщается и после убийства. Но в чём решительно нельзя согласиться с критиком, так это в том, что он по существу солидаризовался с Сальери: «Для Пушкина, видимо, гений несовместим со злодейством не в силу моральных качеств, но в силу того, что гений – смешон, легкомыслен, “недостоин сам себя”» (там же). Нет уж, ради провозглашений таких истин Пушкин за перо не взялся бы. Поэзия выше нравственности, замечал он, имея в виду обиходную нравственность, которая есть морализаторство. Но моральными качествами гения в обиходным смысле – то есть, художника – не пренебрегал. С другой стороны, мне представляется надуманным восходящее к Белинскому понимание идеи пушкинской трагедии как «вопроса о сущности и взаимных отношениях таланта и гения». Подобный вопрос и для реальной жизни не слишком актуален, поскольку очень мало для неё типичен. Тем более не актуален он для искусства, которое судит о реальности с точки зрения идеального мира и, стало быть, постигает закономерности, исключающие случайность. «Он же гений, / Как ты да я», – говорит другу Моцарт о Бомарше, несомненно разумея под словом «гений» не какую-то высшую, а самую обычную художническую одарённость. Потому что говорит: «как… я». А себя Моцарт к небожителям искусства причислять не станет: вспомним, как насмешливо отклонил он от себя сомнительную честь именоваться богом. Сальери мог внушать другим, что не завидует чужой славе, что радуется чужой известности, но, набивая себе цену в глазах других, хорошо знал, сколько стоит на самом деле. Теперь он совершил поступок, который, как считает, по плечу лишь избранным. Сравнялся с ними хотя бы в этом. Так почему бы ему не продолжать испытывать чувство глубокого удовлетворения? И, уж конечно, не страх разоблачения лежит в основе его панического состояния. Убив Моцарта, Сальери не станет же делиться этой новостью с другими. А тем неоткуда больше узнать о совершённом им злодействе. 22 Как не сразу подействовал яд Сальери, брошенный в вино Моцарту, так не сразу подействовали слова Моцарта, брошенные в душу Сальери. Но подействовали наподобие яда – отравили душу чернейшим подозрением: «Ужель он прав? / И я не гений?» Чернейшим и для Сальери – непереносимым. Ведь он даровит. Сам Моцарт с удовольствием вспоминает его «Тарара», которого Сальери сочинил для Бомарше, – «вещь славную», по отзыву Моцарта. Но просто считать себя даровитым, Сальери не согласен. Он воспринимает слова Моцарта о гении: «Как ты да я» на свой манер, не различая в них следов Моцартова простодушия. Гений, по Сальери, – человек высшей одарённости, которому позволено всё! Тем более что у Сальери был очень веский аргумент в пользу вседозволенности: молва о злодеянии «Бонаротти». Но ведь гений Моцарт несомненно тоже слышал об этом. Слышал и не верил молве. Прежде душа Сальери корчилась от зависти, изнывала от кажущейся ей несправедливости судьбы. Теперь его душа охвачена ужасом: кому он поверил? С кем оказался солидарен – с гением или с толпой? На чьей стороне выступил, совершив злодейство? Вот вопрос, подсказанный Моцартом и проясняющий суть настигшего Сальери возмездия. Ибо свой спор с убитым его убийца навсегда теперь обречён проигрывать: вечно возражая Моцарту, вечно истерически выкрикивая: «Неправда», Сальери будет вечно вынужден цепляться за аргументы, которые при ближайшем рассмотрении окажутся сомнительными и попросту недостоверными даже для него самого.