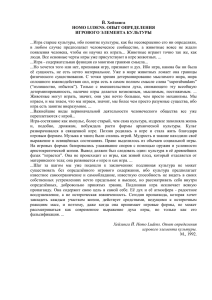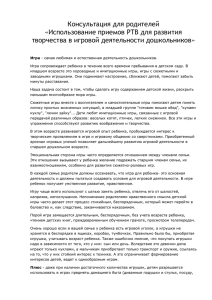ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ Йохан Хейзинга
реклама
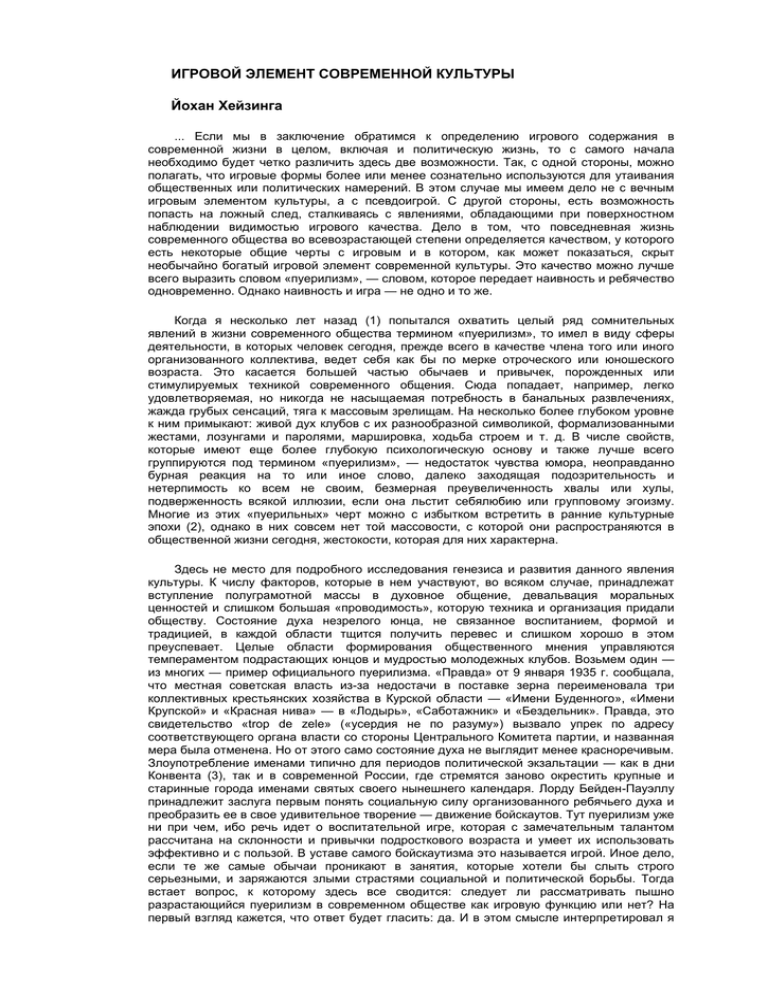
ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ Йохан Хейзинга ... Если мы в заключение обратимся к определению игрового содержания в современной жизни в целом, включая и политическую жизнь, то с самого начала необходимо будет четко различить здесь две возможности. Так, с одной стороны, можно полагать, что игровые формы более или менее сознательно используются для утаивания общественных или политических намерений. В этом случае мы имеем дело не с вечным игровым элементом культуры, а с псевдоигрой. С другой стороны, есть возможность попасть на ложный след, сталкиваясь с явлениями, обладающими при поверхностном наблюдении видимостью игрового качества. Дело в том, что повседневная жизнь современного общества во всевозрастающей степени определяется качеством, у которого есть некоторые общие черты с игровым и в котором, как может показаться, скрыт необычайно богатый игровой элемент современной культуры. Это качество можно лучше всего выразить словом «пуерилизм», — словом, которое передает наивность и ребячество одновременно. Однако наивность и игра — не одно и то же. Когда я несколько лет назад (1) попытался охватить целый ряд сомнительных явлений в жизни современного общества термином «пуерилизм», то имел в виду сферы деятельности, в которых человек сегодня, прежде всего в качестве члена того или иного организованного коллектива, ведет себя как бы по мерке отроческого или юношеского возраста. Это касается большей частью обычаев и привычек, порожденных или стимулируемых техникой современного общения. Сюда попадает, например, легко удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях, жажда грубых сенсаций, тяга к массовым зрелищам. На несколько более глубоком уровне к ним примыкают: живой дух клубов с их разнообразной символикой, формализованными жестами, лозунгами и паролями, маршировка, ходьба строем и т. д. В числе свойств, которые имеют еще более глубокую психологическую основу и также лучше всего группируются под термином «пуерилизм», — недостаток чувства юмора, неоправданно бурная реакция на то или иное слово, далеко заходящая подозрительность и нетерпимость ко всем не своим, безмерная преувеличенность хвалы или хулы, подверженность всякой иллюзии, если она льстит себялюбию или групповому эгоизму. Многие из этих «пуерильных» черт можно с избытком встретить в ранние культурные эпохи (2), однако в них совсем нет той массовости, с которой они распространяются в общественной жизни сегодня, жестокости, которая для них характерна. Здесь не место для подробного исследования генезиса и развития данного явления культуры. К числу факторов, которые в нем участвуют, во всяком случае, принадлежат вступление полуграмотной массы в духовное общение, девальвация моральных ценностей и слишком большая «проводимость», которую техника и организация придали обществу. Состояние духа незрелого юнца, не связанное воспитанием, формой и традицией, в каждой области тщится получить перевес и слишком хорошо в этом преуспевает. Целые области формирования общественного мнения управляются темпераментом подрастающих юнцов и мудростью молодежных клубов. Возьмем один — из многих — пример официального пуерилизма. «Правда» от 9 января 1935 г. сообщала, что местная советская власть из-за недостачи в поставке зерна переименовала три коллективных крестьянских хозяйства в Курской области — «Имени Буденного», «Имени Крупской» и «Красная нива» — в «Лодырь», «Саботажник» и «Бездельник». Правда, это свидетельство «trop de zele» («усердия не по разуму») вызвало упрек по адресу соответствующего органа власти со стороны Центрального Комитета партии, и названная мера была отменена. Но от этого само состояние духа не выглядит менее красноречивым. Злоупотребление именами типично для периодов политической экзальтации — как в дни Конвента (3), так и в современной России, где стремятся заново окрестить крупные и старинные города именами святых своего нынешнего календаря. Лорду Бейден-Пауэллу принадлежит заслуга первым понять социальную силу организованного ребячьего духа и преобразить ее в свое удивительное творение — движение бойскаутов. Тут пуерилизм уже ни при чем, ибо речь идет о воспитательной игре, которая с замечательным талантом рассчитана на склонности и привычки подросткового возраста и умеет их использовать эффективно и с пользой. В уставе самого бойскаутизма это называется игрой. Иное дело, если те же самые обычаи проникают в занятия, которые хотели бы слыть строго серьезными, и заряжаются злыми страстями социальной и политической борьбы. Тогда встает вопрос, к которому здесь все сводится: следует ли рассматривать пышно разрастающийся пуерилизм в современном обществе как игровую функцию или нет? На первый взгляд кажется, что ответ будет гласить: да. И в этом смысле интерпретировал я данное явление в моих прежних наблюдениях о связи между игрой и культурой. Тем не менее в настоящее время я считаю, что следует резче очертить дефиницию понятия игры и на этом основании отказать пуерилизму в качестве игровой формы. Ребенок, который играет, не ребячлив. Он становится ребячливым, когда игра ему надоедает или когда он не знает, во что играть. Если бы всеобщий пуерилизм в наше время был подлинной игрой, тогда можно было бы полагать, что общество движется назад, к архаическим формам культуры, где игра была живым творческим фактором. Многие, пожалуй, в самом деле склонны с удовольствием констатировать в продолжающейся «рекрутизации» общества первый шаг на этом пути назад. На наш взгляд, это неправомерно. Во всех этих явлениях духа, добровольно жертвующего своей зрелостью, мы в состоянии видеть только приметы угрожающего разложения. Им недостает существенных признаков подлинной игры, хотя пуерильное поведение по большей части принимает внешнюю форму игры. Чтобы вернуть себе освященность, достоинство и стиль, культура должна идти другими путями. *** Все больше и больше напрашивается вывод, что игровой элемент культуры с XVIII в. (там мы имели возможность наблюдать его в полном расцвете) утратил свое значение почти во всех областях, где он раньше чувствовал себя «как дома». Современная культура едва ли еще «играется»; там же, где кажется, что она играет, игра эта фальшива. Между тем различение игры и не-игры в явлениях цивилизации становится все труднее, по мере того как мы приближаемся к нашему собственному времени. Еще не очень давно организованная политическая жизнь, в ее парламентском демократическом облике, была полна несомненных игровых элементов В дополнение к отдельным разрозненным замечаниям из моей речи в 1933 г. одна из моих учении недавно в своей штудии о парламентских речах во Франции и в Англии убедительным образом показала, что дебаты в Нижней палате с конца XVIII в. весьма существенным образом отвечали нормам игры. В них постоянно задают тон моменты личного состязания. Происходит беспрерывный матч, определенные его участники пытаются объявить друг другу шах и мат, не нанося при этом ущерба интересам страны, которой они служат с полной серьезностью. Атмосфера и нравы парламентской жизни в Англии всегда были вполне спортивными. Равным образом все это еще остается в силе для стран, которые до некоторой степени сохраняют верность английской модели. Дух товарищества еще и сегодня позволяет даже самым яростным противникам приятельски шутить друг с другом сразу же после дебатов. Лорд Хью Сисил заявил в юмористической форме, что епископы в Верхней палате нежелательны, и вслед за этим продолжал приятную беседу с архиепископом Кентерберийским. К игровой сфере парламента относится и фигура gentlmen's agreement (джентльменского соглашения), иногда превратно понимаемая одним из джентльменов. Не кажется бессмысленным видеть в этом элементе игры одну из самых сильных сторон ныне столь критикуемого парламентаризма, во всяком случае, в Англии. Он гарантирует гибкость отношений, допускающую напряжения, которые иначе были бы невыносимы, ибо отмирание юмора само способно убивать. Вряд ли следует доказывать, что игровой фактор английской парламентской жизни не только обнаруживается в дискуссиях и в традиционных формах собрания, но и связан со всей системой выборов. Еще более чем в британском парламентаризме, игровой элемент очевиден в американских политических нравах. Еще задолго до того, как двухпартийная система в Соединенных Штатах приняла характер двух teams (спортивных команд), чье политическое различие для постороннего едва ли уловимо, предвыборная пропаганда здесь полностью вылилась в форму больших национальных игр. Президентские выборы 1840 г. создали стиль всех последующих. Кандидатом тогда был популярный генерал Харрисон. Его выборщики не имели программы, но случай снабдил их символом — logcabine, грубо сколоченной постовой будкой пионеров, и под этим знаком они победили. Выставление кандидата самым большим числом голосов, т. е. с помощью самых громких криков, было освящено выборами 1860 г., которые возвели на президентский пост Линкольна. Эмоциональный характер американской политики лежит уже в истоках народного характера, который никогда не скрывал своего происхождения из примитивных отношений среди пионеров Слепая верность партиям, тайная организация, массовый энтузиазм, сочетаемый с детской жаждой внешних символов, придают игровому элементу американской политики нечто наивное и спонтанное, чего не хватает более молодым массовым движениям Старого Света. Менее просто, чем в обеих названных странах, предстает игра в политике Франции. Без сомнения, есть основание рассматривать в категориях игры практику многочисленных государственных партий, которые по большей части представляют интересы личные и групповые и которые, вопреки всяким государственным интересам, своей тактикой свержения кабинетов то и дело ставят страну перед лицом опасных политических кризисов. Однако слишком заметная корыстная цель коллективной или индивидуальной выгоды, характерная для этой партийной системы, также кажется плохо согласуемой с сущностью подлинной игры. Если во внутренней политике нынешних государств встречается достаточно следов игрового фактора, то их международная политика на первый взгляд дает мало поводов думать о сфере игры. Но сам по себе факт, что политическая жизнь наций выродилась до неслыханных крайностей насилия и опасности, еще не дает основания заранее элиминировать здесь понятие игры. Мы знаем достаточно примеров того, что игра может быть жестокой и кровавой, а также что игра зачастую бывает фальшивой. Каждая правовая или государственная общность по своей натуре обладает рядом признаков, которые связывают ее с игровой общностью. На взаимном признании принципов и правил, которые, какими бы метафизическими ни были их основания, на практике действуют как правила игры, держится система международного права. Выразительная констатация принципа pacta sunt servanda (договоры следует выполнять) фактически содержит в себе признание, что целостность системы покоится только на воле к участию в игре. Как только одна из причастных сторон уклоняется от правил игры, тогда или разрушается вся система международного права (пусть даже временно), или нарушившая игру сторона должна быть изгнана за пределы этой общности. Соблюдение норм международного права всегда в высокой степени зависело от отношения к понятиям чести, приличия и хорошего тона. Не напрасно в развитии европейского военного права значительное место занял кодекс рыцарских понятий о чести. В международном праве действовала молчаливая предпосылка, что побежденное государство должно вести себя подобно джентльмену, a good loser (умеющему красиво проигрывать), хотя оно и делало это редко. Обязанность объявлять войну официально, пусть она во многих случаях не выполнялась, входила в нормы приличия воюющих государств. Одним словом, старые игровые формы войны, которые нам повсюду встречались в архаические эпохи и на которые по большей части опиралась абсолютная обязательность правил войны вплоть до недавнего прошлого, еще не совсем вымерли и в современных европейских войнах. Обиходное немецкое словоупотребление именует наступление состояния войны «Ernstfall» («серьезным случаем»). С точки зрения чисто военной это выражение весьма удачно. Мнимым боям на маневрах и воинской муштре противостоит как нечто серьезное самая «настоящая» война. Иначе обстоит дело, если понимать термин «Ernstfall» политически. Ибо тогда он должен означать, что, собственно, до самого начала войны внешняя политика еще не достигает полной серьезности, целесообразности в собственном смысле слова. В самом деле, некоторые разделяют именно такую точку зрения. Для них все дипломатические сношения между государствами, пока они протекают в русле переговоров и соглашений, служат только введением в состояние войны или занятием в промежутке между двумя войнами. Логично, что приверженцы теории, которая признает серьезной политикой только войну, включая и ее подготовку, должны одновременно отказать ей во всяком характере состязания, т. е. игры. В прежние эпохи, говорят они, атональный (состязательный — ред. ) фактор мог проявляться в войне мощно и действенно; современная война обладает характером, поднимающим ее над древним поединком. Она опирается на принцип «друг — враг». Все действительно политические отношения между народами и государствами подчиняются этому принципу, говорят они. Другая группа есть всегда или ваш друг, или враг. Враг значит не inimicus (echtros) т. е. «лично ненавидимый», тем более «злой», но только hostis (polemios), т. е. «чужой», тот, кто стоит на пути у вашей группы или хочет ей помешать. Шмитт* не желает рассматривать противника даже как соперника или партнера. Для него он противник — «противостоящий» (gegenstander) в самом буквальном смысле слова, т. е. тот, кого нужно убрать с дороги. Если этому насильственному сведению понятия «вражда» к почти механическому отношению сторон и в самом деле находились когда-либо точные соответствия в истории, то это именно архаический антагонизм фратрий, кланов или племен, в котором такое преобладающее значение имел игровой элемент и над которым нас постепенно подняло развитие культуры. Коль скоро в бесчеловечной фантазии Шмитта есть хоть искра правоты, вывод должен быть таким: не война является Ernstfall, а мир. Ибо, только преодолевая это жалкое отношение «друг — враг», человечество завоевывает себе право на полное признание своего достоинства. Война, со всем, что ее вызывает и что ее сопровождает, всегда остается запутанной в демонические сети игры. Здесь еще раз обнажается ошеломляющая неразрешимость проблемы «игра или серьезное». Мы пришли постепенно к убеждению, что фундамент культуры закладывается в благородной игре и что культура не должна терять это игровое содержание, дабы развить свои самые высокие качества в стиле и достоинстве. Нигде нет большей необходимости придерживаться установленных правил, как в общении между народами и государствами. Если они нарушаются, общество ввергается в варварство и хаос. С другой стороны, именно в войне должны мы, казалось бы, видеть возврат к тому агональному отношению, которое придало форму и содержание первобытной игре ради престижа. Однако именно современная война, похоже, утратила всякое соприкосновение с игрой. Высокоцивилизованные государства полностью игнорируют всеобщность международного права и без зазрения совести исповедуют принцип pacta поп sunt servanda (договоры не следует выполнять). Мир, который своим собственным устройством все больше вынуждает страны договариваться друг с другом в политических формах, не применяя высшей меры — разрушительных средств насилия, — не может существовать без благотворных ограничительных условий, которые в случае конфликта отводят опасность и сохраняют возможность сотрудничества. Благодаря совершенству своих средств война из ultima ratio (последнего, решающего довода) превратилась в ultima rabies (верх безрассудства). В политике наших дней, которая базируется на крайней подготовленности и — если понадобится — крайней готовности к войне, вряд ли можно теперь увидеть даже намек на древние игровые отношения. Все, что связывало войну с празднеством и с культом, исчезло из современной войны, а с этим отчуждением игры война утратила и свое место как элемент культуры. И все-таки она остается тем, чем назвал ее Чемберлен в своем выступлении по радио в первые дни сентября 1939 г., — a gamble, азартной игрой. Не может прийти в голову мысль об игре, если встать на позицию тех, кто подвергся нападению, кто борется за свои права и свободу. Отчего же нет? Почему в этом случае исключается ассоциация борьбы (strijd) с игрой? Потому, что борьба имеет здесь нравственную ценность, и потому, что в нравственном содержании есть момент, где квалификация игры теряет свое значение. В критерии этической ценности вечное сомнение — «игра или серьезное» — находит во всяком отдельном случае свое разрешение. Кто не признает объективной ценности права и нравственных норм, тот никогда не найдет выхода из этого сомнения. Политика всеми своими корнями глубоко уходит в первобытную почву игравшейся в состязании культуры. Отделиться от нее и возвыситься она может только через этос, который отрицает законность отношения «друг — враг» и не принимает притязаний собственного народа в качестве высшей нормы. * Речь идет о немецком юристе Карле Шмитте, теоретике нацизма (ред. ). Шаг за шагом мы уже подошли к заключению: подлинная культура не может существовать без определенного игрового содержания, ибо культура предполагает известное самоограничение и самообладание, известную способность не видеть в своих собственных устремлениях нечто предельное и высшее, но рассматривать себя внутри определенных, добровольно принятых границ. Культура все еще хочет в известном смысле играться — по обоюдному соглашению относительно определенных правил. Подлинная культура требует всегда и в любом аспекте a fair play (честной игры); a fair play есть не что иное, как выраженный в терминах игры эквивалент порядочности. Нарушитель правил игры разрушает самое культуру. Для того чтобы игровое содержание культуры могло быть созидающим или подвигающим культуру, оно должно быть чистым. Оно не должно состоять в ослеплении или отступничестве от норм, предписанных разумом, человечностью или верой. Оно не должно быть ложным сиянием, которым маскируется намерение осуществить определенные цели с помощью специально взращенных игровых форм. Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Она содержит свою цель в самой себе. Ее дух и ее атмосфера — радостное воодушевление, а не истерическая взвинченность. Сегодня пропаганда, которая хочет завладеть каждым участком жизни, действует средствами, ведущими к истеричным реакциям масс, и поэтому, даже когда она принимает игровые формы, не может рассматриваться как современное выражение духа игры, но только — как его фальсификация. *** В исследовании нашей проблемы мы старались так долго, как только возможно, придерживаться понятия игры, которое исходит из положительных и общепризнанных признаков игры. Иными словами, мы брали игру в ее понятном, повседневном значении и хотели избежать «короткого замыкания» ума, которое бы все объясняло только с позиций игры. Тем не менее в финале нашего анализа нас это подстерегает и понуждает к отчету. «Игрой детей называл он людские мнения», — гласят в позднейшем изложении слова Гераклита. В начале этих рассуждений мы ссылались на Платона, чьи слова достаточно важны, чтобы процитировать их еще раз: «Хотя дела человеческие не заслуживают большой серьезности, но приходится быть серьезным, пусть и нет в этом счастья». Употребим же серьезность подходящим образом. «Я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных — не надо. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, человек же, как мы говорили раньше, — это какая-то выдуманная игрушка Бога, и, по существу, это стало наилучшим его назначением. Этомуто и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято». Поскольку игра есть самое серьезное, «надо жить играя. Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах». Поэтому, по Платону, люди должны «прожить согласно свойствам своей природы, ведь люди в большей части куклы и лишь немного причастны истине». Из заколдованного круга игры человеческий дух может освободиться, только направив взгляд на самое наивысшее. Путем одного лишь логического осмысления вещей он далеко не уйдет. Когда человеческая мысль обогатит все сокровища духа и испытает все великолепие его могущества, на дне всякого серьезного суждения она обязательно найдет осадок проблематичного. Любое высказывание решающего суждения признается собственным сознанием как неокончательное. В том пункте, где суждение колеблется, умирает понятие абсолютной серьезности. Место старинного «Все есть суета сует» занимает, видимо, позитивно звучащее «Все есть игра». Это кажется дешевой метафорой, всего лишь бессилием духа. Но то, к чему пришел Платон, называя человека игрушкой богов, есть мудрость. В чудесном образе эта мысль возвращается в Книге притчей Соломоновых. Там Вечная Мудрость, начало справедливости и господства, говорит, что она до сотворения мира играла перед Богом для его увеселения и, играя в земном его царстве, она веселится вместе со смертными. Тот, у кого закружится голова от вечного коловращения понятия «игра — серьезное», может взамен ускользнувшего логического снова обрести опору в этическом. Игра как таковая, говорили мы вначале, лежит вне сферы нравственных норм. Сама по себе она ни добра, ни дурна. Если, однако, человек должен решить, предписано ли ему действие, на которое толкает его воля, как серьезное, или разрешено как игра, тогда его нравственная совесть немедленно предоставляет ему мерило. Как только в решении действовать заговорят чувства истины и справедливости, жалости и прощения, вопрос теряет смысл. Малой капли сострадания достаточно, чтобы поднять наши поступки над различениями мыслящего духа. Во всяком нравственном сознании, которое основывается на признании справедливости и милосердия, вопрос «игра или серьезное», который в конце концов остался нерешенным, навсегда умолкает. Перевел с нидерландского В. В. Ошис 1. В своем сочинении «В тени завтрашнего дня». 2 Ср., например, в моей «Осени Средневековья» гл. XVII — «Формы мышления в практической жизни». 3. Террорист Бернар Адриен Антуан де Сент стал называться Пьошфер Бернар, заменив имена святых Адриана и Антония на их атрибуты, кирку и подкову соответственно, как это было уже сделано в революционном календаре (франц. pioche — кирка, fer — подкова).