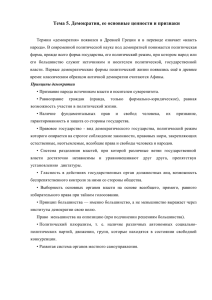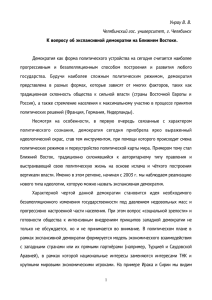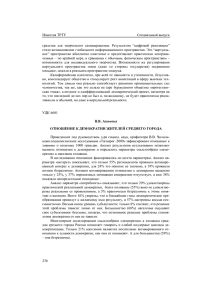Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века
реклама

ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ К дискуссии о вызовах XXI века Под редакцией В.Л. Иноземцева Москва Центр исследований постиндустриального общества Издательство «Европа» 2010 ББК 66.2 Д 31 Иноземцев В.Л. (ред.) Д 31 Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / Центр исследований постиндустриального общества; Вступ. статья В.Л. Иноземцева. — М.: Издательство «Европа», 2010. — 318 с. ISBN 978-5-904663-09-4 Книга «Демократия и модернизация», выход которой приурочен к Мировому политическому форуму, организованному в Ярославле 9–10 сентября 2010 года — уникальная коллекция текстов ведущих западных и российских социологов, политологов и экономистов, оценивающих проблемы, с которыми сталкиваются в своем политическом и экономическом развитии как постиндустриальные, так и развивающиеся страны. Авторы размышляют о судьбах демократии в западных странах и мире в целом, о закономерностях и особенностях экономической модернизации в разных регионах планеты, о перспективах и возможностях формирования нового, более справедливого и гуманистичного мирового порядка. В книгу вошли только оригинальные материалы, публикующиеся впервые. Никогда прежде такое число ведущих западных социологов не представляли свои труды специально для издания, выходящего в России. Книга написана простым и понятным языком, изобилует провокационными постановками вопросов и оригинальными суждениями и рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся тенденциями современного глобального развития, проблемами демократии и закономерностями экономической модернизации. ББК 66.2 ISBN 978-5-904663-09-4 © Центр исследований постиндустриального общества, 2010 © Иноземцев В.Л., вступительная статья, 2010 © Издательство «Европа», 2010 ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ Введение К концу первого десятилетия XXI века перспективы классической либеральной демократии выглядят гораздо менее безоблачными, чем двадцать лет назад, когда она сплошь и рядом воспринималась как воплощение чуть ли не конечной точки исторического процесса. С одной стороны, волна демократизации, начавшаяся по всему миру в годы горбачевской перестройки, идет на спад, а западный мир уже не выглядит столь привлекательным, как прежде, в глазах сотен миллионов жителей глобальной периферии. С другой стороны, с очевидностью проявились несколько тенденций, которые заставляют задуматься об универсальном характере либеральной демократии — а именно утверждение о нем лежало в основе демократического порыва 1980–1990-х годов. Во-первых, сегодня вполне ясно, что массовое перенятие внешних элементов демократической формы правления очень часто не обеспечивает той степени общественного прогресса, который часто ассоциируется с демократическим режимом. Множество стран Африки, Азии и бывшего коммунистического лагеря преуспели в построении «имитационной», «фальшивой» или «нелиберальной» демократии, если использовать только некоторые из предложенных за последнее время терминов, которыми сегодня обозначают режимы, допускающие выборы, но ограничивающие права и свободы граждан. Во-вторых, впервые за последние полвека в мире наметилась тенденция к перераспределению богатства и экономической мощи от демократических держав Запада к полуавторитарным государствам Юго-Восточной Азии и авторитарным странам-экспортерам нефти из региона Персидского Залива и Северной Африки. На место того «квазизападного», по сути, Востока, с которым Соединенные Штаты и их союзники боролись в годы «холодной войны», приходит «настоящий» Восток, гораздо более мощный и в то же время гораздо более далекий от Запада по своим базовым принципам. В-третьих, в самих западных обществах по мере укрепления позиций финансового капитала и роста социального неравенства усиливается скепсис в отношении демократических институтов, так как принципы и идеалы равенства имеют все меньшее отношение к реальной жизни. 5 Введение Начало XXI века ознаменовано зарождением нового раунда великого исторического спора между либеральной демократией и авторитарными тенденциями, свободой и диктатом, рыночным капитализмом и различными вариантами управляемой экономики. Скептики и алармисты начинают поговаривать о том, что успехи нелиберальных демократий и авторитарных стран, демонстрируемые ими в последнее время, способны вызвать устойчивое разочарование в демократических принципах и сигнализируют о начале «эпохи упадка» традиционных демократических институтов. Особенно актуальным такие рассуждения делает тот факт, что современные формы авторитаризма отнюдь не отрицают достижения капиталистической экономики и не замыкаются в себе подобно прежним коммунистическим режимам, бесславно рухнувшим на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Оптимисты и сторонники прогресса, напротив, выражают убежденность в том, что по мере хозяйственного развития, сопровождающегося повышением уровня жизни граждан, нелиберальные режимы будут вынуждены пойти на политические реформы, подобно тому как это сделали в конце ХХ века Южная Корея в Азии или Бразилия в Латинской Америке. Таким образом, ставится фундаментальный вопрос: способствует ли модернизация (под которой традиционно понимается ускоренное хозяйственное развитие периферийных стран) демократизации, или она лишь укрепляет позиции недемократических стран в их противостоянии с либеральными демократиями? На мой взгляд, в этом споре правда на стороне оптимистов. Не раз и не два в истории даже Нового времени возникали ситуации, которые можно трактовать как схожие с тем, что мы наблюдаем сегодня. В конце XIX столетия хозяйственное доминирование наиболее развитой тогда либеральной демократии, Великобритании, оспаривалось кайзеровской Германией, на время даже опередившей ее по экономическому потенциалу. Однако итогом Первой мировой войны, развязанной Германией, стал массовый крах традиционных авторитарных режимов в Европе, а не победа их над демократическими странами. Семьдесят лет спустя масштабное противостояние западного блока с Советским Союзом, который сумел стать второй по экономической мощи державой мира, также завершилось в пользу демократического лагеря — причем на этот раз даже без прямого военного столкновения. И то, и другое не было следствием неких особых преимуществ демократических обществ над недемократическими, но и то, и другое подчеркивало, что люди в современном мире ценят свободу и не готовы мириться с попранием их прав и ограничением их возможностей. Безусловно, политические порядки 6 Введение эпохи «развитого социализма» были куда мягче тех, что существовали во времена крепостничества, и возможности, открывающиеся перед представителями среднего класса в современном Китае, куда более широки, чем те, которыми обладал инженер в Советском Союзе. Однако расширение круга возможностей обладает свойством не сокращать желания и потребности, а лишь провоцировать появление новых. Поэтому балансировать между экономическим прогрессом и политическим авторитаризмом в будущем не удастся долго. Это не значит, разумеется, что в ближайшие годы мы увидим, например, в Китае то же самое, что в 1989 году произошло в Праге или Бухаресте. Однако модернизация несомненно будет приносить народам недемократических государств расширение гражданских и экономических прав и свобод, и этот процесс несомненно окажется самоподдерживающимся, так как, используя слова президента Дмитрия Медведева, не только «свобода лучше, чем несвобода», но и любая более высокая степень свободы лучше менее высокой. Повторю: это расширение свободы и упрочение системы защиты прав граждан не обязательно будет сопровождаться утверждением институтов либеральной демократии западного типа, но оно несомненно станет основой для их возможного появления в более отдаленном будущем. Демократизация — волнообразный процесс, на протяжении отдельных периодов которого можно наблюдать формирование количественных трендов, ведущих затем к качественным изменениям. Сегодня мы все находимся в самом сердце нового периода накопления предпосылок и условий для очередного витка демократического процесса. Центральным элементом этого процесса формирования предпосылок для дальнейшего развития демократии является модернизация. Не будет преувеличением сказать, что модернизация и демократизация на данном этапе истории являются практически тождественными. Успехи в модернизации неизбежно станут основой для демократизации, неудачи в ней – предпосылками провала демократических проектов. Более того; история ХХ века продемонстрировала, насколько опасной может быть демократия, если своим правом голоса пользуются неудовлетворенные и разуверившиеся в завтрашнем дне избиратели. Демократизация в условиях серьезного и затяжного экономического коллапса — самая страшная угроза для будущего демократии. И даже если не говорить о наиболее известном тому подтверждении — крахе Веймарской республики в Германии, — то устойчиво скептическое отношение к демократии и демократам в современной России во многом обусловлено тем, что демократизация страны по времени совпала с самыми тяжелыми 7 Введение экономическими испытаниями, когда-либо в мирное время выпадавшими на долю россиян. Модернизация не продуцирует демократию, но создает для нее все необходимые предпосылки, а также, не побоюсь этого сказать, указывает на то, какие страны способны создать устойчивые демократические институты, а какие нет. История последних пятидесяти лет свидетельствует, что практически все успешно модернизировавшиеся государства либо перешли от авторитарного режима власти к демократическому, либо значительно расширили степень свободы граждан и упрочили механизмы защиты их прав, то есть создали необходимые условия для развития демократии. И, напротив, страны, остановившиеся в своем развитии, оказавшиеся неспособными реализовать программу модернизации, в конечном счете пришли к усилению авторитарных тенденций или пошли по пути выстраивания имитационной демократии. В наше время нельзя быть демократом, не будучи сторонником модернизации, ибо ничто так не способствует распространению и упрочению демократических норм, как успешная экономическая модернизация и хозяйственный прогресс в целом. Эти тезисы подтверждаются и тенденциями глобального развития. За последние пятьдесят лет та часть мира, которая традиционно называлась «развивающейся», четко разделилась на страны действительно развивающиеся и неразвивающиеся. По состоянию на конец 2009 года более чем в 40 государствах показатели ВВП на душу населения в сопоставимых ценах были ниже, чем в 1976–1977 годах – и, замечу, среди этих государств практически нет таких, которые могут быть названы демократическими. При этом не принципиально, есть ли в подобных странах богатые природные ресурсы, как в Венесуэле, или их практически нет, как в Малави или Зимбабве. История второй половины ХХ века однозначно свидетельствует: в условиях глобализации и международного экономического сотрудничества главным фактором успеха или неудачи страны является качество государственного управления. Бессмысленно обвинять алчные международные корпорации или природу, в разной степени наделившую народы ресурсами, если всем известны примеры того, как не обладавшие ресурсами страны становились экономическими лидерами, а капиталы и технологии международных компаний успешно ставились на службу национальным проектам развития. Странам-неудачникам в современном мире следует перестать винить в своих неудачах кого бы то ни было, кроме собственных правительств — однако это делает проблему демократизации глобальной периферии только более актуальной. Неразвивающиеся государства 8 Введение не могут породить стабильный политический режим, способный не прибегать к насилию для поддержания своего существования. Они отторгают не только демократические принципы, но саму идею свободы и самоопределения собственного народа. В таких условиях продвижение демократии в мире — а я бы сказал, содействие экономическому и политическому развитию — становится критически важной задачей, так как выступает инструментом обеспечения безопасности и соблюдения самых элементарных прав человека. Там, где эти права попираются, где ради сохранения собственной власти правители готовы развязывать войны и провоцировать межэтнические конфликты, развитые страны должны вмешиваться в ход событий во имя высоких идеалов человечности. Неразвивающийся мир, мир авторитарных лидеров и бесправных народов — самая существенная угроза стабильному и прочному глобальному порядку, утверждающему принципы экономического благополучия, политической свободы и гражданского равенства. Таким образом, сегодня необходимо всесторонне подойти к осмыслению перспектив развития демократических институтов, проанализировать их истоки и внутренние противоречия, оценить причины неудач и последствия успехов демократических преобразований последних десятилетий, исследовать внутреннюю глубинную связь между модернизацией и демократией, попытаться понять перспективы демократизации ныне авторитарных стран и выстроить принципы отношения демократий к недемократическим режимам. Данная проблематика отражена в структуре книги. Одни авторы пишут о фундаментальных проблемах демократической формы правления, о вызовах, с которыми сталкивается демократия в современном мире (часть 1-я); другие излагают свою точку зрения на многообразие демократического опыта, рассуждают о специфике демократических процессов в различных странах, подытоживают результаты последней «волны демократизации» (часть 2-я); ряд экспертов сосредотачивается на взаимосвязи модернизации и демократии, оценивает опыт экономического развития передовых и отстающих стран на протяжении второй половины ХХ и начала XXI веков, размышляет о том, в какой степени успехи и неудачи модернизаций определяют индивидуальные ценности и предпочтения людей (часть 3-я); наконец, завершающий раздел (часть 4-я) посвящен международному измерению демократии, тому, насколько привлекательна демократическая форма правления в современном мире, сколь активен процесс демократизации, с какими препятствиями он встречается и можно ли ускорить распространение демократии в планетарном масштабе. 9 Введение Представляемая ныне читателю книга готовилась более года, так как нашей целью было не выпустить обычный сборник статей или скомпиллировать мнения авторов по интересующим их темам, но практически впервые организовать серьезную дискуссию российских, европейских и американских ученых, не зацикленную на одной стране или на одной узкой проблеме. В рамках этой работы было организовано два «круглых стола» — в Москве 1–2 апреля 2009 года и в Берлине 12 июня 2009 года, в ходе которых более двадцати экспертов обсудили наиболее важные и актуальные аспекты экономической модернизации и политической демократизации в современном мире. Мы хотим выразить особую благодарность Первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владиславу Суркову, принявшему в Москве участников первого раунда обсуждения и проведшему с ними содержательную дискуссию, и Корнелиусу Охману, руководителю проектов Фонда Бертельсмана по России и странам бывшего Советского Союза, оказавшему неоценимую поддержку в организации в Берлине второго раунда дискуссии. Часть дискутантов, высказавших в ходе обсуждений в Москве и Берлине важные и провокативные суждения, по причине занятости не смогли подготовить тексты, которые вошли бы в окончательный вариант книги — но без участия в прениях Натана Щаранского, ныне главы Еврейского агентства для Израиля (Сохнут); Армана Клессе, директора Люксембургского института европейских и международных исследований; Алексея Богатурова, проректора МГИМО (У) МИД Российской Федерации; Клауса Оффе, профессора берлинской Высшей школы государственного управления и ряда других ученых эта работа наверняка оказалась бы беднее. Всем им мы тоже выражаем искреннюю благодарность. Не могу не упомянуть сотрудников Центра исследований постиндустриального общества – заместителя директора Анастасию Шахову и руководителя европейских программ Екатерину Кузнецову, — выполнявших сложную организационную и редакторскую работу в течение всего периода работы над книгой. В заключение отмечу, что проблематика модернизации и демократии, их связи и взаимообусловленности, практически неисчерпаема. И все, кто работал над этой книгой, надеются, что она найдет своих благодарных читателей и станет для них поводом более глубоко задуматься над самыми сложными и масштабными проблемами современного мира. Владислав Иноземцев Москва, 10 августа 2010 года 10 Часть первая Общая теория демократии Демократия и права: великая дилемма нашего времени Даниел Белл, Почетный профессор кафедры социологии Гарвардского университета (США) Демократия — одна из наиболее популярных идей ХХ столетия; большая часть ушедшего века прошла в непрестанных дискуссиях о демократии, борьбе за ее утверждение и усилиях, направленных на ее распространение по миру (хотя многие склонны считать, что такое распространение — это только видимость, скрывающая политические процессы совсем иного порядка). Можно спорить о том, последовательны или нет были отдельные демократы, о том, какие мотивы скрывались за теми или иными политическими кампаниями, но в деле упрочения демократии на протяжении этого столетия заметен очевидный прогресс. Политические системы отдельных стран на всех континентах все больше зависят от волеизъявления своих народов, от выборов и голосований. Если применять современные критерии, то окажется, что в конце XVIII века в мире была только одна демократическая страна — Соединенные Штаты Америки. Сегодня подавляющее большинство государств на всех континентах претендует на статус демократических республик, хотя, разумеется, не все имеют на то достаточные основания. Считаю ли я это достижением? Безусловно — несмотря на то, что всегда говорил и сегодня готов повторить еще раз, что не являюсь убежденным демократом. Я не верю в демократию — я верю в сво- 13 Даниел Белл боду и права; однако развитие демократии на протяжении последнего времени позволяет утверждать принципы свободы и права человека как в большинстве развитых стран, так и во всемирном масштабе. Сфера, в которой личность автономна от общества и государства, весьма уверенно расширяется, и не будет преувеличением сказать, что прогресс демократии идет параллельно с утверждением все большей свободы отдельного индивида от массы, преодолением довлеющего характера тех идеологий, которые наложили свою печать на мир ХХ века. Мы находимся сегодня в конце «идеологизированной» истории, в конце той эпохи, на протяжении которой массам казалось, что они могут воплотить в жизнь ту или иную глобальную идею. Поиск всеобъемлющей социологической парадигмы давно ушел в прошлое, а стремление к «цивилизованности» и «демократии» не заменяет и не заменит идей того масштаба, о которых писали Георг Гегель или Карл Маркс, — идей, которые люди пытались воплотить в жизнь на протяжении целых столетий. Народы становятся более свободными — причем не только от примитивной материальной нужды или управления жестокими тиранами-завоевателями, но и от идеологического доктринерства — и это дает демократии великий исторический шанс. Свобода, права и равенство: противоречивые основы демократии В основе демократии лежат понятия свободы и прав. Свобода предшествует демократии по меньшей мере в двух аспектах. С одной стороны, современное понимание демократии, предложенное Алексисом де Токвилем, делает акцент не на «естественной принадлежности» человека к определенному сообществу, а на этосе, который он связывал с нравами, на понятии народа, формирующегося как сообщество свободное и добровольное. В демократическом обществе человек выступает носителем свободы не только в ходе принятия политических решений, но и в своем отношении к сообществу как к свободно избранной им форме общежития. С другой стороны, свобода предполагает наличие у человека неотчуждаемых прав — таких, как право на равенство перед законом, право собраний, право знать, в чем тебя обвиняют, право на открытое и гласное судебное разбирательство и т.д. (я даже не говорю здесь о праве на жизнь и безопасность или о праве не быть обращенным в раба). Эти права гарантируют свободу человека и, собственно, делают его полноценным субъектом демократического процесса. Свобода при этом может иметь «позитивную» и «негативную» коннотации, на которые 14 Демократия и права: великая дилемма нашего времени в свое время обращал внимание Исайя Берлин*. Позитивная указывает, что вы можете делать что-то для остальных членов общества или в сотрудничестве с ними; негативная предполагает, что вы защищены от тех решений и действий большинства, которые могут быть обращены к ограничению ваших прав. Последнее, кстати, означает, что демократия не имеет серьезных препятствий для своего развития прежде всего (а порой мне кажется, что и только) в тех обществах, которые не разделены жесткими линиями противостояния по религиозному, национальному или этническому признакам. Демократия устойчива там, где уважается принцип свободы и защиты прав и где граждане могут менять свою точку зрения в зависимости от меняющихся обстоятельств и вследствие того, что наиболее злободневными становятся иные, чем прежде, проблемы — в результате чего время от времени меньшинство может становиться большинством, и наоборот. Там, где по религиозным, этническим или каким-либо иным причинам грань между большинством и меньшинством оказывается менее подвижной, развитие демократии затрудняется, а ее перспективы становятся туманными. Более того; многочисленные мелкие национальные, этнические, религиозные, языковые, клановые и племенные общности, объединяемые тремя типами уз — верой, идеологией или этничностью, сегодня наиболее активно вовлечены в бесконечные гражданские войны друг с другом и при этом враждебно относятся к устойчивым демократиям западного типа. Помимо свободы и прав, демократия предполагает равенство. Главный принцип демократического правления: «один человек — один голос». Очевидно, что этот принцип противостоит сразу двум важнейшим положениям, которые определяли организацию человеческого общества на протяжении большей части его истории: примату силы и примату богатства. Ни для кого не секрет, что в период становления социальных структур основным фактором неравенства было неравенство силы отдельных людей, а позже — разного рода неэкономические формы неравенства, определявшиеся контролем узкой общественной группы над инструментами подавления. Гораздо позже, по мере перехода к рыночному хозяйству и формированию буржуазного общества, доминантным стал экономический принцип, ранжирующий людей не по их человеческой сущности, а по их покупательной способности, богатству и степени контроля над производственными ресурсами. Этот принцип, в отличие от прежнего «один меч — один голос», можно обозначить как «один доллар — * См., напр.: Berlin, Isaiah. Four Essays on Liberty, Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 1990. 15 Даниел Белл один голос». В экономике, где одни люди имеют намного больше долларов, чем другие, сто долларов открывают перед вами в сто раз больше возможностей, чем один практически с той же вероятностью, с какой обладание грубой военной силой давало владыкам прошлого неоспоримые преимущества над простолюдинами. И примат силы, и примат богатства предполагают неравенство, тогда как демократический принцип утверждает обратное. Это означает, что демократию не следует воспринимать в качестве некоего «естественного состояния», которое-де изначально присуще человеческому обществу. Напротив, демократический политический порядок — это очень высокая ступень общественной организации, на которой люди признают себя равными друг другу и заявляют о готовности согласовывать свои действия и подчинять свою волю желаниям и стремлениям большинства. Демократия — это в высшей степени «неестественное» состояние, это исключительное достижение развитых обществ, подчеркивающее их особый характер и масштаб проделанного ими исторического пути. История хорошо показывает, как шло развитие демократического процесса, по мере которого все меньше и меньше черт и характеристик человека, а также его социальных аффилиаций признавались значимыми. Формирование ранних демократий в Европе было сопряжено с имущественными цензами, к участию в политическом процессе допускалось меньшинство населения, мнение женщин не принималось во внимание долгие столетия. Иногда наделение граждан особыми правами обосновывалось их специфическим статусом в обществе, а порой и их интеллектуальными заслугами. Хорошо известно, что при выборах в первые парламенты в европейских странах имело место сословное представительство, и представители высших и менее многочисленных сословий могли выдвигать депутата от меньшего числа выборщиков, чем представители низших классов. В свое время в Великобритании в парламенте выделялось несколько мест для представителей университетов, и члены научных сообществ, которые по своему статусу способны были выбирать таких представителей, оказывались обладателями одновременно двух голосов. Подобные же правила применялись и много позже в переходных обществах (в Советском Союзе, насколько я помню, общественные организации могли напрямую делегировать своих депутатов в парламент, да и сегодня во многих странах часть парламентариев по сути назначаются исполнительной властью или правящей партией) — но во всех этих случаях следует говорить скорее об отходе от демократии и о нанесении демократическим принципам серьезного урона, так как речь идет не об историческом поиске 16 Демократия и права: великая дилемма нашего времени оптимальной модели демократии, а скорее о попытке отвергнуть опыт, уже отлично зарекомендовавший себя в большинстве развитых стран. Повторю еще раз: если мы пытаемся говорить о чем-то «данном от природы», мы должны полагать это нечто формирующимся по дарвиновским эволюционным законам, которые предполагают естественный отбор, происходящий в ходе борьбы между доминирующими особями. В каждой популяции мы находим самых красивых и мощных самцов, окруженных наиболее симпатичными самочками, — вот в этом и проявляется пресловутая «естественность». Она прекрасно описана еще Жан-Жаком Руссо во «Втором рассуждении о неравенстве»*. Но и только. Больше же «от природы» ни людям, ни народам ничего не дано. Равенство, на котором основана идея демократической системы — это именно то, что отличает зрелое общество от первобытного стада. Идеи равенства и демократии переплетались и укоренялись в массах на протяжении долгих столетий. Значительную роль в этом процессе сыграла и христианская социальная доктрина, некоторые влиятельные представители которой еще в XII-XIII веках утверждали, что духовное равенство людей должно будет в исторической перспективе воплотиться и в равенстве политическом и материальном. Но даже традиционное представление о равенстве людей перед Богом серьезно меняло облик общества. Например, в XVII– XVIII веках негры-рабы в Южной Америке жили обычно в лучших условиях, чем в Северной, поскольку там доминировал католицизм, настаивавший на том, что у каждого человека — пусть даже самого убогого и дикого — есть душа, которую вдохнул в него Господь. В Северной Америке, где было распространено протестантство, раб воспринимался как экономическое благо, а вообще не человек. Не будет преувеличением утверждать, что великий исторический выбор в пользу равенства и, как следствие, демократии, был сделан довольно поздно — я бы сказал, в середине XIX столетия. К периоду XVII– XIX веков я отношусь как к эпохе масштабного исторического перехода, на протяжении которого во всем западном мире набирали мощь массовые социальные движения и кипели нешуточные страсти. Так что демократия — это очень новое изобретение человечества, одно из самых новых, я бы даже сказал. Демократия — это прямое следствие, и даже воплощение, цивилизованности. Кстати, очень характерным представляется и тот факт, что слово «цивилизация» было введено в оборот маркизом де Мирабо, отцом * См.: Rousseau, Jean-Jacques. The First and Second Discourses, New York: St.Martin’s Press, 1969. 17 Даниел Белл революционного оратора и предтечей физиократов, в трактате «Друг законов» в 1756 году. Это был неологизм, в котором маркиз определил цивилизацию как состояние развития в направлении упорядочения правил человеческого общежития*. В 1814 году Бенжамен Констан опубликовал памфлет «О духе завоевания и узурпации в отношении к европейской цивилизации», в котором данный термин подразумевал исторический взгляд на общество и оптимизм в отношении людей, способных построить «организованный социум». Эта идея была популяризирована Франсуа Гизо в лекциях, которые он читал в Сорбонне в период 1820–1830 годов, и получила широкое признание**. Собственно говоря, все проблемы демократии возникают именно из «противоречий цивилизованности»: нравственные принципы заставляют нас признавать равенство всех людей, а социальные и экономические — убеждаться в обратном. Любое общество сталкивалось и сталкивается с проблемой неравенства людей, из которых оно состоит. Даже провозглашая, что все мы равны, нужно учитывать, что некоторые люди сильнее и агрессивнее других. Именно это я считаю той основной проблемой, которую и призвана не столько разрешить, сколько постоянно разрешать, функционирующая демократическая система. Собственно говоря, именно отсюда и формируется идея прав. Права — это то, что, с одной стороны, делает человека причастным к демократической системе, но, с другой, ставит предел возможности демократически принимаемым решениям воздействовать на его жизнь. Права — категория не только нравственная, но и рационалистическая. С некоей долей условности можно сказать, что современная нравственность основана на словах Иисуса Христа из Нагорной проповеди, которые символизируют вершину учения Христа и потому, по мнению многих, воплощают в себе суть христианства. Ее можно выразить в одной простой фразе: поступай по отношению к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они поступали по отношению к тебе самому. С такой же долей условности можно сказать, что современная доктрина прав основывается на идеях раввина Хилеля***, прославленного мудреца, жившего во времена * Подробнее см.: Bell, David. The National and the Sacred: Religion and the Origins of National Identity in the 18th Century France, Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2003. ** См.: Guizot, Fran ois. The History of Civilization in Europe, New York, London: Penguin, 1997. Всестороннее обсуждение результатов употребления термина содержится в работе: Febvre, Lucien. Civilization, le mot et l’id e, Paris, 1930. *** Раввин Хилель, или Хилель Старший – знаменитый мудрец, основатель династии теологов и интерпретаторов Торы, не прерывавшейся до V в. н. э. и имевшей огромное влияние в Иудее. Хилель родился в Вавилоне в первой половине I в. до н. э. и начал свое служение в Иерусалиме примерно в 30 г. до н. э. Умер в Иерусалиме в последние годы правления императора Августа (10–14 гг. н. э.) – прим. перев. 18 Демократия и права: великая дилемма нашего времени Иисуса (хотя правильнее было бы сказать, что Иисус жил в эпоху Хилеля, ибо тот слыл более знаменитым мудрецом), который сформулировал похожую мысль иначе: не делайте другим ничего такого, чего вам бы не хотелось испытать со стороны других по отношению к самим себе. Иммануил Кант в своей «Критике практического разума» предложил формулы, акцентирующие внимание на позиции того или иного индивида, которая, согласно его же учению, определяется двумя типами соображений — соображениями права и морали. Для того, чтобы быть высоконравственным человеком, я должен действовать ради блага ближнего, и считать свои действия морально необходимыми. С правовой же точки зрения совершенно безразлично, почему я делаю то, что делаю — по крайней мере до того момента, пока я не попираю чужих прав, — ибо в юридических делах мотивы не имеют значения. С одной стороны, следование нормам права не предполагает морального вознаграждения. С другой стороны, последнее возникает из действий, которые могут облагодетельствовать других, но не предписаны юридическими нормами. По сути, именно с этого времени сложились условия для рационализации политики, разграничения между политическим и этическим, а как следствие — открылись возможности для формирования современной правовой доктрины и становления демократии Нового времени. Подытожу: идея прав уходит корнями в религию, стремившуюся задать императив отношений между людьми; ее первоначальное развитие связано с потребностью людей защититься от произвола власти; а ее совершенствование происходит через формирование юридической системы, позволяющей определять как права, так и процедуры. Вызовы демократии в мире XXI века Один из основных вызовов, однако, состоит в том, что это рационализирование политики остается неустойчивым, потому что люди движимы далеко не только рациональными мотивами — и современный всплеск религиозного и этнического экстремизма выглядит тому хорошим подтверждением. Основываясь на приоритете свободы при неотъемлемости прав — и утверждая равенство всех членов общества — демократия требует шаткого и хрупкого равновесия, и поэтому под ее внешне «спокойной гладью» скрывается множество противоречий и линий напряженности, а упрощенное понимание демократии, если оно становится доминирующим, не только не решает существующих проблем, но порождает новые. 19 Даниел Белл Остановлюсь на нескольких проблемах, каждая из которых сегодня более чем актуальна. Во-первых, обращает на себя внимание проблема возможного доминирования большинства над меньшинством — и даже «тирании большинства», если угодно. Кстати, само слово «тирания» восходит как раз к первому проявлению именно этой проблемы. Если вспомнить труды Аристотеля, — в частности, его «Политику», — можно найти в них историю Писистрата — первого афинского тирана. Этот выходец из аристократической семьи в свое время призвал народ к сопротивлению аристократам и, получив поддержку большинства, вполне демократическим образом присвоил себе всю полноту власти. Аристотель и его современники боялись такого рода людей и именно поэтому относились к прямой демократии с очевидной опаской. Да и позже сохранялся страх перед демократией, особенно в простейшей форме — в виде мажоритарного голосования. Всегда были сомнения в том, должно ли большинство в силу одной лишь численности обладать правом принятия решений. Вспомним хотя бы европейскую политику в период между Первой и Второй мировыми войнами. Слабости и опасности демократии были сполна проиллюстрированы историей Веймарской республики. Апелляция к массам неоднократно помогала прийти к власти многим политикам, использовавшим демократию лишь как инструмент достижения власти и легко отказывавшимся от нее в случае успеха. Сегодня, как и в прежние времена, никто не может дать гарантий от тирании большинства. При этом не следует забывать, что один из аспектов бонапартизма, — это популярность будущего автократического властителя. Луи Наполеон не захватывал власть — он был вполне демократически избран президентом французской Второй Pеспублики. Гитлер в начале 1930-х годов также был близок к тому, чтобы собрать большинство голосов на выборах, хотя в данном случае потребовалось вмешательство президента Пауля Гинденбурга, сделавшего его рейхсканцлером в правительстве меньшинства; тем не менее, на выборах нацисты получили больше голосов, чем другие партии. Сейчас такие апелляции к массам часто называют «популизмом» — к нему можно отнести и тактику Кемаля Ататюрка в Турции, и курс Хуана Перона в Аргентине, и политику Уго Чавеса в Венесуэле, и много других примеров. Все эти политики были избраны (и даже упоминавшийся нами первый афинский тиран, Писистрат, также — если верить Аристотелю — был демократически выбран) — и, значит, они представляли народ. Поэтому мы и сегодня не застрахованы от рецидивов. 20 Демократия и права: великая дилемма нашего времени При этом не стоит считать, что такого рода тирании суть нечто чуждое демократии. Это — постоянный риск, присутствующий в демократическом обществе, противостоять которому помогают два фактора. С одной стороны, демократические режимы должны избегать излишней консолидации общества вокруг определенного лидера или его мобилизации по тому или иному вопросу, способствовать максимальному разнообразию групповых и личных интересов, максимизации существующих в обществе степеней свободы. С другой стороны, демократия для своего упрочения заинтересована в максимально полной свободе продуцирования, распространения и усвоения гражданами информации, так как лишь так можно обеспечить не только абстрактное равенство мнений, но и равенство свободы его высказывать. Каждый не просто должен иметь один голос, но и свободу быть услышанным. В подобной ситуации даже устойчивое большинство вряд ли сможет оказаться столь консолидированным, чтобы явить миру диктатора-популиста. Во-вторых, всегда существовала и сегодня существует проблема монополизации власти. Власть развращает и всегда подталкивает человека на злоупотребления ею. Поэтому вопрос о легитимности власти ставится не единственный раз, во время выборов или подсчета их результатов; в демократических странах он стоит на повестке дня постоянно, вне зависимости от природы и полномочий суверена. И вся дискуссия о полномочиях власти и их границах, о содержании позитивной и потенциальной свободы, равно как и обо всех подобных вопросах, основывается на практическом опыте; здесь нет места абстрактной логике. Всякий раз новый социальный опыт сталкивается с прежними представлениями и практиками. При этом каждый очередной шаг вперед облегчает последующие — и, напротив, каждый откат делает прогресс все менее гарантированным. Следует признать, что теоретические построения ничего не дают для расширения свободы. Поэтому общества, на том или ином этапе истории бывшие более свободными, с течением времени становятся лишь еще сильнее приверженными свободе, в то время как те, которые исторически были более автократичными, сталкиваются с гораздо большими препятствиями на пути демократизации. Россия в этом ряду — сложный и печальный пример. Ричард Пайпс недавно написал новую книгу о российском консерватизме*, в которой он прослеживает его истоки в самодержавии — системе, где все в конечном счете принадлежало царю по праву «отца», или покровителя. Сегодня * См.: Pipes, Richard. Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 2007 (рус. пер.: Пайпс, Ричард. Русский консерватизм и его критики, Москва: Новое издательство, 2008). 21 Даниел Белл мы снова видим ренессанс именно такой трактовки консерватизма в России — однако она уводит от подчеркивания ценности свободы и неминуемо в конечном счете начнет угрожать и соблюдению прав. При этом, подчеркну, в современных обществах это ущемление свободы и прав вполне может происходить на основании не только манипулируемой, но и относительно развитой, хотя и «нелиберальной», как называет ее Фарид Закария*, демократии. Ответом демократических систем на такого рода угрозы обычно становились попытки нейтрализовать негативные последствия «избытка демократии», самый простой из которых состоит в ограничении срока пребывания выборных лиц в должности. Это требование появилось давно, но оно не универсально и не всегда действенно. Например, в современных Великобритании и Германии можно избираться на пост премьера или канцлера сколько угодно раз — однако демократичность и правовой характер этих стран никем не подвергаются сомнению. В Соединенных Штатах соответствующая норма была введена только в середине ХХ века — после того как Франклин Д. Рузвельт избирался президентом четыре раза подряд, и это показалось законодателям чрезмерным (хотя ни к каким ограничениям прав граждан не привело). Зато, например, в Мексике, где начиная с 1916 года президент избирается только на один шестилетний срок (поговаривают, что за эти шесть лет любому удастся заработать столько денег, что хватит на всю оставшуюся жизнь), однаединственная партии — Революционно-Институциональная — находится у власти десятилетие за десятилетием. Поэтому простое ограничение срока полномочий демократически избранного правителя мало что дает. Гораздо вернее искать пути укрепления демократии не через ограничение прав лидера, а через расширение прав граждан и укрепление судебной системы. Думаю, что ошибочной является широко применяемая норма об иммунитете депутатов парламентов и глав правительств и государств, существующая во многих странах. Демократически избранные лидеры или представители — обычные граждане, и они не должны иметь прав, способных помешать распространению на них действующих в обществе законов и правил. Таким образом, уже на этих двух примерах мы отчетливо видим, что демократия, не основанная на жестком соблюдении кодифицированных и защищаемых законами прав, неустойчива и несамодостаточна. Именно поэтому я и говорю, что являюсь адептом прав и свобод, а не демократии. * См.: Zakaria, Fareed. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York, London: W.W.Norton & Co., 2003 (рус. пер.: Закария, Фарид. Будущее свободы, перевод с англ. под редакцией и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004). 22 Демократия и права: великая дилемма нашего времени В-третьих, важной проблемой является проблема взаимодействия и сосуществования прямой и представительной демократии. В первом случае каждый может высказаться по любому вопросу, и этот порядок кажется истинно демократическим — все также помнят, что именно такими были истоки демократии (греческая агора, римские народные собрания или вече в древнерусских городах). Людям во все века была (и остается и сейчас) свойственна подозрительность по отношению к представительству, где некто другой уполномочен говорить от их имени — и поэтому они всегда считали идеальной прямую демократию. Сегодня, утверждают многие исследователи, по мере распространения новейших систем связи и коммуникации, с появлением компьютеров и интернета, для воссоздания этой практики созданы все необходимые условия. К тому же и традиционные референдумы не столь уж и дороги, как кажется. Они на протяжении столетий являются основной формой выработки демократических решений, например, в Швейцарии, и получают распространение и в других странах. Даже отдельные штаты в США — Калифорния, например, — ввели такую практику, обеспечив жителям возможность высказываться по наиболее важным вопросам. Большинство калифорнийцев и сейчас воспринимает этот факт как свидетельство развития демократии и подтверждение особости штата — но проблема состоит в том, что организованные лоббистские группы имеют массу возможностей мобилизовывать массы в нужном направлении, и референдумы, задуманные для упрочения демократии, достигают этой цели все реже, а эффективность принимаемых решений невысока. Достаточно вспомнить, с каким единодушием те же жители Калифорнии проголосовали в 2003 году за досрочный отзыв губернатора, которого обвиняли в том, что он не мог справиться с бюджетными проблемами — но за годы руководства штатом популярной кинозвездой дефицит бюджета вырос в несколько раз. Да и решения о повышении социальных выплат и снижении налогов, принимавшиеся в этом штате на референдумах, в последнее время были пересмотрены под влиянием кризиса… Поэтому я считаю, что прямая демократия полезна скорее в местных сообществах, где жители хорошо ориентируются в проблемах, с которыми сталкиваются их поселок, графство или город. Если вы живете в городе, то, как и все горожане, должны иметь право участвовать в принятии решений. Прошлое лето я, как обычно, провел на Марта’c Виньярд, небольшом островке напротив мыса Кейп Кад. Там жители городков голосуют на общих собраниях, где и принимаются основные решения. Конечно, вы не можете принимать участие в собрании, если не живете там постоянно, а лишь приезжаете на 23 Даниел Белл несколько месяцев, но это уже иной вопрос. В то же время на национальном уровне практически невозможно обойтись без четко налаженной системы представительства — хотя в наши дни я бы отдал предпочтение такой, которая принимает во внимание максимальное число мнений и отражает интересы предельно большого числа социальных групп. В эпоху, когда цена решений возрастает почти беспредельно, а возможности маневра и выбора того или иного варианта действий весьма широки, я считаю парламентскую республику предпочтительнее президентской, так как она позволяет противостоять принятию многих излишне радикальных решений или достичь тех компромиссов, которые сделали бы шаги властей более взвешенными и рациональными. Сегодня важное место в политических и научных дискуссиях занимает и проблема «наднациональной» демократии. Я не буду касаться вопросов международных отношений, но замечу, что пример подобной «демократии» в том виде, в каком он воплощен в Европейском Союзе, представляется мне крайне важным и успешным экспериментом как минимум по двум причинам. С одной стороны, он — вопреки заявлениям многих политиков, — предоставляет европейцам дополнительные возможности контроля над национальными властями; с другой — он открывает для людей новые горизонты, показывая, что элиты в Старом Свете способны повести народы вперед, к новым формам взаимодействия, очень необходимым в мире, который становится все более глобальным и который вряд ли долго будет состоять из традиционных национальных государств, которые неплохо отвечали на вызовы XIX и ХХ столетий, но, видимо, все же бессильны перед вызовами XXI века. Коснувшись этого вопроса, отмечу: одной из важнейших функций современной представительной демократии я считаю отбор и инкорпорирование в политические иерархии граждан, которые способны не просто поддерживать демократические или либеральные ценности, но и раздвигать горизонты политического процесса, не просто следовать потребностям общества, но и далее «цивилизовывать» его. Владимир Ленин, говоривший когда-то о том, что в будущем каждая кухарка сможет управлять государством, сильно ошибался, на мой взгляд. Наверное, теоретически она может управлять им и сейчас, но что это будет за государство?.. И, наконец, в-четвертых, должен сказать, что я не вижу современную демократию без развитой системы социального обеспечения. Как я говорил (и писал) с самого начала своей карьеры: я социалист в экономике, либерал в политике и консерватор в культуре. Что я имею в виду, считая себя социалистом в экономических вопросах? Я считаю, что необходимо создать условия, в которых каждый 24 Демократия и права: великая дилемма нашего времени человек имел бы возможность участвовать в жизни общества. Для этого все должны ощущать себя экономически защищенными — иначе о каком участии идет речь? До тех пор, пока значительная часть людей не может быть уверена не только в завтрашнем, но даже в сегодняшнем дне, будут сохраняться опасности политической дестабилизации, а демократические институты легко могут оказаться инструментом прихода к власти популистских сил, ориентированных на демагогические лозунги. При этом весьма важно не только само социальное обеспечение, но и его четко прописанный в законах и нормах порядок. Социальные пособия и пенсии, минимальный набор качественных услуг в сфере здравоохранения и образования — это важнейшие черты современного общества, и они не должны зависеть от приходи находящихся у власти политиков и быть инструментом обеспечения электоральной поддержки. Демократия, разумеется, не может искоренить имущественного неравенства (да и не должна его искоренять), но она обязана обеспечить условия, при которых такое неравенство исключает или ограничивает возможности политического выбора. Заключительные замечания Таким образом, демократия — это форма политической организации развитого и цивилизованного общества, признающего значение и роль свободы и прав. Права, определяемые человеческой сущностью гражданина и равные для всех членов общества, выступают и фундаментальной основой, и естественным пределом демократии. При этом их соблюдение вовсе не противоречит демократическим принципам — скорее наоборот, делает их реализацию возможной. Устойчивые демократии сформировались там, где исторически была сильна и успешна борьба за ограничение всевластия правителей, где столетиями расширялась сфера свободы и формулировались границы суверенной власти. Иначе говоря, лишь тогда, когда была сформулирована концепция базовых свобод, а верховенство права стало если не всеобщей, но реальностью, демократия получила прочную основу для своего развития. Борьба за права — вот что лежало и лежит в основе любого демократического процесса. Граждане стран, где происходили «демократические революции» — в том числе и те, что на рубеже 1980-х и 1990-х годов разрушили коммунистический строй, — боролись прежде всего за восстановление (или обретение) тех неотчуждаемых прав, которыми обладали граждане западного мира и которые были отняты у них идеологизированными режимами. Борьба за демократию в современном мире — это прежде всего борьба против несвободы. 25 Даниел Белл Современный опыт демократических, квазидемократических и недемократических стран, на мой взгляд, подтверждает, что адепты демократии и либерализма сегодня должны уделять основное внимание проблеме соблюдения базовых прав человека и масштабам свобод, которыми пользуются граждане тех или иных стран. Ни уровень экономического развития, ни успехи в торговле и завоевании мировых рынков — ничто, если они достигаются за счет подавления личности и ограничения ее свободы. В условиях, когда быть демократом стало выгодным не только в западных, но и в бывших коммунистических и даже во многих периферийных странах, перенятие внешне демократических форм стало поистине всеобщим. Результаты этого, однако, далеко не схожи: как признают большинство экспертов, демократический подъем 1990-х годов идет на спад, если не прекратился вовсе — и на фоне этого «отлива» мы видим огромное количество квазидемократических режимов, попирающих права части своих граждан именем большинства. Не допустить их доминирования в новом столетии — наша общая цель и задача. Перевод В. Иноземцева Источники Bell, David. The National and the Sacred: Religion and the Origins of National Identity in the 18th Century France, Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2003. Berlin, Isaiah. Four Essays on Liberty, Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 1990. Febvre, Lucien. Civilization, le mot et l’id e, Paris, 1930. Guizot, Fran ois. The History of Civilization in Europe, New York, London: Penguin, 1997. Pipes, Richard. Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 2007. Rousseau, Jean-Jacques. The First and Second Discourses, New York: St. Martin’s Press, 1969. Zakaria, Fareed. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York, London: W.W.Norton & Co., 2003. 26 Демократия как фантом, мечта и реальность Джон Данн, Почетный профессор кафедры политической теории Кингс-колледжа Кембриджского университета (Великобритания) Нет ни малейшего повода рассматривать демократию как политическую систему, обладающую неоспоримой ценностью и четким практическим содержанием. Все попытки наделить ее хотя бы одним из этих свойств (а уж тем более обоими) неизбежно содержат в себе элемент путаницы или политической мистификации. Речь не идет и не может идти о невинном упражнении с целью прояснить суть этой концепции или пролить свет на исторические факты. Самое большее на что может претендовать подобная риторика – это на проект политической санации, очистки первоначальных нормативных достоинств политической концепции от сомнительного и наносного влияния истории, до неузнаваемости исказившего ее очертания. Такое политическое начинание можно было бы даже назвать благородным, но считать его невинным – это верх наивности*. В тех же случаях, когда в его основу ложится допущение о том, что демократия – это политическая форма, которой присуща способность узаконивать в рамках одной страны порядок собственности и социоэко* См.: Dunn, John. The Cunning of Unreason: Making Sense of Politics, New York: Basic Books, 2000; Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy, New York: Atlantic Monthly, 2005. 27 Джон Данн номическую динамику мировой капиталистической экономики, речь уже идет не о наивности, а о наглости или глупости. А уж если это допущение устанавливает удобную и взаимодополняющую связь между структурой экономики, формой политического устройства, а также политическим сознанием и деятельностью населения определенной страны за некоторый отрезок времени, то происходит совершенно безосновательное смешение двух разных явлений: наивности и мистификации*. Можно уверенно утверждать, что «демократия» представляет собой по меньшей мере три совершенно разных понятия. Во-первых, это слово. Во-вторых, это концепция. А в-третьих, это комплекс методик, претендующий на право называться словом «демократия» и воплощать эту концепцию. С точки зрения мирового политического опыта, который сегодня является предметом активного обсуждения, вначале появилось слово. Впервые возникнув на мировом лингвистическом пространстве, оно соответствовало конкретному понятию. Однако по мере проникновения слова в различные языки мира путем перевода или транслитерации его значение за последние несколько столетий удивительным образом размылось**. Конечно, слово появилось первым не в буквальном смысле. Насколько нам известно, оно впервые было употреблено для выделения и обозначения политического смысла режима, который возник в результате политической импровизации в отдельно взятой точке земного шара и не вписывался в рамки какой-либо общепринятой классификации. Любые попытки понять, каким образом данный термин обрел свой нынешний политический вес во всем мире, будут бесполезными, если их суть состоит в том, чтобы проследить причинно-следственную связь между прошлым историческим порядком и дальнейшим ходом событий или же установить подобное соответствие для туманной и не слишком привлекательной концепции, в основу которой условно лег этот термин***. Само по себе слово «демократия» до некоторой степени обладает определенностью (даже в транслитерации), однако при переводе с греческого на другие языки его смысл сильно размылся и продолжает размываться по мере трансформации культур, принявших это слово в свой язык. До сих пор не было предпринято ни одной внятной попытки сколько-нибудь точно или тонко описать * См.: Dunn, John. «Capitalist Democracy: Elective Affinity or Beguiling Illusion?» in: Daedalus, Vol. 136, 2007, pp. 5–13. ** См.: Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy. *** Ср.: Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy; Keane, John. The Life and Death of Democracy, New York, London: Simon & Schuster, 2009. 28 Демократия как фантом, мечта и реальность этот процесс взаимного проникновения и трансформации научными или какими-либо другими методами. Поэтому никто на самом деле не знает, что население планеты понимает сейчас под словом «демократия». Впрочем, политологи уже в течение некоторого времени с разной степенью понимания и ответственности предпринимают попытки найти ответ на этот вопрос как в отношении отдельных стран, так и в сравнении различных государств в рамках региональных объединений и между этими объединениями. Наиболее ясная картина складывается в Южной Азии*. Теоретики естественным образом исходят из допущения (или фантазии) о том, что эта колоссальная путаница может и должна быть устранена и на ее место должна прийти четкая и стройная концепция. К сожалению, демократию причислить к ряду таких концепций нельзя, причем не только потому, что она безусловно является политической категорией и, как все политические категории, примененные к политическим обстоятельствам, является спорной, но что еще хуже — и в силу систематической уклончивости в определении нормативного критерия для принятия решений и классификации режимов и форм правления. Концепция, которая допускает такие двусмысленные трактовки, не может быть ясной в принципе. Любой, кто захочет ею воспользоваться, сможет путем простых умозаключений трактовать ее удобным для себя образом, нисколько при этом не путаясь. Однако даже самые здравомыслящие и уверенные в себе деятели сталкиваются с препятствиями, пытаясь донести свои умозаключения до широкой аудитории. А в настоящей политической дискуссии вызванное этим распыление значения и двойственность концепции только нарастают. В таких дискуссиях (хоть и не всегда научных) спор идет, как правило, либо о достоинствах определенных режимов или форм правления, либо о причинно обусловленных предпосылках для их установления или поддержания. В настоящее время определенный вид режима или формы правления все еще претендует на монополию в отношении этой концепции — причем, конечно же, не путем практического применения ее нормативных критериев во всех аспектах своего существования, но путем более или менее беззастенчивых попыток подогнать эту концепцию под существующее положение вещей. Кроме того, сейчас одно отдельное государство, все еще обладающее большой мощью, убежденно заявля* См.: de Souza, Peter; Pakshikar, Suhas and Yadav, Yogendra. The State of Democracy in South Asia: A Report, New Delhi: Oxford Univ. Press, 2008. 29 Джон Данн ет о том, что является воплощением данной концепции, при этом отождествляя ее с набором собственных политических и правовых признаков: наличием писаной конституции, широким кругом тщательно оберегаемых гражданских свобод, укоренившимся понятием права собственности и даже с практикой судебного надзора, которая не имеет никакого отношения к концепции демократии и изначально вовсе не задумывалась как демократическая и таковой не считалась*. Ни одно общество в истории не вправе называться последователем политической концепции, если она реализуется таким путем, а претензия на монополию в следовании концепции демократии выглядит особенно непривлекательно. К тому же это неосмотрительно – ведь можно ожидать, что соотношение сил между странами продолжит меняться, и не исключено, что в будущем на статус монополиста смогут претендовать еще менее располагающие к себе кандидаты. Соответственно, в условиях существующей международной обстановки любая попытка оценить перспективы или политические последствия применения демократии представляет собой весьма щекотливую задачу. Для того чтобы хотя бы приблизиться к осознанию этой концепции или единому ее пониманию, требуются большая ясность ума и (в идеале) не меньшая степень откровенности со стороны всех участников процесса. В данный момент условия для такой оценки определяются недавними успехами единственной сверхдержавы и той формы правления, которой она придерживается (по крайней мере, в общих чертах). Таким образом, подобная модель должна обладать родовым сходством с данной державой, предусматривать систему политического представительства предположительно для всего населения страны, проводить предположительно свободные всеобщие выборы для всех совершеннолетних граждан, основываться на праве собственности и других гражданских правах, быть закрепленной в писаной конституции, положения которой очевидным образом соблюдаются на практике и определяют (в действительности, с внешней стороны) структуру политической борьбы. Большинство стран мира не соответствуют этой модели по одному или более параметрам, а многие из тех, кто громогласно провозглашает себя демократическим государством, совершенно не отвечают большинству из указанных критериев. Однако модель эта легко идентифицируется и поэтому все чаще и чаще используется в политической полемике (и даже во взаимных политических обвинениях) по всему миру. * См.: Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy. 30 Демократия как фантом, мечта и реальность Здесь мы не будем говорить о том, насколько успешно эта модель может претендовать на воплощение идеи демократии и какие ее элементы наиболее прямо и логично связаны с данной концепцией (поскольку сама концепция является спорной, все подобные рассуждения неизбежно носят спорный характер). Тем не менее в рамках этой парадигмы следует отметить один важный и глубоко парадоксальный элемент. Вашингтонская модель демократии основана на двух предпосылках, которые могут показаться несовместимыми. Во-первых, в ней без тени сомнения принимается допущение, что демократия, понимаемая таким образом, является формой государственного устройства. Во-вторых, по меньшей мере столь же уверенно высказывается следующая исходная формулировка: упомянутая форма государственного устройства сама является системой, обеспечивающей полное политическое равенство всех граждан этого государства. Однако отдельные государства упорно и энергично настаивают на том, что являются едиными системами принятия и реализации авторитетных решений, обязательных для исполнения всеми гражданами и от их имени. Они стремятся сформировать (даже если в реальности это никогда не получается) интегрированные структуры для принятия решений и осуществления того или иного выбора. Эти структуры являются вертикальными и в принудительном порядке навязываются как отдельным гражданам, так и группам граждан, проживающим на территории данного государства. Претендовать от имени какого-либо государства на то, что оно является демократическим, – значит не просто формально признавать равенство всех его граждан, но и беспристрастно и равномерно распределять между ними власть, чтобы каждый реально, на практике, становился равным другому при реализации практически любой общественно значимой задачи. Государство же концентрирует власть, полномочия по принятию решений и право выбора в одной высшей точке. Оно не приемлет препятствий в исполнении своих решений или осуществлении выбора. Следовательно, оно осознанно и неизбежно проявляет дискриминацию в отношении своих граждан, влияя на их суждения, чувства и жизненные возможности. И дело не только в том, что ни одно из реально существующих государств не делает своих подданных или граждан равными, но и в невозможности себе представить, чтобы какая бы то ни было управляемая группа людей с течением времени осознавала или ощущала, что со всеми ее членами постоянно обращаются как с равными. В условиях капиталистического общества с неясными очертаниями и неравномерным развитием (обусловленным относительными и взаимо- 31 Джон Данн связанными лишениями) сомнительная связь между двумя этими предпосылками, которые сами по себе могут показаться заманчивыми, приобретает провокационный характер. Капиталистическая демократия, проистекающая из огромной власти, постепенно сама обрела поразительную мощь. Никто еще не смог убедительно доказать свою независимость от влияния этой системы, хотя многие считают, что смогли это сделать. Однако и реальные, и воображаемые преимущества системы остаются в тени. Процесс принятия демократии в качестве своего рода устава капиталистических стран, который с начала до конца проходил очень хаотично, привел к появлению обязательной программы в идеологическом конфликте по всему миру. Этот процесс во многом отвлек внимание от старой методики оценки государства, в соответствии с которой его авторитет более или менее напрямую увязывался с его влиянием на уровень и качество жизни его граждан. Теперь все большее значение придается отношениям между правителями и подданными, которые, по сути, и составляют государство, и особенно степени принуждения и предоставления гражданам прав и свобод. Чтобы называться демократическим, государству необходимо заявлять о себе как о политической системе, которая воплощает и обеспечивает власть своего собственного народа. В связи с этим актуальным становится вопрос о том, насколько структуры и действия данного государства сокращают или устраняют пропасть между правителями и подданными. Встает и другой вопрос: насколько действия государства позволяют и предписывают гражданам быть абсолютно равными между собой? Поскольку ответ на этот вопрос, даже после самых диких попыток всеобщей уравниловки — таких, как режим «Красных кхмеров» и «Культурная революция», может быть дан точно такой же: «совсем не намного», – претензия демократии на обеспечение равенства и претензия государства на осуществление неоспариваемой власти вступают в непримиримое противоречие, и на первый план вновь выходит старый критерий оценки через степень влияния на уровень жизни подданных. Такие противоречия существовали и будут существовать в сменяющих друг друга формах правления. Недавний триумф капиталистической демократии как формы государственного устройства, которая, впрочем, пока применяется лишь частично и географически неравномерно, но которую воодушевленные успехом сторонники вашингтонской модели надеются распространить по всему миру, может трактоваться лишь как единый по своей сути процесс расширения ареала доминирования определенной политической системы. В рамках этого процесса различные составные 32 Демократия как фантом, мечта и реальность части модели приводят к совершенно определенным последствиям и часто действуют разнонаправленно — то ускоряя, то замедляя принятие ее в целом в разных обстоятельствах и в разное время. Никому еще не удалось прийти к полному пониманию этого движения как отдельного процесса. Следовательно, никто пока не знает, будет ли эта модель хотя бы на протяжении какогото времени применяться во всех уголках земного шара и достигла ли она своего апогея. Никто вполне не понимает, почему эта модель применяется именно таким образом, и никто (хотя и тут многие утверждают обратное) не имеет представления даже о том, какие факторы более всего способствовали ее распространению: война, мир, экономическая эффективность, система социального обеспечения, политическое чутье, хитрость, жестокость или удача (самые интересные суждения на эту тему содержатся в работе Адама Пшеворски*). Но несмотря на все эти практически неразрешимые вопросы, уже сегодня из видимой последовательности событий с определенной долей уверенности можно сделать вывод о том, что в значительной мере сила демократической концепции проистекает от ее гибкости и ассоциаций с самим словом «демократия», которое проникает в лексикон различных народов мира и прокладывает себе дорогу в современной истории. С таким неоднозначным прошлым «демократия», конечно же, не может даже с минимальной степенью ясности и достоверности оценивать отличительные достоинства политических режимов. Само по себе употребление этого термина требует предварительного сложного политического рассуждения, и любой смысл, который несет в себе эта концепция (аналитический, гносеологический, политический или нормативный), зависит от качества проводимого таким образом анализа. Мы не знаем, насколько в действительности широки те границы, которые позволяют реализовать вашингтонскую модель в отдельно взятой стране и затем постоянно ее применять. Но одного лишь исторического опыта достаточно, чтобы заметить, что условия, способствовавшие ее реализации, всегда зависели от геополитических факторов и с течением времени они резко менялись. Резонно предположить, что и условия, которые будут способствовать ее сохранению, будут столь же подвержены изменениям. Впрочем, уже ясно, что факторы, допускающие реализацию и сохранение этой модели, куда многообразнее, чем полвека назад * См.: Przeworski, Adam; Alvarez, Michael E.; Cheibub, Jose Antonio and Limongi, Fernando. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World 1950—1990, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. 33 Джон Данн предполагали Сеймур Мартин Липсет и его коллеги*, и что они распространяются на очень крупные страны, население которых все еще по большей части живет в бедности, и в которых неравенство сохраняется, несмотря на активные попытки повысить уровень жизни беднейших и исторически наиболее угнетенных групп граждан. Демократия распространилась по всему миру на словах (и это удел всех политических категорий, если им суждено получить хоть какое-то признание) путем отделения «друзей» от «врагов» и временного сосредоточения сил в тех местах, где ей удалось завоевать господство. Это господство везде, где ей это удалось, она сохранила путем поддержания коалиции, выступающей за ее последовательное применение. Вы спросите: почему именно демократия смогла доминировать в мире шире, чем любая другая теоретическая категория, когда-либо встречавшаяся в человеческом лексиконе?** Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, хотя понять его нетрудно. Распространение слова «демократия» по всему миру (лексическая победа) связано с ее сравнительным преимуществом для той коалиции, которая создавалась в эпоху мирового капитализма, не только в отношении разнообразных непосредственных врагов, но и еще ярче – в отношении двух ее давних соперников. Испокон веков имелись сильные практические доводы в пользу монархии, которые так решительно отстаивал Томас Гоббс в своем трактате «Левиафан» и в других работах и которые тесно связаны с доводами в пользу государства. Аргументы против этой системы всякий раз сводились в основном к критике конкретных монархов — но ведь если так рассуждать, то можно оспорить легитимность любой формы правления в любую эпоху. Высказывались и сильные идеологические соображения в поддержку аристократии (кто же откажется подчиняться лучшим, а не худшим?) – и мешало лишь то, что определение критериев принадлежности к этому классу никак не может считаться объективным. Сравнительное преимущество демократии в этом извечном состязании заключается в тонком маневрировании между здоровым скептицизмом и почти интуитивным нормативным утверждением. Скептицизм проявляется в отношении каждого конкретного кандидата для определения особых навыков или качеств, которые позволяют их носителю принять правление, — происхождение, отвага, честь, духовная глубина и щепетильность (а также сопутствующее при* См.: Lipset, Seymour Martin. The Political Man, London: Heinemann, 1960. ** См.: Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy. 34 Демократия как фантом, мечта и реальность вилегированное положение), ум, образование, профессионализм. Лишь первый из этих критериев можно оспаривать, и то только если полностью вырвать его из контекста. При этом каждый из критериев представляет собой неиссякаемый источник аргументов для успешного правления и здравого подчинения. Напротив, согласие быть управляемым основывается на биологически обусловленной готовности определиться, в какой мере и в какой момент уступить другим людям контроль над собственными действиями*. Демократия основывается на предпосылке, что все люди в государстве являются равными, и будучи поставлены перед выбором, стоит ли им безоговорочно подчиняться кому-либо, предпочтут не отказываться от такой возможности на постоянной основе. Оказалось, что демократия — весьма гибкая категория, которая без труда примиряется с крайней степенью неравенства и подчинения, но при этом признает право всех нас решать, в какой момент следует остановиться в своем следовании этой тенденции. На данном уровне люди ощущают биологическое влечение к подобной форме правления как отвечающей «естественному состоянию» человека. Вашингтонская модель (или, как называют ее сторонники, «либеральная демократия») представляет собой очень четкую трактовку того, что требует и что дозволяет демократия. У нее есть свои достоинства и недостатки, причем и те и другие не полностью совпадают с идеальным образом демократии. В концепции либеральной демократии сформулирована ее собственная основная заслуга – она по самой сути своей напрямую связана с определением и поддержанием широкого круга личных свобод. Там, где это получается, появляется очевидный и мощный довод в ее пользу. Меньше в этой концепции говорится о связанных с ней издержках и об их распределении между теми, кто вынужден их нести. Нет в ней и категорических утверждений о практической пользе установления или поддержания этой формы правления. Слабым местом концепции демократии с политической точки зрения всегда было и до сих пор остается то, что гарантии личной свободы (да и подотчетности государства) на практике попирают заявленное равенство всех граждан, принося в жертву повышение экономической эффективности, и в конечном счете уровень национального благосостояния. Этот вопрос во многом определяет отношения между Китаем и Индией и, очевидно, влияет и на политическое будущее России. Но и в этих случаях высокую * См.: Dunn, John. «The Transcultural Significance of Athenian Democracy» in: Sakellariou, Michel (ed). Democratie ath nienne et culture, Athens: Academy of Athens, 1996, pp. 97–108. 35 Джон Данн эффективность авторитаризма следует постоянно доказывать, а не принимать как данность. Как отмечал в отношении ортодоксальности Джон Локк, каждый может быть деятельным в своих собственных глазах. Как и в случае с монархией, весомость доводов против либеральной демократии зависит от конкретных достижений правителя, находящегося в данный момент у власти. Сравнительное преимущество вашингтонской модели заключено в том, что оценка этих достижений (рано или поздно, но регулярно и через разумные временные промежутки) становится прерогативой населения, которое в остальное время подчиняется данному правителю. Однако излюбленный способ такой оценки, свободные и справедливые выборы, — не слишком тонкий инструмент, даже когда выборы действительно являются свободными и справедливыми*. Этот инструмент совершенно не позволяет обеспечить подлинную и последовательную подотчетность членов правительства остальной части населения**. Однако в этой концепции власть трактуется как политически и нормативно подотчетная, и уже ясно, что такая трактовка обладает мощной политической притягательностью. Имея подобую возможность, любой народ рано или поздно предпочтет, чтобы его нынешние правители были ему подотчетны. Распространение вашингтонской модели по всему миру, бесспорно, было от начала до конца результатом осуществления единого властного проекта, причем далеко не всегда искусного. Тем не менее в этом насильственном утверждении нормы важно распознать политический аспект, связанный с привлекательностью самой модели. Суть этой привлекательности составляет не только перспектива (иногда излишне оптимистичная) радужного будущего, но еще в большей степени создание определенных практических условий для обеспечения в конечном итоге подотчетности правительства. Предварительный довод в пользу благотворного воздействия авторитаризма на процессы развития не очень убедителен, если говорить о нем в общем. Даже если он напрямую не противоречит фактам (как, например, в случае современного Китая), далеко не ясно, в какой мере эти достижения можно приписать существующей форме правления, в какой – тысячелетиями копившемуся мастерству и талантам политически организованного народа, живущего сейчас при этой форме правления, и в какой – факторам чисто экономического, и даже конъюнктурного, характера. * См.: Przeworski, Adam; Stokes, Susan and Manin, Bernard (eds). Democracy, Accountability and Representation, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. ** См.: Dunn, John. «Situating Democratic Accountability» in: Przeworski, Adam, Stokes, Susan and Manin, Bernard (eds). Democracy, Accountability and Representation, pp. 329–344. 36 Демократия как фантом, мечта и реальность Мысль о том, что политическая власть предполагает груз обязанностей и ее носители должны (и в конечном счете будут) отвечать за неисполнение вытекающих обещаний, была отнюдь не чужда коллективному политическому сознанию Китая и составляла центральный постулат этой древней цивилизации (хоть он и утверждался подчас через его постоянное нарушение, как и в большинстве цивилизаций). Даже среди самых ярых и упорных сторонников существующей структуры власти в Китае мало кто считает, что она действительно соответствует этому постулату (хотя сама Коммунистическая партия официально поддерживает ее с некоторым нажимом). Неясно, сможет ли категория демократии, несмотря на ее глубокое проникновение в интеллектуальный мир Китая* и постоянное сильное влияние на его самосознание**, помочь гармонично сочетать теоретические принципы и практику. И тем более нет уверенности в том, что эта концепция послужит основой для критики существующего режима, не говоря уже о его преобразовании в либерально-демократический. Будет ли в обозримом будущем нынешний режим подвергаться серьезной критике со стороны больших групп населения, кроме как на националистической основе, — это зависит не от концепций, а от воли политических субъектов. Если судить о Китае по обманчивому поведению тех или иных социальных групп и политических деятелей, становится ясно, что предположения о дальнейшем развитии событий строить еще очень рано. Если Китай поддастся общей тенденции, взрывная волна докатится до многих его соседей, которые последуют его примеру. Но если Китай будет стоять на своем, и нынешняя администрация останется у власти, целый ряд других стран будет избегать установления либеральной демократии. Если бы существующий режим пал и был заменен правдоподобным «слепком» с вашингтонской модели, последняя смогла бы вернуть себе былую мощь и престиж — хотя долго ли этот слепок будет выглядеть правдоподобно в глазах самого китайского народа или американцев, пока непонятно. Российским правителям, несомненно, было выгод* См.: Price, Don C. Russia and the Roots of the Chinese Revolution 1896–1911, Cambridge (Mа.): Harvard Univ. Press, 1974, рр. 26–27, 229–30; Yuezhi, Xiong. «Difficulties in Comprehension and Difficulties in Expression: Interpreting American Democracy in the Late Qing» in: Late Imperial China, Vol. 23, 2002, pp. 1–27. ** См.: Huang, Max Ko-wu. The Meaning of Freedom: Yan Fu and the Origins of Chinese Liberalism, Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2008; Metzger, Thomas A. «The Western Concept of Civil Society in the Context of Chinese History» in: Kaviraj, Sudipta and Khilnani, Sunil (eds). Civil Society: History and Possibilities, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001, pp. 204–231; Metzger, Thomas. Acloud Across the Pacific, Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2005. 37 Джон Данн но в разные периоды говорить о том, что установление либеральной демократии на практике ведет к ослаблению мощи государства, которым они управляют, – и поэтому существует соблазн обвинить их в предубеждениях против демократических принципов и норм. Однако нельзя не заметить, что во всех случаях, когда ее установление все-таки имело место, от этого укреплялась относительная власть Соединенных Штатов (причем не всегда это достигалось мягкими методами) и, соответственно, уменьшалась относительная мощь российского государства. Сегодня у либеральной демократии по крайней мере столько же врагов, сколько и у Америки. Внешняя критика принимает различные формы и исходит с разной степенью интенсивности из целого ряда стран – от КНДР и Исламской Республики Иран до Китая и, в некоторой мере, России, а также из государств, политически, военно и экономически тесно связанных с США (Саудовской Аравии, Египта, Пакистана, Афганистана, Ирака), и из политических кругов исламского мира, настроенных враждебно по отношению к Соединенным Штатам и активно действующих даже в ведущих центрах либеральной демократии. Понятие либеральной демократии не вносит никакой ясности, если применяется в отношении государства, а не нормативной программы. Тем не менее, если посмотреть шире, трудно поверить, будто основные трудности, с которыми сейчас сталкивается либеральная демократия, проистекают извне. На данный момент большее беспокойство вызывают три проблемы, которые безусловно можно охарактеризовать как внутренние. Первая порождена очевидной идеологической слабостью профессиональной представительной политики, которая практически не подлежит контролю извне, все чаще вызывает неприятие со стороны большинства граждан и в силу самого своего устройства занимается сизифовым трудом, пытаясь завоевать признание той общественной категории, которая не приемлет специализации в политике. Вторая проблема – это временный (в лучшем случае) кризис доверия к модели экономической координации, которая отвергла право государства на экономическое регулирование, заявила о том, что система саморегулирования свободного мирового рынка действует безотказно, и спровоцировала в итоге масштабную рецессию. Демократия не располагает собственными ресурсами для восстановления спокойствия, порядка, законности или сколь-либо четкого представления о том, что надлежит делать в сложившейся нелегкой ситуации. Она истощает свой и без того скромный кредит доверия, либо честно признавая свою 38 Демократия как фантом, мечта и реальность неспособность что-то сделать, либо претендуя на компетентность, которой не обладает. Третья проблема, которая куда глубже и которая становится все актуальнее, находится вне человеческой власти. Она угрожает не какой-то конкретной форме правления или государственной идеологии, но биологическому выживанию человеческого рода. Поскольку основная задача, связанная с этой последней проблемой, заключается в том, чтобы все люди, живущие сейчас на планете, смогли восстановить контроль над совокупностью непредвиденных последствий своих собственных поступков, политическая форма распределения власти в рамках отдельного государства и на определенной основе не может сама по себе решить эту задачу. И даже если воспринимать демократию как возможность раздробить ответственность между определенным кругом субъектов (государств и людей) — что само по себе представляется достаточно разумным, это происходит в условиях, которые с самого начала сильно размывают суть проблемы. Не приходится сомневаться, что в мировом капиталистическом обществе для уменьшения этой угрозы потребуется как минимум две совершенно недемократические категории: реальная передача власти, ответственности и возможности принимать решения носителям совершенно особых когнитивных навыков и жесткий внешний контроль неистовых и эгоистических потребностей отдельных лиц. Приходит время Томаса Гоббса – и Уильям Годвин отодвигается на второй план. Перевод В. Иноземцева Источники Dunn, John. «Capitalist Democracy: Elective Affinity or Beguiling Illusion?» in: Daedalus, 2007, Vol. 136. Dunn, John. The Cunning of Unreason: Making Sense of Politics, New York: Basic Books, 2000. Dunn, John. Setting the People Free: The Story of Democracy, New York: Atlantic Monthly, 2005. Dunn, John. «Situating Democratic Accountability» in: Przeworski, Adam; Stokes, Susan and Manin, Bernard (eds). Democracy, Accountability and Representation, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. Dunn, John. «The Transcultural Significance of Athenian Democracy» in: Sakellariou, Michel (ed). Democratie ath nienne et culture, Athens: Academy of Athens, 1996. 39 Джон Данн Huang, Max Ko-wu. The Meaning of Freedom: Yan Fu and the Origins of Chinese Liberalism, Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2008. Keane, John. The Life and Death of Democracy, New York, London: Simon & Schuster, 2009. Lipset, Seymour Martin. The Political Man, London: Heinemann, 1960. Metzger, Thomas. Acloud Across the Pacific, Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2005. Metzger, Thomas. «The Western Concept of Civil Society in the Context of Chinese History» in: Kaviraj, Sudipta and Khilnani, Sunil (eds). Civil Society: History and Possibilities, Cambridge: Cambridge University Press, 2001 Price, Don C. Russia and the Roots of the Chinese Revolution 1896–1911, Cambridge (Mа.): Harvard Univ. Press, 1974. Przeworski, Adam, Alvarez, Michael E.; Cheibub, Jose Antonio and Limongi, Fernando. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World 1950–1990, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. Przeworski, Adam; Stokes, Susan and Manin, Bernard (eds). Democracy, Accountability and Representation, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. de Souza, Peter; Pakshikar, Suhas and Yadav, Yogendra. The State of Democracy in South Asia: A Report, New Delhi: Oxford Univ. Press, 2008. Yuezhi, Xiong. «Difficulties in Comprehension and Difficulties in Expression: Interpreting American Democracy in the Late Qing» in: Late Imperial China, 2002, Vol. 23. 40 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? Владислав Иноземцев, Доктор экономических наук, главный редактор журнала «Свободная мысль» (Россия) В 1989 году Фрэнсис Фукуяма написал свою знаменитую статью о «конце истории». В 2000-м Даниел Белл предпослал юбилейному изданию книги «Конец идеологии», впервые вышедшей в 1960 году, предисловие, озаглавленное «Возобновление истории в новом столетии»*. В 2008-м Роберт Кейган обыденно говорил о вернувшейся в жизнь человечества истории, основываясь на факте обостряющегося геополитического соперничества**. Так что же: история вернулась? Или она никуда не уходила, а нам лишь показалась, что она тихо прикрыла за собой дверь? И почему мы вообще подумали, что она может уйти? Ответы на все эти вопросы тесно связаны с концепцией демократии — понятия крайне многозначного, которое в последние десятилетия обрело столь серьезную идеологическую нагрузку, что любое критическое (не скептическое, а именно критическое) отношение к скрывающемуся за ним явлению рассматривалось порой как опас* См: Bell, Daniel. «The Resumption of History in the New Century» in: Bell, Daniel. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2000, pp. xi–xxviii (рус. изд.: Белл, Даниел. «Возобновление истории в новом столетии. Предисловие к новому изданию книги "Конец идеологии"» [пер. В. Иноземцева] в: Вопросы философии, № 5, 2002, сс. 13 – 25). ** См: Kagan, Robert. The Return of History and the End of Dreams, New York: Alfred A. Knopf, 2008. 41 Владислав Иноземцев ная ересь. Но если «окончание истории» ассоциировалось с триумфом демократии, означает ли ее «возобновление», что значение демократии может измениться, а волна надежд, с ней связанных — схлынуть? На мой взгляд, такое допущение представляется достаточно реалистичным. Три вызова демократии Сегодня ученые и политики много рассуждают на тему вызовов, с которыми сталкиваются демократии — но практически все эти вызовы выглядят внешними: исламские религиозные фундаменталисты, ненавидящие свободу авторитарные правители-клептократы, не приемлющие высоких гуманистических принципов националисты, и подобные им субъекты выставляются противниками демократии, изначально признаваемой идеальной политической формой. При этом практически ничего не говорится о том, насколько эта идеальная форма адекватна современному состоянию и внутреннему устройству самих западных обществ. Между тем история, если уж она «возобновилась», вновь начала свой бег не по велению Китая или России, а прежде всего под влиянием перемен, происходящих в странах-лидерах — перемен, которые самое время если не проанализировать, то хотя бы обозначить, так как именно они, на мой взгляд, определяют основные вызовы, с которыми придется столкнуться демократии как в теории, так и на практике. Кому сегодня нужна демократия? Вопрос, который может показаться бредовым, на самом деле не столь уж наивен. История демократии учит нас, что эта политическая форма закрепляла успехи народа (иногда его части или представителей) в борьбе против тирании за свои свободы и права. Гарантией от произвола власти выступали ее сменяемость и подотчетность. Однако только ли демократические инструменты обеспечивали такой результат? Отнюдь. Неадекватных императоров закалывали преторианцы, нерадивых монархов их собственные вассалы заставляли подписывать хартии вольностей и первые конституции. Демократия — вместе с конституционализмом, разделением властей, секуляризацией и упрочением власти законов — стала реальным гарантом прав и свобод относительно недавно. Причем важным, но не единственным. Многие великие либералы XIX века не были демократами в современном смысле, как не был им, например, Ли Куань Ю, превративший полуфеодальный Сингапур в современную индустриальную страну с либеральной экономикой. Даже во вполне развитых демо- 42 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? кратических государствах в последние десятилетия наиболее значимые решения, обеспечившие соблюдение и расширение прав человека, принимали не демократически избранные органы власти, а судебные инстанции (вспомним решения Верховного Суда США по делу Brown v. Board of Education (347 U.S. 483, 1954 год) или Европейского Суда по делу Donato Casagrande v. Landeshauptstadt Munchen (9/74, ECR 773, 1974 год). Либеральное правовое государство обычно является демократическим — но это еще не значит, что оно не может быть иным. Скорее правильнее сказать, что демократия стала мощнейшим инструментом построения либерального правового порядка, но необходима ли она для его сохранения, пока не очевидно. Однако более важен другой аспект проблемы. Демократия предполагает власть большинства над меньшинством, и для ее эффективного функционирования необходимы предпосылки сплоченности этого большинства. В индустриальном обществе они были очевидны — большинство боролось за свои экономические права. Парадоксально, но самый большой «запрос» на демократию на Западе (отражающийся, в частности, в активности избирателей) пришелся на период внедрения систем всеобщего социального обеспечения в Европе и борьбы за гражданские свободы в США. Это происходило в условиях, когда, с одной стороны, в обществе доминировала материалистическая мотивация, и, с другой стороны, граждане осознавали, что могут добиться улучшения своего положения только через коллективные действия. В формирующемся постиндустриальном обществе заметен упадок общественных связей и рост того, что принято сейчас называть индивидуализированным социумом, в котором люди заняты настойчивым поиском «индивидуальных ответов на системные противоречия»*. Более того; в условиях, когда мотивация людей заметно меняется, их интересы становятся все менее пересекающимися — они как бы располагаются в разных плоскостях, тогда как демократическая политика была эффективна лишь в случае, когда интересы людей были пусть и разнонаправлены, но сопоставимы. Но и это еще не все: по мере того как часть населения воспринимает постматериалистические ценности, остальная (и большая) часть превращается из граждан в потребителей, а в потребительском обществе человек оценивается не как личность, а как обладатель определенного количества денег, которые могут быть от него получены в обмен на те или иные товары. Таким образом, оказывается, что политический и экономический прогресс послед* См.: Putnam, Robert. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000; Бауман, Зигмунт. Индивидуализированное общество, перевод с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2002. 43 Владислав Иноземцев них десятилетий породил две тенденции: во-первых, защита прав и свобод занимающей активную гражданскую позицию части общества стала более эффективно реализовываться судебно-правовой системой (сегодня этот процесс в развитых странах действительно не зависит от того, какая партия или политик находятся у власти), и, во-вторых, становление «индивидуализированного общества» резко сократило спрос на коллективные действия. Поэтому применительно к западному миру вопрос о том, кому сегодня нужна демократия, не является таким уж праздным. Однако, кроме него, на повестке дня стоят и более жесткие вопросы. Не угрожает ли демократия либерализму? Эта проблема, которая сегодня часто замалчивается, представляется мне основным вызовом, с которым демократия столкнется в новом столетии. Принято считать, что, с одной стороны, борьба за гражданские права в США и демократические революции 1989– 1991 годов в Европе примирили демократию и либерализм. Думается, что это только первое поверхностное впечатление. Во-первых, следует заметить, что окончательное торжество гражданского равенства в Соединенных Штатах очень быстро спровоцировало реакцию: те же представители «угнетенных меньшинств», которые прежде боролись за равенство, очень скоро начали остаивать свою «особость» и аргументировать ею обоснованность претензий на особые права. Идеи мультикультурализма, стремительно распространившиеся в 1980–1990 годы, имеют в своей основе радикальное отрицание либеральной демократии — однако по мере того, как западные общества становятся все более этнически, религиозно и национально мозаичными, они завоевывают все большую популярность. И если в США до поры до времени эту проблему пытались (да и сейчас пытаются) не замечать, стыдливо вспоминая о том, сколь долго правящая элита ограничивала права афроамериканцев, попавших в Новый Свет против своей воли, то в Европе, где иммиграция стала чертой последнего полувека и осуществляется на сугубо добровольной основе, она неизбежно встанет более остро. Что возьмет верх: демократия, чьи принципы требуют уважать волю большинства (проявленную, например, швейцарцами, на референдуме высказавшимися против строительства в своей стране минаретов), или доктрина прав человека, предполагающая свободу вероисповедания и право следовать собственным традициям? Вопрос не имеет однозначного ответа, но можно констатировать, что в современных развитых демократиях уже задумались о том, считать ли субъектом демократического процесса только индивида, или же им могут быть 44 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? и группы, объединенные в том числе и примордиальными признаками. От того, каким будет ответ на этот вопрос, судьбы современного либерализма зависят куда больше, чем от скорости демократических преобразований в Нигере или от степени экономической успешности либеральных автократий Юго-Восточной Азии. Во-вторых, с пришествием постиндустриального общества, как показывает практика, неравенство не только не ушло в прошлое, но даже увеличилось. И одним из его аспектов стало неравенство компетенций. В мире, где знания, по Карлу Марксу и Даниелу Беллу, стали главным производственным ресурсом, классовые различия, и здесь Фрэнсис Фукуяма прав, оказались «обусловлены прежде всего разницей в полученном образовании»*. Между тем проблемы, которые стоят ныне перед «городом и миром», требует квалифицированного избирателя, делающего свой выбор с высокой степенью понимания стоящих перед обществом вызовов и к тому же на основе нравственных норм. Но и с тем, и с другим есть большие проблемы. Если почти 90% американских избирателей-мусульман на выборах 2000 года голосуют за христианского фундаменталиста Джорджа Буша-мл. только тому, что его соперник выбрал кандидатом в вице-президенты еврея, то этот выбор трудно признать рациональным (и пример этот не единичен — начинают выходить книги, целиком посвященные иррациональности и некомпетентности избирателей)**. Если известный кинорежиссер вынужден описывать пассажиров салона первого класса на «Титанике» как себялюбивых трусов, зная, что среди них не погиб ни один ребенок и ни одна женщина, за исключением тех, кто принял решение остаться со своими мужьями — в то время как из пассажиров третьего класса женщин спаслось в пять раз меньше, чем мужчин, и оправдывает такое описание тем, что иному «сегодня никто не поверил бы»***, то в нынешнем обществе что-то не так. Демократия была оптимальной формой правления, во-первых, тогда, когда избиратели могли делать рациональный выбор, понимая, что´ именно стоит на кону, во-вторых, когда они были морально готовы к такому выбору и ответственности за его последствия, и, в-третьих, когда само право выбора было либо привилегией, либо результатом борьбы, память о которой еще не совсем рассеялась. Сегодня же сложно отделаться от впечатления, что демократические общества стремительно превращаются в охлократии, где граждане, относящиеся к своим правам как к данности, оболваниваются пропагандой. * Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man, London, New York: Penguin, 1992, р. 116. ** См., например: Shenkman, Rick. Just How Stupid We Are? Facing the Truth About the American Voter, New York: Basic Books, 2008. *** См.: Закария, Фарид. Будущее свободы, перевод с англ. под редакцией и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004, сс. 262–263. 45 Владислав Иноземцев Эл Гор (а именно он проиграл выборы 2000 года Джорджу Бушу-мл.), недавно поставил этот вопрос со всей остротой, прямо усомнившись в том, что демократия, родившаяся в эпоху Republic of Letters и представлявшая собой диалог между гражданами, способна выжить — и принести пользу обществу — во времена Empire of Television, когда информационный поток направлен только в одну сторону и не предполагает ответной реакции*. Этот вопрос очень своевременен, а книга Майкла Янга «Возвышение меритократии» сегодня не кажется такой уж антиутопией, какой выглядела в 1958 году. В-третьих, становление демократии как политической системы происходило в условиях нараставшей секуляризации общества и освобождения человечества от религиозных предрассудков, а также распространения идеологии всеобщего равенства. Демократия — это проект эпохи Просвещения, далеко вышедший за ее исторические рамки. Однако в последние десятилетия во всем мире происходит ренессанс примордиальных форм идентичности. Отчасти это обусловлено неудачами в историческом развитии целых народов (в первую очередь в Африке и на Ближнем Востоке), отчасти неуемной идеализацией прошлого в посткоммунистических странах (прежде всего в России), отчасти стремлением поставить национализм на службу политике. Демократия, как подчеркивает, например, Майкл Уолцер, «предполагает мир состоящим из групп, членство в которых индивидуально и не допускает принуждения — и ни из каких иных»**; на деле же все больше групп определяются именно врожденными чертами их членов, а не их свободным выбором. По мере того как таких групп будет становиться все больше, демократические процедуры превратятся в средство угнетения меньшинства большинством. Примечательно, что религиозные политики начинают в последнее время задумываться о глобальных альянсах: не случайно один из самых отъявленных американских консерваторов призывает к союзу с исламскими радикалами прежде всего потому, что «их отношение к традиционным ценностям делает нас естественными союзниками»***. Все это значит, что распространение (или сохранение) либеральной демократии в обществах, граждане которые строят свою идентичность на этнических или религиозных аффилиациях, крайне сложно, если вообще возможно. Появление больших масс такого рода людей в западных обществах — крайне значимая угроза для демократии и либерализма. * См.: Gore, Al. The Assault on Reason, New York: The Penguin Press, 2007, pp. 5–6, 12, 16. ** Walzer, Michael. Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2004, p. 66. *** D’Souza, Dinesh. The Enemy at Home: The Cultural Left and Its Responsibility for 9/11, New York, London: Doubleday, 2007, p. 276. 46 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? Достаточно ли эффективна современная демократия? Этот вопрос ставится сегодня особенно часто, хотя, на мой взгляд, имеет куда меньшее значение. В его основе лежит экономическую подоплека: утверждается, что современные демократические страны, достигшие еще в индустриальную эпоху высокой степени экономического развития, сегодня стремительно утрачивают конкурентные преимущества на фоне быстро растущих авторитарных хозяйственных гигантов Азии. На мой взгляд, несмотря на алармистские заявления, ситуация не выглядит столь очевидной, причем по целому ряду причин. Во-первых, не следует забывать, что развивающиеся страны сегодня имитируют развитые и выступают нетто-импортерами не только знаний и технологий, но и широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции, что однозначно указывает на преимущества развитых, а не развивающихся, государств. Кроме того, конкурентные преимущества развивающихся стран обусловлены либо их доступными природными богатствами, либо дешевизной рабочей силы, в то время как разрыв в показателях производительности остается огромным — и этот разрыв отнюдь не в пользу новых индустриальных стран. Кроме того, быстрое развитие этих новых игроков на экономической «шахматной доске» стало возможным благодаря западным инвестициям и западным рынкам сбыта; их развитие до сих пор не является в полной мере самодостаточным и вполне устойчивым — и Китай должен быть счастлив, что большинство американских компаний, входя на его рынок, даже не задумывались о стратегии выхода. Но можно ли быть уверенным, что такая мысль никогда не придет в голову их руководителям? Во-вторых, что намного более существенно, западный мир, перешедший в экономике в постиндустриальную эпоху, получил в свое распоряжение гораздо более масштабный и неистощимый источник богатства, чем запасы сырья или развитые цепочки индустриального производства. Сегодня, создавая технологии, применяемые в разных точках планеты, богатые страны сохраняют возможность их совершенствования и развития, тогда как развивающиеся остаются лишь пользователями. Более того; в развитых странах сложилась качественно новая модель воспроизводства: ведь если основным производственным фактором стали личные творческие способности человека, то большая часть потребительских расходов (которые в индустриальном обществе выглядят именно расходами) в новых условиях превращается в инвестиции в человеческий капитал. Впервые в истории становится можно увеличивать инвестиции, не сокращая потребления — и пока, думается, мир еще не ощутил значения этого фактора. 47 Владислав Иноземцев И, наконец, в-третьих, результаты любого подсчета зависят от подхода к измерению. Современный мир оценивает экономический результат в размере валового продукта — категории, разработанной в индустриальную эпоху для исчисления воспроизводимых богатств. Сегодня же значительная часть общественного достояния воплощена в знаниях и социальном капитале. Кроме того, в прежних категориях не могут быть оценены многие факторы, влияющие на качество жизни (а некоторые из них, статистически повышающие валовой внутренний продукт, могут на деле разрушительно влиять на качество жизни). Помимо этого на решения людей все большее влияние оказывают не финансовые показатели, а возможность самореализации и творчества. Все это приводит к ситуации, в которой индикатор ВВП может столь же ошибочно отражать мощь и конкурентоспособность экономики, как, например, численность крестьянства (которая могла использоваться для сравнения мощи той или иной европейской страны в XV–XVII веках, но сегодня уже ни о чем не говорит). В то же время эффективность демократических стран может измеряться масштабом продуцируемых в них идей, их культурным влиянием на остальной мир, и, наконец, самым важным интегральным показателем — путями и масштабами миграции. А их направление сегодня — из развивающихся стран в развитые, а не наоборот. Все это позволяет говорить о том, что развитые демократические державы в наши дни не так уж слабы экономически, что они продолжают задавать стандарты качества жизни и абсолютно доминируют в интеллектуальном и идеологическом поле. Закат эпохи демократий может произойти только как следствие внутреннего кризиса этого политического режима, а не его капитуляции перед внешними соперниками. Особенности современного момента Почему демократия именно сегодня сталкивается с опасными вызовами и почему появляется столько поводов усомниться в ее «живучести»? Я бы выделил три тенденции, которые выглядят весьма тревожными. Во-первых, демократия становится заложником собственной универсальности. На протяжении столетий ее адепты рассматривали этот политический строй не просто как наиболее совершенный (для чего имели все основания), но и как способный распространиться по всей планете и одинаково применимый к любому обществу. Для доказательства этого тезиса использовалось множество приемов (ни один из которых, однако, не является вполне убедительным). Зато маниакальная идея распространения демократии «вширь» привела к эрозии самого демократического стандарта: появление поня- 48 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? тий «нелиберальной», «имитационной» или какой-либо еще, «демократии» свидетельствует о неготовности западных экспертов и политиков жестко делить мир на демократические и недемократические страны. Демократия — это неквантифицируемая категория; она либо есть, либо ее нет. Нельзя быть «немного демократичным»: регистрировать только любимые политические партии и отказывать остальным, правильно считать голоса на одних выборах и фальсифицировать результаты других, и т.д. Но идеологи и практики демократии во второй половине ХХ века сделали ставку на масштаб, а не глубину — и в итоге сегодня только 4 из почти 200 государств мира открыто заявляют о своем недемократическом характере; число стран, которые американская неправительственная организация «Фридом хаус» причисляет к электоральным демократиям, составляет 116; а западных стандартов прав и свобод придерживаются лишь 89 государств. При этом экспансия 1990-х годов, на протяжении которых число электоральных демократий выросло с 76 до 120, обернулась стагнацией и откатом 2000-х, когда оно сократилось со 120 до отмеченных 116-ти*. При этом демократия потеряла свою исключительность — каковая на практике придавала ей больше внутренней силы, чем универсальность в теории. Запад попытался конвертировать эту исключительность в преимущества глобальной демократии — но сегодня видно, что это либо было сделано слишком рано, либо же вообще не могло дать эффекта. Демократическая «закваска» была брошена в огромный чан теста, который она должна была взбродить, но в нынешней ситуации она скорее просто исчезнет в его глубине, чем породит ожидавшийся эффект. Демократия была в большей безопасности, когда оставалась «узким лучом света в темном царстве», чем когда попыталась стать солнцем, светящим всем и каждому. Экспансия заставляет ее подстраиваться под текущую ситуацию, что отнюдь не всегда добавляет ей очков на мировой периферии, но уверенно обесценивает ее у себя дома. Во-вторых, серьезную проблему представляет сформировавшееся в современных западных обществах понятие прав. Как известно, один из величайших памятников демократической мысли, принятый в 1789 году Национальной ассамблеей в Париже, назывался «Декларацией прав человека и гражданина» (D claration des droits de l’Homme et du Citoyen). Сегодня в большинстве документов, касающихся проблемы прав, последнее слово почти никогда не упоминается. Идея прав человека при всем ее огромном гуманистическом потенциале плохо соотносится с демократическими принципами, так как умалчивает об * См.: Freedom in the World 2010: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties (на сайте www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf, посещен 15 июля 2010 года). 49 Владислав Иноземцев обязанностях, вытекающих из статуса гражданина. Демократия предполагает гражданское участие в создании институтов и благ, а права человека скорее акцентированы на приобщении к таковым без дополнительных обязательств. В результате распространения данной доктрины идея равенства наполняется содержанием, которое она никогда не имела в прежних теориях демократии. Идея равенства перестает быть стимулом к борьбе за равенство политического участия, обусловленного соответствующими обязательствами, и становится базой для безапелляционной заявки на перераспределение материальных и социальных благ — в том числе и в пользу тех, кто не внес никакого вклада в благополучие того или иного общества. Демократия попыталась стать космополитичной, но вряд ли это пойдет ей на пользу. В-третьих, за современной демократией скрывается процесс управления обществом, неизмеримо более сложный, чем могли предположить самые великие умы эпохи Просвещения. Значительная часть электората объективно не может необходимым образом ориентироваться в происходящих событиях и в ходе демократического волеизъявления делать осмысленный выбор. Элиты в подобных условиях все более активно занимаются «промыванием мозгов» — благо методы донесения тех или иных установок до граждан стали невиданно изощренными. Как следствие, демократия банализируется и превращается в некий тип охлократии, задачей которого выступает легитимизация определенного политического курса, разработанного элитой. Этот процесс пока имеет не слишком долгую историю, но следующим его этапом (заметным уже сейчас, причем прежде всего в «имитационных» демократиях) окажется профанизация не только избирателей, но и элит, которые их представляют. Сегодняшние «демократические» руководители — и это прекрасно видно прежде всего на примере посткоммунистических стран, в которых элиты не могут указать своим народам привлекательные ориентиры развития, изрекая лишь банальности — скорее следуют устремлениям масс, в то время как великие либералы и демократы прошлого стремились формировать эти идеалы и устремления. Парадоксально, но наиболее успешное за последние несколько десятилетий «предприятие» по распространению демократии реализовал Европейский Союз, которому все кому не лень приписывали и приписывают «демократический дефицит», в то время как политика не испытывающих такого дефицита Соединенных Штатов спровоцировала самую широкую волну разочарования Западом в странах периферии*. * Подробнее см.: Mandelbaum, Michael. Democracy’s Good Name: The Rise and Risks of the World’s Most Popular Form of Government, New York: Public Affairs, 2007; Rifkin, Jeremy. The European Dream. How Europe’s Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream, New York: Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2004. 50 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? Таким образом, в новых условиях теоретикам демократии и практическим политикам нужно осмыслить по крайней мере три проблемы. Первая из них, по всей видимости, будет поставлена и решена: попытки демократизировать мир, популярные на рубеже тысячелетий, будут оставлены. Было бы хорошо, если бы они не были тихо свернуты, но было бы четко заявлено, что демократические страны стремятся сохранить свою идентичность и будут приветствовать распространение демократии за пределами западного мира, но не провоцировать его. Вторая проблема более сложна, так как предполагает возвращение к традиционному пониманию прав — с одной стороны, как чего-то вытекающего из обязанностей, а не предваряющего их, и, с другой стороны, как прав индивида, а не группы. В условиях, когда развитые демократии быстро становятся этнически и национально фрагментированными обществами с высоким уровнем социального обеспечения, сделать это будет весьма непросто. Идеологию мультикультурализма и политкорректности, видимо, нужно будет принести в жертву традиционным либеральным подходам. В противном случае сохранение исконных демократических ценностей выглядит крайне маловероятным. Наконец, третья проблема наиболее сложна — и, на мой взгляд, практически неразрешима. У критической черты Вопреки распространенному мнению о демократии, она большую часть своей истории была не «универсальной», а скорее «эксклюзивной» ценностью. В древних Афинах времен расцвета право голоса имели лишь свободные граждане мужского пола, что теоретически позволяло участвовать в демократическом процессе, по разным оценкам, 8–11% населения. В Великобритании и Соединенных Штатах конца XVIII века этим правом были наделены всего лишь 2–5% жителей; существовали десятки ограничивающих право голоса факторов. В той же Великобритании, родине современной либеральной демократии, с 1832 года право голоса получили все главы семейств, обладавшие недвижимой собственностью, с 1867-го — все главы семейств, кроме жителей сельской местности, с 1884-го — любые главы семейств; только с 1918 года появилось всеобщее избирательное право для мужчин (для женщин сохранялся имущественный ценз), с 1928 года женщины были допущены к урнам наравне с мужчинами и только в 1948 году было отменено т.н. множественное голосование, при котором избиратель мог иметь несколько голосов. В Соединенных Штатах бывшие рабы получили право голоса в 1870 году, женщины — в 1920-м, имущественный ценз был окончательно отменен в 1964-м. Избирательный возраст в этих странах был снижен с 21 до 18 лет соот- 51 Владислав Иноземцев ветственно в 1969 и 1971 годах. Таким образом, то, что мы привыкли считать очевидным признаком демократии — всеобщее избирательное право — в его нынешнем виде существует в наиболее развитых демократических обществах всего 40 лет. Как я уже отмечал, развитие демократического процесса в XIX— XX веках привело к расширению гражданских прав свобод и формированию юридического режима, в рамках которого эти права и свободы стало возможно отстаивать и усовершенствовать. Общество обрело куда большую степень контроля над власть предержащими, чем оно имело ранее. Базовые гражданские права были сформулированы и начали последовательно соблюдаться. В то же время политическая элита дистанцировалась от общества, бюрократия многократно умножилась и стала своего рода закрытым классом. Экономическая и политическая целесообразность начала диктовать решения, которые вряд ли получили бы поддержку большинства, будь они вынесены на голосование. Масштабы навязывания тех или иных позиций через средства массовой информации приобрели беспрецедентный масштаб, равно как и усилия разного рода лоббистских групп. Концептуальное развитие демократической теории двинулось в направлении максимального учета групповой и корпоративной идентичности. В подобных условиях существует серьезный риск перерождения классической демократии либо в охлократию, в которой зомбированные массы будут время от времени делать «единственно правильный» выбор, либо в систему, ориентированную на достижение баланса между требованиями разных групп граждан. И то, и другое, скорее всего, приведет к деградации гражданского общества и попранию прав и свобод — а это разрушит политические и социальные основы современных развитых обществ. Дополнительным фактором риска является быстрое распространение формально-демократических практик по миру, в результате чего множатся различные формы «нелиберальной» демократии, дискредитирующие образ демократии и гражданского общества как таковых. Единственным выходом из сложившейся ситуации мне видится ограничение количественной экспансии демократии и усиление ее «элитистского» элемента. Для того, чтобы развитые общества могли в ходе демократических процедур вырабатывать цели, реально достойные достижения, число субъектов демократического процесса должно быть ограничено. «Волна» демократизации, которая увеличила долю избирателей с 5–10% взрослого населения до почти 100%, и которая принесла с собой все основные институты современного гражданского общества, должна отхлынуть, оставив эти институты в неприкосновенности. Следует пересмотреть не принципы демократического процесса, а его субъектность. Речь идет не о 52 «Универсальная ценность» у «естественного предела»? классической меритократии (о которой в свое время писали Платон, Конфуций и даже Томас Джефферсон и где положение человека во властной иерархии определяется его интеллектуальными или иными заслугами), а скорее о новой версии демократии — более многоступенчатой, чем ныне существующая. Каким образом это может быть осуществлено, сейчас практически невозможно сказать. Однако для меня очевидно, что правом участия в демократическом процессе — в отличие от права быть защищенным законом и права располагать принятыми в либеральном обществе свободами — гражданин не может и не должен наделяться автоматически. Всеобщая электоральная демократия несет в себе парадокс, на который редко обращают внимание: те, кто претендует на занятие выборных постов, проходят своего рода конкурсный отбор, доказывая избирателям свою компетентность и соперничая с другими достойными конкурентами — но при этом те, кто голосуют на выборах, избавлены от такой необходимости, ведь они получили право голоса просто потому, что родились в определенной семье или на определенной территории и достигли совершеннолетия. Продолжающийся эксперимент по всеобщему допуску к голосованию на определенном этапе покажет, что существуют два выхода: либо превращение самих западных стран в «управляемые демократии», чего потребует необходимость эффективного решения разнообразных управленческих задач, но что приведет в конечном счете к краху демократической системы, либо сохранение всего богатства форм демократического процесса, но на «более узкой территории». Демократия — это одна из форм политической организации развитого цивилизованного общества, в которой воплотились и получили развития великие идеи эпохи Просвещения о свободе и равенстве. Демократические идеалы на протяжении двух последних столетий вдохновляли людей на борьбу за справедливое общество, основанное на верховенстве права и гарантиях политических свобод, и предполагающее широкое народное участие в политическом процессе. Сегодня в развитых странах эти цели достигнуты, но практика свидетельствует, что движение на этом не останавливается. В каком направлении оно продолжится — станет ли демократия инструментом «межкультурного диалога», скатится ли она к охлократии, или окажется в той или иной форме «управляемой», будучи подчиненной самостоятельным интересам политической олигархии, сегодня никто не может предсказать. Но мне кажется, что оптимальным было бы сохранение всех тех достижений демократической формы правления, с которыми она сегодня ассоциируется. Для этого следует сохранить важнейшие либеральные основания демократии, которым сегодня угрожают мультикультурализм, популизм и притя- 53 Владислав Иноземцев зания бюрократических элит. Преодоление этих угроз возможно только в случае, если демократия будет переосмыслена как элитарный в хорошем смысле слова проект — каковым, кстати, она и являлась до недавнего времени. На рубеже XX и XXI столетий демократия слишком забежала вперед; если сегодня осуществить ее масштабное переосмыление, можно будет с полным основанием говорить о том, что история вернулась. И это будет поистине новая история. Источники Bell, Daniel. «The Resumption of History in the New Century» in: Bell, Daniel. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2000. D’Souza, Dinesh. The Enemy at Home: The Cultural Left and Its Responsibility for 9/11, New York, London: Doubleday, 2007, p. 276. Freedom in the World 2010: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties (на сайте www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs. pdf). Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man, London, New York: Penguin, 1992. Gore, Al. The Assault on Reason, New York: The Penguin Press, 2007. Kagan, Robert. The Return of History and the End of Dreams, New York: Alfred A. Knopf, 2008. Mandelbaum, Michael. Democracy’s Good Name: The Rise and Risks of the World’s Most Popular Form of Government, New York: Public Affairs, 2007. Putnam, Robert. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000. Rifkin, Jeremy. The European Dream. How Europe’s Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream, New York: Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2004. Shenkman, Rick. Just How Stupid We Are? Facing the Truth About the American Voter, New York: Basic Books, 2008. Walzer, Michael. Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2004. Бауман, Зигмунт. Индивидуализированное общество, пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2002. Закария, Фарид. Будущее свободы, пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004. 54 От агоры к рынку — и куда потом? Зигмунт Бауман, Почетный профессор Университета Лидса (Великобритания) Демократия — это форма жизни агоры, того вече, которое соединяло и разделяло две другие составные части полиса — экклесию и ойкос. В терминологии Аристотеля под ойкосом понималось домашнее хозяйство, внутри которого зарождались и оформлялись частные интересы; под экклесией — общественный совет, состоявший из избранных, назначенных или выбранных жребием магистратов, занятых ведением общих для всех жителей полиса дел, включая вопросы войны и мира, организацию защиты города и выработку правил сосуществования граждан. Происходящая от глагола «kalein» (взывать, собирать), концепция экклесии изначально предполагала наличие агоры — вместилища демократии. В городах-государствах древности агора была вполне реальным местом, куда совет созывал один или несколько раз в месяц всех отцов семейств для обсуждения и решения вопросов, представлявших интерес для каждого, а также для того, чтобы избирать, голосованием или жребием, своих членов. По понятным причинам такая процедура не могла воспроизводиться, если границы полиса раздвигались далеко за пределы его столицы; агора переставала быть той 55 Зигмунт Бауман площадью, на которой от всех без исключения граждан можно было услышать их мнения по важнейшим вопросам. Это, естественно, не значит, что задача, решать которую была призвана агора, как и выполнявшаяся ею функция, потеряли актуальность и могли отныне не приниматься во внимание. Вся история демократии может трактоваться как ряд успешных попыток вдохнуть жизнь в этот концепт и сохранить его позитивный образ после того, как породившая его реальность ушла в историю. Следует даже сказать, что история демократии была движима, направляема и поддерживаема памятью об агоре. Можно и нужно добавить, что сохранение и оживление этой памяти происходило различными путями и принимало многообразные формы; не было и нет какого-то одного средства, которое идеально опосредовало бы диалог между ойкосом и экклесией, и ни одна из возможных моделей их взаимодействия не свободна от недостатков и шероховатостей. И сегодня, более чем две тысячи лет спустя, нам необходимо мыслить в категориях множественности демократий. Задачей агоры (иногда декларировавшейся, но обычно предполагаемой) была и остается постоянная координация «частных» (происходящих из ойкоса) и «общественных» (с которыми имеет дело экклесия) интересов. А ее функцией было и остается обеспечение необходимых условий для такой координации: перевода с языка личных интересов на язык общественных и обратно. Основным же, чего ждали или надеялись получить на агоре, было преобразование частных озабоченностей и стремлений в общественные действия и, наоборот, воплощение общественных забот и проблем в индивидуальные права и обязанности. Поэтому степень демократичности политического режима измеряется успешностью или неудачами, слаженностью или угловатостью этого перевода: иначе говоря, масштабами достижения основной цели, а не, как это часто считают, строгостью соблюдения тех или иных процедур, ошибочно рассматриваемых как достаточное условие демократии. Поскольку присущая античным полисам модель «прямой демократии» с предоставлявшейся ею возможностью на месте определять органичность перевода с языка частного на язык общественного на основании хотя бы числа граждан, своим присутствием и голосами определявшими принятие решений, очевидно неприменима к демократии эпохи модернити (и особенно к «расширенному обществу» — воображаемому и абстрактному целому, выходящему за 56 От агоры к рынку — и куда потом? пределы непосредственного опыта гражданина и возможностей его влияния), современная политическая теория стремилась обнаружить или изобрести дополнительные стандарты измерения демократичности политических режимов: индексы и индикаторы, рационально исчисляемые и объективно отражающие вероятность того, что цели и функции агоры достигаются и исполняются адекватно и эффективно. Наиболее популярным среди этих альтернатив является количественный критерий — доля граждан, участвующих в выборах, которые в представительной демократии заменили реальный процесс выработки людьми политических решений. Эффективность такого «косвенного» участия, однако, впоследствие стала оспариваться, особенно когда народное волеизъявление начало считаться единственным приемлемым источником легитимности власти, — хотя откровенно авторитарные, диктаторские, тоталитарные или тиранические режимы, не терпящие ни общественного несогласия, ни диалога с оппозицией, могли без труда обеспечить явку к избирательным урнам куда большей доли избирателей (и по формальным критериям стать даже более легитимными), чем правительства, уважавшие и защищавшие свободу мнений и их выражения. Неудивительно, что в наше время, когда речь заходит об определяющих характеристиках демократии, на эти свободы обращается все больше внимания, а на электоральную статистику — все меньше. Основываясь на концепции Альфреда Хиршмана о том, что «отказ» и «голос» — две базовые реакции, которые используются потребителями для влияния на маркетинговые стратегии*, часто утверждают, что право гражданина на открытое выражение своего несогласия, на возможность донесения этого несогласия до желаемой аудитории и на право покинуть пределы ненавидимого или отторгаемого им режима — это необходимые условия, соблюдение которых дает политическим режимам право называться демократическими. Как вытекает из подзаголовка его знаменитой книги, Альфред Хиршман помещает отношения между продавцами и клиентами и между государством и гражданами в одну категорию, применяя к ним аналогичные критерии эффективности. Этот подход обосновывался допущением, что политическая и рыночная свободы тесно связаны между собой, что они нуждаются друг в друге, подпитывают и возбуждают друг друга; что экономическая свобода, поддерживающая и стимулирующая хозяйственный рост, представляет собой в конечном счете необходимое условие и важнейшую гаран* См.: Hirschman, Alfred O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1970. 57 Зигмунт Бауман тию политической демократии — в то время как только в рамках демократического режима возможны и борьба за экономические цели, и их достижение. Однако и такое утверждение по меньшей мере неочевидно. Пиночет в Чили, Ли Сын Ман в Южной Корее, Ли Куань Ю в Сингапуре, Чан Кай-Ши на Тайване или нынешние правители Китая — все они были или являются диктаторами (Аристотель сказал бы — тиранами) во всем, за исключением пристойных названий занимаемых ими должностей, но руководили или руководят странами, в которых экономика быстро развивается, а позиции рыночных сил крепнут. Все названные страны не стали бы примерами «экономических чудес», если бы в них не существовало направленной на всемерное хозяйственное развитие «диктатуры государства». И, добавим от себя, в том, что они стали выдающимися образцами таких «чудес», нет ничего случайного и необычного. Вспомним, что так называемое первоначальное накопление капитала неизменно приводит к беспрецедентным и глубинным общественным потрясениям, экспроприации мелкой собственности и классовой поляризации; оно не может не провоцировать потенциально взрывоопасного социального напряжения, которое в интересах нарождающегося предпринимательского сословия должно подавляться мощной и безжалостной диктатурой государства. И я добавил бы, что послевоенные «экономические чудеса» в Японии и Германии в значительной степени могут объясняться присутствием иностранных оккупационных сил, перенявших репрессивные «повадки» прежних политических институтов и неподотчетных народам завоеванных стран. Обойдется ли демократия без социальных прав? Одним из самых явных досадных изъянов любого демократического режима является противоречие между формальной всеобщностью демократических прав (вытекающей из равенства всех граждан) и отнюдь не универсальными возможностями эффективно ими пользоваться — иными словами, разрыв между юридическим статусом гражданина и его практическими возможностями; разрыв, который, как принято полагать, индивиды должны преодолевать, используя свои собственные возможности, умения и навыки — которых на деле им может недоставать. Лорд Беверидж, которому мы обязаны разработкой плана послевоенного британского «государства благосостояния», был либера- 58 От агоры к рынку — и куда потом? лом, а не социалистом. Но он был убежден, что предлагавшееся им всеобщее, коллективно установленное страхование для каждого является неизбежным следствием и неотъемлемым дополнениeм либерального концепта индивидуальной свободы, равно как и необходимой предпосылкой либеральной демократии. Знаменитое объявление Франклином Рузвельтом «войны» страху* основывалось на том же допущении, что и пионерское исследование масштабов и причин человеческой бедности и деградации, проведенное Бенджамином Раунтри**. Свобода выбора предполагает несчетные и неисчислимые риски неудачи; многие люди сочли бы ряд из них недопустимыми, опасаясь не справиться с их возможными последствиями. Для большинства граждан либеральный принцип свободы выбора останется бестелесным призраком и несбыточной мечтой, eсли только страх перед неудачей не будет смягчен гарантиями со стороны сообщества, которым они смогли бы доверять на случай личных неудач или ударов судьбы. Если демократические права и свободы, дополняющие эти права, декларированы в теории, но недостижимы на практике, боль безнадежности будет усилена унижением и беспомощностью; повседневно проверяемая способность противостоять жизненным вызовам и есть та мастерская, где закаляется или испаряется самоуважение индивидов. Не следует ждать помощи в беде или отчаянии от государства, которое не является и не собирается быть социальным. Без предоставления всем и каждому социальных прав значительная и, по всей вероятности, растущая часть населения осознает, что имеющиеся политические права бесполезны и не заслуживают внимания. В то время как политические права нужны для утверждения социальных, социальные права абсолютно необходимы для того, чтобы политические стали реальными и действенными. Обе эти категории прав нуждаются друг в друге; их выживание возможно только в единстве. Социальное государство — высшее воплощение идеи сообщества в эпоху модернити, ее реинкарнация в современной форме «воображаемого целого», скрепленного взаимными зависимостью, приверженностью, лояльностью, солидарностью и доверием. * Здесь упомянута знаменитая речь Ф. Д. Рузвельта, произнесенная им 6 января 1941 года, в которой президент говорил о «четырех свободах», которыми должны пользоваться все люди на Земле; в их числе называлась и «свобода от страха» за свою жизнь и материальные условия существования. — Прим. перев. ** Бенджамин Сибом Раунтри (1871—1954) — британский социолог и общественный деятель, автор книг «Человеческие потребности труда» (1918), «Бедность и прогресс» (1941) и «Бедность и государство благосостояния» (1951) — Прим. перев. 59 Зигмунт Бауман Социальные права — это осязаемые, «данные нам в ощущениях» подтверждения этой воображаемой коммунальной общности (то есть «рамки», куда «вписаны» демократические институты), которая низводит абстрактные понятия до приземленной реальности, укореняет воображение в почве повседневной жизни. Эти права подтверждают реальность и значение межличностного доверия, равно как и доверия той сети институтов, которая провозглашает и утверждает коллективную солидарность. Около шестидесяти лет назад Томас Маршалл воплотил популярные в те годы настроения в максиму, которая, по его мнению, отражала и обязана была и в будущем отражать универсальный закон человеческого прогресса: «от прав собственности — к политическим правам, а от них — к правам социальным»*. В его представлениях политическая свобода выступала неизбежным следствием экономической, и в свою очередь естественным источником социальных прав; тем самым политическая свобода гарантировала экономические и социальные права для всех членов общества. С каждым последовательным расширением политических прав, считал Томас Маршалл, агора станет все более всеобъемлющей; все больше групп, ранее не слышимых, получат право голоса; все меньше останется причин для неравенства и поводов для дискриминации. Но четверть века спустя Джон К. Гэлбрейт отметил другую закономерность, способную серьезно скорректировать, если не вообще опровергнуть, прогнозы Томаса Маршалла: по мере того как универсализация социальных прав начинает приносить плоды, все больше и больше носителей прав политических начинают использовать их для всемерной поддержки частной инициативы со всеми вытекающими отсюда последствиями: растущим, а не снижающимся, неравенством доходов и уровнем благосостояния, а также все более различными жизненными перспективами**. Джон К. Гэлбрейт приписывал эту тенденцию резко изменившимся мировоззрению и жизненной философии формирующегося в обществе «довольного большинства». Твердо держась в седле и привычно ощущая себя в мире больших рисков и еще больших возможностей, это новое большинство не испытывало потребности в «государстве благосостояния», которое представлялось ему скорее клеткой, чем обеспечивающей безопасность сетью, скорее ограничителем, чем источником возмож* См.: Marshall, Thomas H. Citizenship and Social Class, and Other Essays, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1950. ** См. ряд его работ, в особенности: Galbraith, John K. Culture of Contentment, Boston (Ma.): Houghton Mifflin, 1992. 60 От агоры к рынку — и куда потом? ностей. Оно считало такой тип государства дорогим излишеством, до использования которого его представители, вполне уверенные в собственных силах, не собирались опускаться и от которого они ничего не ждали. Для членов этого большинства бедняки более не были «резервной армией труда», и трата средств на поддержание их в форме казалась бездумным выбрасыванием денег на ветер. Широкая, не признающая деления на правых и левых, поддержка социального государства, казавшаяся Томасу Маршаллу естественным финалом «исторической логики развития человеческих прав», начала съеживаться, раскалываться и исчезать с нарастающей быстротой. И действительно, «государство благосостояния» никогда не стало бы реальностью, если бы буржуа не считали поддержание «резервной армии труда» в относительно «боеспособном» состоянии прибыльным и полезным делом. Но как его формирование было в свое время универсальным требованием, так же стремление отказаться от него теперь носит не менее всеобщий характер. Сегодня социальные программы повсеместно недофинансируются и сворачиваются — и все потому, что источником получения капиталистами их прибыли становится эксплуатация уже не фабричных рабочих, а потребителей. Потому, что бедняки, чтобы быть нужными новому типу капитала, должны иметь наличные доллары или кредитные карты, а не получать социальные блага. Более чем что либо еще, «государство благосостояния» (которое правильнее называть социальным государством, смещая акцент с распределения материальных выгод на порожденные ощущением общности мотивы данного распределения) было инструментом, изобретенным и внедренным для противостояния сегодняшнему стремлению «приватизировать» (и тем самым утверждать индивидуализированные императивы рыночного общества потребления, навязывающие людям конкуренцию с себе подобными) — стремлению, которое в конечном счете ведет к ослаблению и краху сетей межличностного общения и социальных основ человеческой солидарности. Такая «приватизация» перекладывает тяжелую задачу борьбы с порожденными обществом проблемами и (вероятно) их преодоления на плечи отдельных индивидов, в большинстве не обладающих для этого необходимыми ресурсами и возможностями, в то время как «социальное государство» ставило своей задачей защитить всех и каждого от набирающей обороты безжалостной (и нравственно разрушительной) «войны всех против всех». 61 Зигмунт Бауман Государство является «социальным», если оно проводит в жизнь принцип поддержанного всем сообществом страхования граждан от могущих случиться с ними неприятностей и их последствий. Именно такой принцип — декларированный, применяемый на деле и вызывающий к себе полное доверие — и превращает «воображаемое общество» в «настоящее целое», в сообщество, которое можно ощутить и прочувствовать. Только это сообщество заменяет (пользуясь словами Джона Данна) постоянно продуцирующий недоверие и подозрительность «строй эгоизма» порождающим уверенность и солидарность «строем равенства». И именно этот принцип и делает политическую систему демократичной: он возвышает членов общества до положения граждан; делает их не только акционерами (stock-holders), но и совладельцами (stake-holders) политического целого; не только бенефициарами, но и акторами, ответственными за создание и справедливое распределение богатства и благ. Его применение может защитить (и защищает) людей от тройного проклятия замалчивания, исключенности и унижения — но что еще более важно, может стать мощным источником социальной солидарности, которая превращает абстрактное «общество» в коммунальное благо. Демократии: время беды Однако в последнее время мы движемся (в развитых странах — по собственной инициативе, а в развивающихся — под давлением глобальных рынков, МВФ и Всемирного банка) в противоположном направлении: общности и сообщества практически исчезают. Пределы индивидуальной свободы раздвигаются, а функции, совсем недавно считавшиеся прерогативой государства, переуступаются в «сферу ответственности» индивидов. Власти же применяют принцип коллективного страхования все более неохотно и со все большими исключениями, оставляя граждан один на один со все возрастающим числом угроз. В такой ситуации у людей остается немного поводов посещать агору — и еще меньше причин участвовать в ее делах. Предполагается, что оставленные социальным попечением люди найдут индивидуальные выходы из общественных по своей природе проблем и воспользуются этими выходами сугубо частным образом, надеясь лишь на собственные умения и возможности. Подобные установки вводят людей во взаимную конкуренцию, разрушая коммунальную солидарность, которая начинает выглядеть по меньшей мере бессмыс- 62 От агоры к рынку — и куда потом? ленной, а зачастую и контрпродуктивной. Без вмешательства со стороны общественных институтов подобная «приказная индивидуализация» делает неизбежной (а также самоподдерживающейся и постоянно ускоряющейся) дифференциацию индивидуальных шансов и возможностей. Результаты этого легко можно было предсказать раньше и несложно увидеть в наши дни. В Великобритании, например, доля 1% наиболее состоятельных граждан в национальном доходе с 1982-го по 2008 год выросла с 6,5 до 13%, а высшие менеджеры компаний, входящих в расчет лондонского биржевого индекса FTSE-100, получают сегодня в 133 раза больше их среднего работника, хотя тридцать лет назад этот показатель не превышал 20 раз. Но история этим не заканчивается. Благодаря стремительно развивающимся — как по своему охвату, так и оперативности, — сетям обмена информацией, каждый человек — женщина или мужчина, взрослый или ребенок, богатый или бедный — сегодня приглашается (а правильнее будет сказать — принуждается) к постоянному сравнению своей судьбы и своего положения с судьбой и статусом всех остальных, и в особенности с непомерным потреблением разного рода культовых фигур публичного пространства, и к измерению значимости жизненно важных ценностей роскошеством тех или иных брендов. По мере того как реальные перспективы удовлетворяющей человека жизни все более дифференцируются, представления о желаемых и в принципе достижимых перспективах универсализируются — и движущей силой поведения индивидов становится стремление угнаться не за соседями, а за знаменитостями: супермоделями, футболистами или эстрадными звездами. Как недавно отметил Оливер Джеймс, по-настоящему ядовитая смесь возникает из «соединения нереалистичных желаний с предположениями об их выполнимости»; однако значительная часть средних британцев «полагает, что они могут стать богатыми и знаменитыми… что каждый способен превратиться в нового Билла Гейтса, — и это несмотря на то, что реальное положение среднего гражданина ухудшается с 1970-х годов»*. Сегодня государство все менее способно (и все меньше стремится) обещать своим подданным обеспеченное существование («свободу от страха», если воспользоваться знаменитой формулой Франклина Рузвельта). Во все большей степени занятие достойного и устойчивого положения становится делом частным, что пред* James, Oliver. «Selfish Capitalism is Bad for Our Mental Health» in: The Guardian, 2008, January 3. 63 Зигмунт Бауман полагает нарастание рисков и неуверенности. Страх, который демократическая система и ее высшее воплощение — социальное государство обещали сделать достоянием истории, возвращается многократно усиленным. Большинство из нас, от низов общества до самой его верхушки, сегодня ощущают опасность, более или менее явную, оказаться оттесненными на обочину, быть исключенными из привычных социальных процессов, не справиться с теми или иными вызовами, стать третируемыми и унижаемыми… Политики, как и предприниматели, готовы и даже стремятся составить на этих всепроникающих страхах дополнительный капитал. Продавцы ширпотреба рекламируют свои товары чуть ли не как полную гарантию от существующих проблем; слова «защита» и «безопасность» стали самыми популярными рекламными слоганами. Популистские движения и политики также подхватывают лозунги, которые заброшены разрушающимся социальным государством и от которых отказались уходящие в историю традиционные левые социал-демократы. Но в отличие от социального государства они заинтересованы не в сокращении, а в наращивании масштаба угроз — особенно таких, от которых нацию легко и непринужденно спасают герои телеэкрана. Проблема, однако, состоит в том, что угрозы, наиболее часто описываемые в кино и масс-медиа, — это отнюдь не те опасности, которые порождают растерянность и нервозность большинства наших сограждан. И насколько бы государство ни было успешным в противостоянии этим если не выдуманным, то разрекламированным угрозам, глубинные источники беспокойства, постоянно преследующей человека неопределенности — то есть страхов, которые укоренены в капиталистическом образе жизни, остаются нетронутыми и их влияние на общество лишь растет. Избиратели, которых волнует проблема безопасности, оценивают политиков — как находящихся у власти, так и оппозиционных, по решительности, которую они проявляют в ее «обеспечении». Политики же соревнуются в обещаниях радикальнее бороться с любыми угрозами — реальными или мнимыми, но в первую очередь теми, которые являются или кажутся близкими и могущими быть эффективно нейтрализованными. «Форца Италия» или Лига Севера выигрывают выборы, обещая трудолюбивым ломбардийцам не перераспределять собираемые налоги в пользу ленивых калабрийцев, а также защищать и тех, и других от нежеланных мигрантов, излишне настоятельно напоминающих добропорядочным гражданам о неизменной шаткости их собственного социального положения. Но 64 От агоры к рынку — и куда потом? наиболее устрашающие угрозы нормальной жизни и человеческому достоинству — а значит, и демократическому обществу — остаются незатронутыми. Таковы причины того, что риски, которым ныне подвергаются демократии, лишь отчасти обусловлены действиями правительств, всеми силами стремящихся обосновать свое право управлять обществом и навязывать дисциплину, играя мускулами и демонстрируя приверженность жесткой позиции перед лицом неисчислимых физических угроз (реальных или воображаемых), но в то же время не обращая внимания на обеспечение своим подданным достойного места в обществе, защиты их от бедности, унижений и исключенности. Я говорю «отчасти», потому что другая причина, по которой демократия находится сегодня «в зоне риска», может быть названа «утомленностью свободой», проявляющейся в той апатии, с которой большинство из нас наблюдает за процессом последовательного ограничения с большим трудом завоеванных гражданских свобод и прав. Лоран Бонелли недавно даже предложил термин «либертицид» для обозначения возникающей комбинации безграничных амбиций государств и робости, безразличия граждан. Недавно я наблюдал по всем каналам телевидения, как тысячи пассажиров застряли в британских аэропортах из-за очередного припадка «террористической истерии», когда полеты отменялись в связи с якобы поступившей информацией о «существующей опасности» проноса на борт «жидкой взрывчатки», по информации спецслужб появившейся у террористов. Эти тысячи людей лишились каникул, не попали на важные бизнес-встречи, не смогли пообщаться с родственниками и друзьями. Но никто из них не возмущался! Никто даже не возражал против толкания в очередях, обнюхивания собаками и обыскиваний, которые в обычных условиях наверняка были бы сочтены унизительными. Напротив, многие радовались: «Мы еще никогда не чувствовали себя в такой безопасности!», «Мы благодарны властям, которые прикладывают столько усилий для нейтрализации террористических угроз!». Пример того, к чему все это может привести, дают нам Гуантанамо и Абу-Грейб, в которых (а, возможно, также и в десятках других подобных мест) заключенные годами секретно содержатся без предъявления внятного обвинения; появление же информации об этом рождает рассеянные протесты, но не массовое негодование и уж никак не эффективные контрмеры. Мы, называющие себя 65 Зигмунт Бауман «демократическим большинством», убеждаем себя, что такие нарушения прав человека касаются «их», а не «нас» — людей иного рода (хотя между нами говоря, они ведь не совсем, не вполне же человеки…), и что эти ужасы никак не коснутся нас самих — людей правильных и поступающих должным образом. Мы напрочь забыли урок, который пришлось в свое время выучить Мартину Ниймёллеру, лютеранскому пастору, замученному гитлеровцами. Сначала, когда нацисты принялись хватать коммунистов, он молчал, так как не был членом компартии. Когда стали арестовывать профсоюзных активистов, он радовался, что не принадлежал и к ним. Тем более он не возражал против депортаций евреев, так как евреем не был. И когда дошла очередь до католиков, он молчал, потому что был протестантом. Когда же стали забирать его самого, уже не было никого, кто мог бы возвысить голос хоть в чью-либо защиту… В небезопасном мире безопасность — это название, цель и приз великой игры, в которую вовлечены практически все. Это ценность, которая если и не в теории, то на практике затмевает и отталкивает в сторону все прочие ценности — даже те, что считаются столь дорогими «нам» и столь противными «им» и потому преподносятся как главная причина «их» ненависти к «нам» и повод к тому, что «нам» необходимо победить и наказать «их». В мире, столь небезопасном как наш, личные свободы, право высказываться и действовать по своему усмотрению, право на неприкосновенность частной жизни и на получение полной и правдивой информации — все то, что мы ассоциируем с демократией и за что сегодня идем воевать, должны быть отменены или приостановлены. По крайней мере, такова официальная версия, вполне подтверждаемая действиями правительств и властей. Возможна ли демократия в отдельной стране Истина, которой мы можем пренебрегать, лишь ущемляя демократические практики, состоит в следующем: мы не в состоянии эффективно защитить наши свободы, если попытаемся отгородиться от остального мира и сконцентрируемся только на том, что происходит у нас дома. Класс — это лишь одна из исторических форм неравенства, а национальное государство — только одна из исторических «рамок» общественной жизни. Поэтому преодоление «национального классового общества» не означает «конца общественного неравенства». Сегодня настало время расширить трактовку неравенства за преде- 66 От агоры к рынку — и куда потом? лы анализа подушевых доходов и обратиться к связи бедности и социальной нестабильности, коррупции и новых видов угроз, унижения и жажды борьбы за собственное достоинство. Иначе говоря, к связи поведенческих и мыслительных стереотипов с дезинтегрирующими общество факторами, которые в эпоху глобализации становятся все более важными и опасными. Я полагаю, что за современной «глобализацией неравенства» скрывается повторение (в этот раз на планетарном уровне) процесса, который Макс Вебер отметил еще на заре современного капитализма и который он назвал «отделением бизнеса от домашнего хозяйства». Он имел в виду освобождение предпринимательского интереса от всех форм этического контроля (в то время происходившего из семьи и через нее — из местного сообщества) и последовавшее обретение таким интересом «иммунитета» к любым ценностям, отличным от стремления к максимизации прибыли. Зная историю, мы можем относиться к происходящим ныне событиям как к повторению, пусть и в куда больших масштабах, процесса двухсотлетней давности. Последствия его также выглядят знакомыми: быстрое распространение нищеты и появление своего рода «ничейных зон», свободных от правил и законов. Прежняя эмансипация предпринимательского класса вызвала к жизни долгую и фанатичную борьбу возникавшего государства за завоевание, подчинение, колонизацию и в итоге «нормативное регулирование» этой «территории произвола»; за формирование институциональных основ «воображаемых сообществ» (тех самых «наций»); за контроль над жизненно важными социальными функциями, до того выполнявшимися домохозяйствами, местными сообществами, гильдиями и прочими структурами, принуждающими бизнес подчиниться общественному интересу. Сегодня мы наблюдаем второй акт драмы под названием «Освобождение предпринимателя»; но на этот раз само национальное государство выступает воплощением местничества и традиционализма, которое должно быть отринуто как мешающий развитию и экономическому прогрессу досадный пережиток прошлого. Суть этого нового раскола заключается, как и в первом случае, в разрыве между властью и политикой. В ходе попыток ограничить социальные и культурные ущербы, нанесенные первым расколом (высшей точкой этих усилий стало «Славное тридцатилетие», последовавшее за окончанием Второй мировой войны, современному государству удалось создать политические и управленческие институты, позволявшие соединять власть (Macht, Herrschaft) и политику в 67 Зигмунт Бауман рамках территориально определенного союза нации и государства. Этот «брак» (а точнее, сожительство в национальном государстве) власти и политики завершается на наших глазах разводом, вследствие чего власть отчасти «испаряется» в киберпространство, отчасти переходит в руки внеполитических и безжалостных рыночных сил, а отчасти насильно «передается» в ведение насильно «освобожденных» индивидов. Последствия этого процесса, напоминающие уже известные, отличаются неизмеримо большими масштабами. Сегодня на горизонте не заметно ничего, похожего на «суверенное национальное государство», способное предложить (не то чтобы реализовать) проект обуздания пока все еще исключительно негативистской (разрушающей прежние структуры и институты и ничего не предлагающей взамен) глобализации, готовое усмирить хаотичные силы и вернуть их под этически выверенный и политически институционализированный контроль. В итоге мы имеем ныне свободную от политики власть и лишенную власти политику. Власть уже глобальна, а политика все еще удручающе локализована. Национальные государства превратились в подобие местных полицейских округов, а заодно мусорок, в которых предпринимаются попытки «переработать» порождаемые на глобальном уровне риски и проблемы. Все это позволяет предположить, что на глобализированной планете, где положение любого человека в любой точке мира влияет на положение любого другого и в то же время определяется им, невозможно обеспечить и защитить демократию «в отдельно взятой стране» или даже в некоей группе стран. Судьбы демократии и свободы в каждой стране решаются на глобальном уровне; и только на этом уровне их выживание может быть обеспечено на долгосрочную перспективу. Сегодня ни одна держава — сколь бы богатой ресурсами, мощной в военном отношении, прямолинейной и бескомпромиссной она ни была — не в состоянии защитить свои ценности в пределах собственных границ, если останется глухой и безразличной к мечтам и стремлениям остальных жителей Земли. Однако именно этим и отличаемся мы, европейцы, когда стремимся сохранить и преумножить наши богатства за счет обделенной «периферии». Можно привести несколько примеров. Всего сорок лет назад доходы 5% самых обеспеченных землян превышали доходы самых бедных 5% в 30 раз, пятнадцать лет назад — уже в 60 раз, а к 2002 году — в 114. Как подчеркивает Жак Аттали, половина мировой торговли и более половины прямых иностранных инвестиций обогаща- 68 От агоры к рынку — и куда потом? ют всего 22 страны, в которых живет 14% населения мира, тогда как на 49 беднейших стран с их 11% населения приходится 0,5% глобального валового продукта, что равняется совокупному доходу трех богатейших людей на планете*. 90% всего мирового богатства сосредоточены в руках 1% землян. Жители Европы и США ежегодно тратят 17 миллиардов долларов на корма для домашних животных, тогда как всего 19 миллиардов долларов в год, по оценке экспертов, достаточно для обеспечения минимальным набором продуктов всех голодающих на Земле. Как напоминал министрам торговли стран—членов ВТО незадолго до их встречи в Канкуне Джозеф Стиглиц, «субсидии, выделяемые ЕС на каждую европейскую корову, составляют те самые 2 доллара в день, на которые влачат жалкое существование миллиарды людей», а 4 миллиарда долларов, направляемые 25 тысячам американских хлопкоробов, «загоняют в нищету более 10 миллионов африканских крестьян»**. Если стремиться возродить и упрочить узы человеческой солидарности на уровнях, выходящих за пределы сферы ответственности национальных государств, следует сосредоточить усилия на институциональных рамках формирования новых представлений о должном и новой политической воли. Европейский Союз нацелен на построение зародыша этой институциональной структуры и идет в соответствующем направлении (хотя медленно и с массой остановок), с трудом преодолевая сопротивление национальных государств и их нежелание расставаться с любыми функциями, когда-то отнесенными к исключительной компетенции суверенных правительств. Нынешнее направление движения сложно определить однозначно, а прогнозировать его будущие виражи еще более сложно — и даже, быть может, безответственно и неразумно. Мы ощущаем, догадываемся и предполагаем, что следует делать. Но мы не можем знать, какую конкретную форму примут шаги, направленные на изменение ситуации. Можно лишь быть уверенным в том, что они окажутся отличными от всех прежних рецептов, приемлемых в эпоху формирования наций и всевластия национальных государств. Да иначе и быть не может — ведь все политические институты, которыми мы сегодня располагаем, создавались по меркам территориально ограниченного суверенитета, и они противятся распространению на планетарный, наднациональный уровень (к тому же глобальные институты не могут строиться по * См.: Attali, Jacques. La Voie humaine. Pour une nouvelle social-d mocratie, Paris: Fayard, 2004. ** См.: Stiglitz, Joseph. «Trade Imbalances» in: The Guardian, 2003, August 15. 69 Зигмунт Бауман образу национальных, только лишь увеличенных в масштабе, — они вынуждены быть качественно отличными от них). Если бы Аристотеля пригласили на заседание современного парламента в Лондон, Париж или Вашингтон, он, возможно, высоко оценил бы их процедурные правила и признал бы положительное влияние принимаемых решений на тех, кого они так или иначе затрагивают, но был бы шокирован, если бы ему попытались объяснить, что это и есть «демократия в действии», — ведь он, автор самого этого понятия, совершенно иначе представлял себе «демократический полис»… Мы, разумеется, понимаем, что переход от «международных» организаций и действий к «универсальным» — имеющим глобальный, планетарный, общечеловеческий охват — институтам ознаменует собой качественное, а не количественное изменение. И это заставляет с волнением задумываться о том, насколько нынешние акторы «международной политики» — например Организация Объединенных Наций, которая с момента создания была призвана оберегать и защищать неделимый и нерушимый суверенитет странчленов, — могут содействовать возникновению глобальной политии. Способны ли обладающие обязательной силой планетарные законы зависеть от постоянно пересматривающегося согласия отдельных членов «международного сообщества» соблюдать ранее достигнутые договоренности? *** Сегодня есть все основания полагать, что в глобализированном мире, где положение любого человека в любой точке планеты влияет на положение любого другого и в то же время определяется им, свобода и демократия не могут быть гарантированы «в виде исключения» — в отдельно взятой стране или в некоей группе стран. На ранней стадии модернити интеграция человечества происходила на уровне наций; чтобы довести этот процесс до завершающей стадии, нужно сделать еще один, куда более масштабный и амбициозный шаг — вывести эту интеграцию на общечеловеческий уровень, вовлекши в нее всех жителей планеты. Сколь бы сложной и нереалистичной ни казалась эта задача, она неотложна и неизбежна, потому что построение планетарного общества — дело наших совместных жизней или общей для всех смерти. И важнейшим элементом реализации этой цели является построение глобального эквивалента «социального государства», увенчавшего 70 От агоры к рынку — и куда потом? собой предшествующую фазу истории, а именно — превращение разрозненных племен и общностей в национальное государство. В некоем смысле возрождение глубинной сути социалистической утопии — принципа коллективных ответственности и защиты от бедности и несчастий — станет неизбежным, на этот раз на глобальном уровне. В условиях, когда глобализация потоков товаров и капиталов стала свершившимся фактом, ни одно правительство в отдельности или даже в коалиции с некоторыми другими не в состоянии контролировать собственную экономику; а без этого немыслимы ни дальнейшее функционирование «социального государства», ни искоренение бедности и неравенства даже внутри национальных границ. Маловероятно и то, что правительства, действуя поодиночке или группами, сумеют ограничить излишнее потребление и довести местные налоги до уровней, требуемых для финансирования социальной сферы даже в ее нынешних масштабах, не говоря уже о необходимом ее расширении и развитии. Вмешательства в анархические действия рыночных сил крайне необходимы, но, даже если таковые будут предприняты, будут ли они результатом государственного вмешательства? Легче предположить, что они явятся следствием неправительственных, не зависимых от органов государственной власти и даже идущих вразрез с их намерениями, усилий. Бедность и неравенство — да и все остальные негативные «побочные следствия» глобальной свободнорыночной системы — не преодолеть без консолидированных усилий. Ни одно территориальное государство не может счесть себя свободным от глобальной взаимозависимости. «Социальное государство» более нежизнеспособно; лишь «социальная планета» может в будущем исполнять функции, которые оно пыталось, с разной степенью успешности, реализовывать в прошлом. И я уверен, что вовсе не территориально суверенные государства станут той силой, что создаст «социальную планету», — скорее этого добьются внетерриториальные и космополитичные неправительственные организации и ассоциации, которым удастся протянуть руку помощи попавшим в беду людям через головы и без помощи местных «суверенных» правительств. Перевод В. Иноземцева, авторизованный З. Бауманом 71 Зигмунт Бауман Источники Attali, Jacques. La Voie humaine. Pour une nouvelle social-d mocratie, Paris: Fayard, 2004. Galbraith, John K. Culture of Contentment, Boston (Ma.): Houghton Mifflin, 1992. Hirschman, Alfred O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1970. James, Oliver. «Selfish Capitalism is Bad for Our Mental Health» in: The Guardian, 2008, January 3. Marshall, Thomas H. Citizenship and Social Class, and Other Essays, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1950. Stiglitz, Joseph. «Trade Imbalances» in: The Guardian, 2003, August 15. 72 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача Марк Урнов, Доктор политических наук, научный руководитель факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ (Россия) В современных условиях крайне важным представляется достаточно узкий аспект демократического транзита — угроза формированию стабильной демократии со стороны такого элемента культуры переходных обществ, как авторитарный синдром. Говоря о демократическом транзите, я имею в виду переход общества от авторитарного режима любого типа* к либеральной демократии, т. е. к политической системе, базирующейся на институционализированной и публичной конкуренции политических элит за голоса избирателей с целью обретения власти и влияния. Йозеф Шумпетер, замечу, описывал либеральную демократию как «соревнование за лидерство» или «свободную конкуренцию за голоса свободных граждан»**. С той или иной степенью выраженности авторитарный синдром присутствует в культурах практически всех стран, вступающих на путь демократизации, и делает этот путь весьма тернистым. Между тем в теории демократического транзита проблема культуры вообще * В самом общем плане такие режимы можно разделить на «традиционные» авторитарные и тоталитарные (см., например: Хантингтон, Самюэль. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века, Москва: РОССПЭН, 2003, сс. 22–23). ** См.: Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy, London: George Allen & Unwin, 1944, p. 271. 73 Марк Урнов и авторитарного синдрома в частности находятся на периферии исследовательских интересов — во всяком случае по сравнению с экономическими и социально-структурными проблемами. Такая ситуация выглядит довольно странной. В теориях социальных систем и теориях поведения* культуре традиционно отводится большая самостоятельная роль. В теориях тоталитаризма и демократии дело обстоит примерно так же: в том, что касается тоталитаризма, — начиная с работ Эриха Фромма «Бегство от свободы» (1941) и Теодора Aдорно «Авторитарная личность» (1950); а в том, что касается демократии, — по меньшей мере со времени выхода в свет книги Габриэля Алмонда и Сиднея Вирбы «Гражданская культура» (1963). В транзитологии картина иная. В ряде системных исследований транзита культурная проблематика вообще не рассматривается**. Есть работы, в которых культура трактуется преимущественно как функция от экономических факторов, социальной структуры и т. д.***, причем такой подход является, судя по всему, доминантным. Порой он встречается в более сложной и адекватной версии, согласно которой культура, хотя и находится под мощным влиянием экономических и социальных процессов, в состоянии, тем не менее, определять специфику вновь возникающих политических институтов****, способствовать разрушению неустойчивых демократических структур***** и т. д. Однако взгляд на культуру как на самостоятельный фактор транзита, способный сыграть решающую роль в судьбе демократизации, * См., например: Парсонс, Талкотт. О социальных системах, Москва: Академический проект, 2002; Мертон, Робеpт. Социальная теория и социальная структура, Москва: АСТ, 2006; Макклелланд, Дэвид. Мотивация человека, СПб.: Питер, 2007; Триандис, Гарри. Культура и социальное поведение, Москва: ФОРУМ, 2007; Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Newbury Park (Ca.), London, New Delhi: Sage Publications, 1984; Schwartz, Shalom H. and Bilsky, W. «Toward A Universal Psychological Structure of Human Values» in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 53, No. 3, 1987, pp. 550–562 и др.) ** См., например: Przeworski, Adam and Limongi, Fernando. «Modernization: Theories and Facts» in: World Politics, Vol. 49, No. 2, 1997, pp. 155–183; Пшеворский, Адам. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке, Москва: РОССПЭН, 2000. *** См.: Lipset, Seymour M. «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy» in: American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, 1959, pp. 69–105; Olson, Mancur. «Rapid Growth as a Destabilizing Force» in: Journal of Economic History, Vol. 23, No. 4, 1963, pp. 529–552; Zakaria, Fareed. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York, London: W.W.Norton & Co., 2003 (рус. пер.: Закария, Фарид. Будущее свободы, перевод с англ. под редакцией и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004), и др. **** См.: Inglehart, Ronald and Baker, W. E. «Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values» in: American Sociological Review, 2000, Vol. 65, No. 1, pp. 19–51; Inglehart, Ronald. «How Solid Is Mass Support for Democracy: And How Can We Measure It?» in: Political Science and Politics, Vol. 36, No. 1, 2003, pp. 51–57. ***** См.: Хантингтон, Самюэль. Третья волна. 74 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача к числу популярных не относится. Наиболее известным сторонником данной позиции является Р. Даль*, но и он в анализе становления полиархий уделяет культуре куда меньше внимания, чем социальной структуре, политическим институтам и экономическим процессам, да и говорит о ней с крайней осторожностью. На мой взгляд, культуру, экономику, технологию, социальную структуру и политику целесообразно рассматривать как систему относительно самостоятельных, но взаимосвязанных и влияющих друг на друга факторов перехода к демократии. В каждый данный момент времени культура играет роль ограничителя спектра возможных решений и действий индивидов, групп и общества в целом. Здесь, говоря о культуре, я имею в виду множество существующих в данном обществе культур личности (personal cultures), каждая из которых представляет собой констелляцию субъективных смыслов, ценностей, установок и стереотипов**. В отличие от культуры в обычном понимании (или collective culture), которая представляет собой совокупность нормативных представлений и служит объектом периодических апелляций, культура личная является непосредственным регулятором поведения. Пользуясь фрейдистскими аналогиями, можно сказать, что роль коллективной культуры схожа с ролью super ego, тогда как роль личной культуры — с ролью ego. По понятным причинам совокупность имеющихся в обществе культур личности отличается от коллективной культуры большей гетерогенностью и «волатильностью» содержания, т. е. способностью к достаточно быстрым изменениям иерархии ценностей и смыслов***. * См.: Даль, Роберт. Демократия и ее критики, Москва: РОССПЭН, 2003, с. 399. ** О концепции личной культуры cм.: Fischer, Ronald. «Congruence and Functions of Personal and Cultural Values: Do My Values Reflect My Culture’s Values?» in: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 32, Issue 11, 2006, pp. 1419–1431; Valsiner, Jaan. «Personal culture and conduct of value» in: Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, Vol. 1, No. 2, 2007, pр. 59–65; Рождественский, Юрий. Введение в культуроведение, Москва: Добросвет, 2000. *** Для построения теоретической модели волатильности культуры личности можно воспользоваться часто используемой в теории идентичности концепцией устойчивости (salience). Шелдон Страйкер и Питер Барк определяют устойчивость идентичности как «[степень] вероятности того, что идентичность проявит себя в разнообразных ситуациях, или в действиях различных людей в сходной ситуации» (cм.: Stryker, Sheldon and Burke, Peter. «The Past, Present, and Future of an Identity Theory» in: Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 4, 2000, p. 286). Согласно Ричарду Серпу и Шелдону Страйкеру, изменения в степени устойчивости идентичности происходят тогда, когда людям не удается найти или использовать возможности действовать образом, приписываемым их высокоустойчивыми идентичностями (см. Serpe, Richard and Stryker, Sheldon. «The Construction of Self and Reconstruction of Social Relationships» in: Lawer, Edward and Markovsky, Barry (eds). Advances in Group Processes: A Research Annual 1987, Greenwich (Ct.): JAI Press, 1987, pp. 41–66 — цит. по: Stryker, Sheldon and Burke, Peter. The Past, Present, and Future of an Identity Theory, рр. 286–287). 75 Марк Урнов Волатильность культуры особенно выражена в переходных обществах — замечу, что такие часто наблюдаемые в них явления, как подъемы ресентимента* или, напротив, всплески «всенародного признания» новых ценностей и отторжения прошлого, принадлежат сфере личной культуры. Позволю себе теперь несколько уточняющих замечаний относительно авторитарного синдрома. За шестьдесят лет, прошедших с публикации уже упоминавшейся книги Tеодора Адорно, концепция авторитарного синдрома претерпела существенные изменения. От сугубо психологической его интерпретации наука перешла к культурологической трактовке, включающей не только типические психологические черты авторитарной личности, но и ценности, идеологические предпочтения, а также образцы бытового и политического поведения. Сформировались представления не только о правом, но и о левом авторитаризме**. Многочисленные эмпирические исследования авторитарного синдрома дают основание полагать, что он относится к числу феноменов, базовые компоненты которых в высокой степени инвариантны относительно культурных контекстов, в которых они проявляются***. Не рассматривая здесь всю совокупность компонентов авторитарного синдрома, остановлюсь лишь на характерном для него отношении к власти. Судя по всему, это отношение свойственно — хотя и с разной степенью выраженности — культурам подавляющего большинства стран с авторитарными режимами: Китаю, СССР, диктатурам, возникшим в бывших европейских колониях, нацистской Германии, фашистской Италии, франкистской Испании и современным левым диктатурам Латинской Америки. Максимально упрощая ситуацию, авторитарное отношение к власти можно свести к готовности воспринимать носителей власти как «отцов» или «старших братьев», т. е. людей, обладающих безусловным авторитетом и «более равных», чем все остальные. И это * Макс Шелер называл ресентимент «самоотравлением души» и понимал под ним устойчивое переживание, возникающее в результате «чрезвычайного напряжения между импульсом мести, ненависти, зависти и их проявлениями, с одной стороны, и бессилием, с другой» (Шелер, Макс. Ресентимент в структуре моралей, СПб.: Наука, 1999, сс. 13, 49). По Шелеру, «почва, на которой произрастает ресентимент, — это, прежде всего, те, кто <…> понапрасну прельстился авторитетом и нарвался на его жало» (там же, с. 18). ** Одним из первых феномен левого авторитаризма описал Ганс Айзенк (см., например: Айзенк, Ганс. Парадоксы психологии, Москва: Эксмо, 2009, сс. 246–286). *** Возможно, что это объясняется культурной инвариантностью как психологического механизма активации авторитарного синдрома (внутренне мотивированного или внешне индуцированного отказа от индивидуальной свободы и личной ответственности в пользу традиционных или псевдотрадиционных отношений патерналистского типа), так и организационных условий удовлетворения потребности в отказе от свободы. 76 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача предельно мягкая формула; развиваясь и усиливаясь, она может преобразоваться во взгляд на властителей как на людей лучшей породы, вождей нации, мирового пролетариата или всего человечества, представителей Божества на Земле и т. д.* Очевидно, что при авторитарном отношении к власти трудно смотреть на нее как на институт нанятых менеджеров и тем более испытывать столь важное для либеральной культуры «здоровое презрение к власти»**. Понятно и то, что, чем интенсивнее такое отношение, тем хуже оно уживается с концепциями разделения властей, сдержек и противовесов, прозрачности власти, институциализации конфликтов, политической конкуренции и, конечно же, политического участия. Все эти концепции будут, скорее всего, восприниматься либо как идеи, лишенные смысла и потому ненужные, либо как антиценности. Куда более свойственны авторитарной культуре представления о естественности концентрации власти в одних руках; о благотворности единства общества и власти, вождей и народа; о недопустимости публичных конфликтов***; о необходимости каждому делать свое дело: властителям — властвовать, рядовым гражданам — честно работать и пр. Описывая авторитарный синдром в терминах ценностей и представлений, не следует забывать, что они являются лишь вершиной культурного айсберга. Подводная его часть — связанные с ценностями и представлениями стереотипы поведения, трудно вербализуемые, но очень важные для понимания механизмов влияния культуры на формирование политических институтов. Угроза авторитарного синдрома для демократического транзита может проявляться по-разному и зависит, во-первых, от его интенсивности и распространенности в обществе и, во-вторых, от характера демократического транзита. Первое обстоятельство очевидно, а второе нуждается в некоторых пояснениях. Демократизация (переход от авторитарного режима к демократическому) представляет собой процесс значительного усложне* В качестве иллюстрации к сказанному предоставляю читателю возможность самому оценить специфику отношения к Ленину со стороны крестьян, несших зимой 1924 года мимо только что построенного мавзолея плакат «Могила Ленина — колыбель человечества». ** См.: Хайек, Фридрих. Дорога к рабству, Москва: Новое издательство, 2005, с. 152. *** Напомню здесь приведенное Александром Герценом в «Былом и думах» колоритное высказывание генерала Дубельта, характеризующее авторитарный режим XIX века, отличающийся от многих современных нам авторитарных режимов заметно большим лоском и уверенностью в своей легитимности: «У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас правление отеческое, все делается как можно келейнее» (Герцен, Александр. Былое и думы. Кн. 1, Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1962, сс. 382–383). 77 Марк Урнов ния социальной системы и потому всегда чревата культурным конфликтом между инновационно ориентированными и консервативными частями общества. Этот конфликт с необходимостью предполагает вовлеченность элиты. Модели демократизации исключительно снизу или исключительно сверху реальности не соответствуют. Речь всегда идет о взаимодействии элиты и остального общества. Но «требования» к состоянию культуры элиты и общества в целом, нужному для успеха демократизации, варьируются в очень широких пределах в зависимости от типа транзита и конкретных условий. Самым «культурно непритязательным» является транзит, который Фарид Закария называет «непреднамеренным политическим последствием»* экономической либерализации. Такая либерализация начинается по прагматическим, далеким от идеалов либеральной демократии соображениям политиков, но провоцирует взаимодействие культуры, социальной структуры и политических институтов. Постепенно это взаимодействие может привести (или не привести) к благоприятным для демократизации изменениям в культуре общества. При таком варианте распространенность авторитарного синдрома на старте экономической либерализации не несет политической угрозы грядущей демократизации. Институты политической демократии появляются не сразу, а после нескольких десятилетий привыкания общества к новым условиям жизни, т. е. по мере того, как авторитарные ценности, представления и стереотипы теряют (если теряют) доминантные позиции в культуре общества. Элите также необязательно с самого начала обладать системой последовательных либеральных ценностей и представлений: принятие либеральных инноваций в экономике на ценностном уровне не требуется (достаточно того, чтобы они входили в спектр культурно допустимых действий). Так что элиты могут «позволить себе роскошь» медленной либерализации собственного сознания. Именно культурная непритязательность является, как мне кажется, одной из главных причин, по которым данный тип демократизации чаще всего оказывается успешным. Принципиально иная ситуация складывается в случае, когда демократизация начинается без экономической «увертюры», непосредственно с преобразования политических институтов. Здесь культура общества на старте демократического транзита характеризуется как минимум относительной неразвитостью либеральных ценностей и представлений, а как максимум — глубоко укоренным * См.: Закария, Фарид. Будущее свободы, с. 82. 78 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача и сильным авторитарным синдромом. В последнем случае для успешного начала демократизации необходима хотя бы умеренная тенденция его ослабления. От реформаторской элиты для успеха демократизации в этом случае требуется очень многое: пропитанность либеральными ценностями, умение договариваться с идеологическими противниками, резистентность к весьма вероятной волне общественного ресентимента, знание факторов, активирующих этот ресентимент, и умение его смягчать. Словом, элите нужны мудрость, знания и опыт, который ей, по большей части, получить неоткуда. Неудивительно, что вероятность поражения демократических сил в случае такой демократизации очень высока. Разрушение еще не окрепших демократических институтов здесь может происходить по-разному. Оно может совершаться медленно, исподволь — путем постепенной инфильтрации авторитарных практик в ткань повседневного функционирования формально демократических институтов. Речь идет о расширении использования различных ограничителей политической конкуренции, свободы СМИ и независимости судебной системы, о распространении авторитарной стилистики отношений внутри политических институтов и между гражданами и властью, о вытеснении или уходе из властных структур людей, не соответствующих этой стилистике, о росте популярности политиков, провозглашающих авторитарные лозунги и пр. Результатом является перерождение институтов демократии в институты авторитарной власти. Спустя некоторое время происшедшие изменения закрепляются законами и иными нормативными актами. Собственно говоря, как раз это и произошло в России в 2000-е годы*. Демонтаж демократических институтов может происходить порой и достаточно быстро — в результате активно или пассивно поддержанного населением переворота или в результате демократического наделения властью людей, провозгласивших борьбу с «псевдодемократическим хаосом» целью своей политической программы. Однако какими бы темпами ни совершался откат от демократии, необходимым условием его успешного осуществления является всплеск того, что в политической науке со времен Макса Шелера называют ресентиментом и что в политической прак* Подробнее о трансформации политической системы России в этот период см., например: Урнов, Марк и Касамара, Валерия. Современная Россия: Вызовы и ответы. Москва: ФАП «Экспертиза», 2005, сс. 25–44; Урнов, Марк. «Трансформация политического режима в России: содержание и возможные последствия» в: Красин, Юрий (ред.) Демократия и федерализм в России, Москва: РОССПЭН, 2007, сс. 87–103. 79 Марк Урнов тике Испании конца 1970-х годов, а затем в Латинской Америке начали обозначать как «el desencanto»*. В обществах, находящихся в процессе демократического транзита, основным содержанием ресентимента является активация авторитарного синдрома, т. е. его усиление по с равнению с моментом начала демократизации, и превращение некоторых или всех его элементов в доминантные характеристики культуры. Иными словами, речь идет о всплеске отторжения демократии на ценностном, когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Ресентимент той или иной силы является почти универсальной чертой демократического транзита. Подъем ресентимента наблюдался в подавляющем большинстве стран, захваченных «третьей волной» демократизации, включая и те, в которых первые шаги демократического транзита были встречены приливом энтузиазма населения (СССР, Испания, Португалия и др.). Причин для активации авторитарного синдрома может быть очень много: крушение иллюзий и надежд, неэффективность власти, рост социального неравенства, коррупция, ухудшение материальных и статусных характеристик жизни, разрушение привычной ткани повседневного бытия в сочетании с необходимостью приспосабливаться к новым, незнакомым и более сложным условиям и т. д. Процессом, с помощью которого все эти обстоятельства активируют авторитарный синдром, является рост недовольства ситуацией. По механизму запуска недовольства большая часть рассматриваемых обстоятельств может быть отнесена к категории фрустраторов, т. е. препятствий на пути достижения цели, вызывающих желание обойти или преодолеть препятствие. В обществах с относительно неразвитой культурой эпохи модернити — а таковыми было большинство стран, входивших в демократический транзит с начала ХХ века по настоящее время, — роль мощного фрустратора может сыграть экономический рост. Фрустрационный эффект экономического роста в таких обществах порождается двумя факторами. Один из них — это усиление социальной зависти на фоне роста неравенства, порождаемого позитивной экономической динамикой. Это явление можно наблюдать не только в переходных обществах, но и в обществах с устойчивой модернистской, и даже постмодернистской культурами. Другой фактор специфичен для обществ, начинающих модернизацию, — речь идет о склонности к химерическим притязаниям**, которая обусловлена характерной для этих обществ неразвитостью типа * См.: Хантингтон, Самюэль. Третья волна, с. 275–277. ** Этот термин ввела французский социолог Ф. Робайе в 1957 году (см.: Robaye, Francine. Niveaux d’aspiration et d’expectation, Paris: Presses Universitaires de France, 1957). 80 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача поведения, ориентированного на личные достижения, и прежде всего такого его компонента, как реалистическое целеполагание*. В динамике склонность к химерическим притязаниям проявляется в том, что в периоды экономических подъемов, по мере роста успешности (например, уровня доходов), уровень притязаний увеличивается намного быстрее уровня рациональных ожиданий. Растущий разрыв между желаемым и возможным** порождает фрустрацию и как следствие — агрессивность и недовольство. Между тем в условиях экономического спада в рассматриваемых сообществах происходит резкое снижение уровня притязаний, разрыв между ним и уровнем ожиданий сокращается и фрустрация ослабляется. Этим данные сообщества отличаются от сообществ с развитой модернистской и даже постмодернистской культурами, в которых экономический рост действует как фактор снижения фрустрации, а экономический спад ее провоцирует***. * О структуре поведения, которое ориентировано на личные достижения см.: Урнов, Марк. Эмоции в политическом поведении, Москва: Аспект Пресс, 2008. О реалистическом целеполагании см.: Runciman, W. Garry. Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England, Aldershot: Gregg Revivals, 1993, p. 27; Левин, Курт. Разрешение социальных конфликтов, СПб.: Речь, 2000, с. 253; Маслоу, Абрахам. Мотивация и личность, СПб.: Евразия, 1999, с. 73. О связи реалистического целеполагания с уровнем зрелости ориентированной на достижения мотивации см.: Atkinson, John W. «Motivational Determinants of Risk-taking Behavior» in: Psychological Review, Vol. 64, No. 6, Part 1, 1957, pp. 359–372). ** Руководствуясь сугубо теоретическими соображениями, обращаю внимание, что речь идет о разрыве между желаемым и возможным, а не между желаемым и имеющимся. Дело в том, что объяснение роста общественной агрессивности увеличением несоответствия между «тем, что я хочу», и «тем, что мне удалось получить», характерно для большинства известных политико-психологических моделей агрессивности (см., например: Davies, James. «Towards a Theory of Revolution» in: American Sociological Review, Vol. 27, No. 1, 1962, pp. 5–19; Gurr, Ted. Why Men Rebel, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1970; Deutsch, Morton. «Field Theory in Social Psychology» in: Lindzey, Gardner and Aronson, Elliott (eds) The Handbook of Social Psychology, 2nd ed., Vol. 1, London: Addison—Wesley, 1968, pp. 412–487). Однако такое объяснение агрессивности имплицитно предполагает слишком примитивную поведенческую модель homo politicus. В частности, постулируется, что homo politicus склонен к агрессии в любой ситуации существенного расхождения между желаемым и имеющимся, вне зависимости от того, существуют или нет препятствия на пути достижения желаемого. Кроме того, это объяснение противоречит принятому в психологии пониманию фрустрации и приводит к смешению концепций фрустрации и относительной депривации. Взгляд на динамику агрессивности как на функцию от разрыва между «тем, что я хочу» и «тем, что я считаю возможным достичь», этих недостатков лишен (подробнее см.: Урнов, Марк. Эмоции в политическом поведении, Москва: Аспект Пресс, 2008). *** Нарастание фрустрированности общества в условиях экономического роста и затухание фрустрации в период кризиса в России подробно описано в: Урнов, Марк. Эмоции в политическом поведении, Москва: Аспект Пресс, 2008. Вот несколько примеров других стран, где на сравнительно ранних стадиях модернизации наблюдалось нарастание фрустрации и социальной напряженности на фоне экономического роста: Греция 1950–1960-х годов, Испания 1960-х годов, Бразилия конца 1960-х — начала 1970-х годов, Тайвань и Южная Корея 1960– 1980-х годов, Иран и Китай 1980-х годов (Хантингтон, Самюэль. Третья волна, сс. 82–84). 81 Марк Урнов Как мы говорили, волны ресентимента свойственны подавляющему большинству переходных обществ, но сила таких волн существенно различается от страны к стране. Помимо прочего, эти различия связаны с наличием или, напротив, отсутствием в культуре страны компонентов, обладающих антиресентиментным эффектом. К числу таких компонентов относится идентификация с сообществом успешных демократий. Влияние этого фактора хорошо прослеживается в странах Восточной Европы и Балтии. Чувство принадлежности к демократическому Западу с разной степенью интенсивности проявлялось там в течение всего времени господства тоталитарных режимов, а в период развала советской империи оказалось среди доминантных элементов культуры. Ощущение идентичности с Западом и стремление институционально закрепить эту идентичность были для восточноевропейских стран одним из главных мотиваторов демократизации. Вряд ли будет ошибкой утверждать, что стремление воссоединиться с Западом было для них столь же мощным фактором демократизации, как и желание восстановить национальную независимость. По мере развертывания процессов транзита и возникновения связанных с ними проблем, ориентация на Запад в значительной мере смягчила в этих странах ресентимент и блокировала возможность авторитарного реванша. В Советском Союзе и постсоветской России ориентация на Запад также играла и играет роль блокиратора авторитарного синдрома. Согласно большинству социологических опросов, в российском массовом сознании «западничество» тесно связано с ориентацией на демократические ценности, тогда как славянофильство, евразийство и иные формы противопоставления России Западу являются коррелятом компонентов авторитарного синдрома. Однако распространенность западничества в России значительно ниже, чем в Восточной Европе, и несколько иного качества — значительная часть тех, кто ориентирован на Запад, видит Россию не столько частью Запада, сколько его партнером. Относительная слабость западничества в российской культуре объясняется тем, что тут ему традиционно противостоит великодержавность — стремление видеть свою страну не столько равноправной частью какого-либо сообщества, сколько самостоятельным мировым игроком, которого боятся и потому уважают* и который в состоянии навязать свою волю другим. * В моем исследовании 2004 года «Синдром радикального авторитаризма в российском массовом сознании» около 60% опрошенных россиян согласилось с утверждением «Россию должны бояться, только тогда ее будут уважать» (Урнов, Марк и Касамара, Валерия. Современная Россия: Вызовы и ответы, с. 54). 82 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача Великодержавность является устойчивым компонентом российской идентичности в течение по меньшей мере двухсот лет*. В XIX веке в российской культуре сформировалась достаточно четкая связь между великодержавностью и антизападничеством, причем в исторической динамике интенсивность антизападничества как дополняющего великодержавность элемента устойчиво возрастала. В советский период она достигла максимума, и попытка Михаила Горбачева гармонизировать эти две составляющие российской культуры, как известно, закончилась неудачей. В культуре современной России положительная зависимость между великодержавностью и антизападничеством сохраняется. Так что сегодня, как и прежде, в российской культуре прозападные ориентации и великодержавность играют друг с другом в «игру с нулевой суммой» — чем шире распространена великодержавность, тем меньше популярность западничества, и наоборот. Неслучайно наблюдаемый сегодня в России рост великодержавных настроений** несет с собой усиление антизападничества. По данным Института социологии РАН, в 1995–2007 годах доля опрошенных россиян, позитивно воспринимающих упоминание о США, снизилась с 77 до 37%, а удельный вес тех, у кого это упоминание вызывало неприязнь, возросло с 9 до 40%. Ухудшился в России и образ Западной Европы: в течение 2002–2007 годов среднее количество упоминаемых респондентами негативных характеристик Западной Европы существенно выросло — с 37 до 45%. Лидерами роста среди негативных характеристик были: «угнетение» — прирост с 19 до 34%; «угроза» — с 43 до 57%; «слабость» — с 12 до 25%; «моральный упадок» — с 33 до 45% и «кризис» — с 14 до 24%***. Наличие в культуре элементов, способных смягчить ресентимент, заметно облегчает реформаторской элите процесс демократического транзита. Если же таких элементов нет или они слабы, демократической элите следует задуматься о создании механизмов его смягчения — в * В ХХ веке в России было всего два сравнительно коротких периода (примерно по десять лет каждый), когда идея великодержавности популярностью не пользовалась: с 1917 года по середину 1920-х годов и с середину 1980-х по середину 1990-х годов. Эти две волны «атипичных» настроений были порождены разными причинами и по-разному проявлялись в политической практике, но в обоих случаях они сменялись мощными приливами великодержавности и национализма. ** Косвенным признаком силы этих настроений является практическое отсутствие в российском массовом и элитном сознании здорового чувства самоиронии по поводу всеобщей озабоченности величием страны. В результате повседневные проявления великодержавного пафоса приобретают порой комичные формы — вроде появления на прилавках копченой колбасы под названием «Имперская». *** См.: Российская идентичность в социологическом измерении, Москва, 2007. 83 Марк Урнов частности, о развертывании системы мер по трансформации авторитарной культуры в культуру демократическую (об особой роли направленного формирования ценностей и стереотипов поведения для развития и функционирования демократии писали еще Монтескье и Токвиль — не употребляя, разумеется, таких слов)*. Много лет спустя, в 1944 году, о необходимости системных усилий по преобразованию культуры, сформированной в Германии нацистским режимом, писал один из самых блестящих психологов ХХ века Курт Левин**. Полагаю, что минимальный пакет мер по культурному «перепрограммированию» переходного общества должен включать следующее: — направленное разрушение мифов, ценностей, представлений и стереотипов авторитарной культуры и содействие распространению либеральной культуры с помощью электронных СМИ, интернета, структур среднего и высшего образования («либеральная прививка» обществу); — массовое обучение демократическому управлению представителей всех уровней власти (его Левин считал первоочередной мерой в системе усилий по переходу от тоталитарной к демократической культуре***); — государственная поддержка развития структур гражданского общества и любых других демократических практик общественной жизни; — государственная политика, направленная на повышение (или, как минимум, поддержание) социального статуса общественных групп, оказывающих наибольшее влияние на культурную трансформацию (учителя, преподаватели вузов, художественная и научная интеллигенция, журналисты) и максимально широкое привлечение представителей этих групп к сотрудничеству с властью. Разумеется, перечисленные меры не гарантируют отсутствия волны ресентимента, однако уменьшить ее силу они вполне могут. * Первый говорил, что «ни одно правление не нуждается в такой степени в помощи воспитания, как республиканское правление» (Монтескье, Шарль Луи, барон де Секонда. О духе законов. Москва: Мысль, 1999, с. 39). Второй писал, что «важнейшими из обязанностей, налагаемых в наши дни на тех, кто управляет обществом», является «обучать людей демократии, возрождать, насколько это возможно, демократические идеалы, очищать нравы, регулировать демократические движения, постепенно приобщать граждан к делам управления государством, избавляя их от неопытности в этих вопросах…». Если этого не происходит, то демократия — как это было во Франции в период революции — оказывается «предоставлена власти диких инстинктов» (Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке, Москва: Прогресс, 1992, с. 30). ** См.: Левин, Курт. Разрешение социальных конфликтов, сс. 160–196. *** См.: Там же, с. 171. 84 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача Недооценка важности, а то и отрицание самой идеи перепрограммирования культуры характерны для многих реформаторов-либералов*. Идеологически это связано с характерным для либерального мировоззрения негативизмом по отношению к любым формам государственного вторжения в сферу индивидуального выбора. Прагматическим основанием этой позиции служит упоминавшийся взгляд на культуру как на функцию экономических и социально-структурных переменных. Одним из распространенных сегодня проявлений этого взгляда является утверждение, что развитие среднего класса представляет собой наилучшую гарантию необратимости демократических преобразований. Многочисленные замечания о том, что средний класс может обладать различными системами ценностей и что в зависимости от системы ценностей он в состоянии с одинаковым успехом быть опорой как демократического, так и тоталитарного режима**, в расчет, как правило, не принимаются. Чем бы ни объяснялась недооценка культурного фактора демократизации, она, как правило, не остается безнаказанной. А потому не могу не согласиться с Левином, утверждавшим, что «демократический лидер, который хочет изменить групповую атмосферу на демократическую, должен обладать властью и должен использовать ее для активного переобучения» и что «демократический принцип толерантности к окружающим имеет одно существенное ограничение: не менее необходимой является “демократическая нетерпимость к нетерпимым”»***. Если говорить о содержательных аспектах перенастройки культуры на демократический лад, то следует иметь в виду, что ее объектом является не авторитарная культура в чистом виде, а культура переходного типа, то есть культура далеко не целостная, в которой элементы авторитарного синдрома находятся в порой причудливых сочетаниях с чужеродными для него элементами. К наиболее часто встречающимся и опасным химерам культуры переходных обществ относится сочетание крайних форм индивидуализма с не менее крайними патерналистскими ожиданиями от государства. На обыденном языке этот странный гибрид индивидуалистических и коллективистских начал можно * Этим они отличаются от реформаторов тоталитарных. Последние очень высоко ценят роль культуры в обеспечении устойчивости политического режима и сразу же после получения или захвата власти начинают проводить в жизнь тот или иной вариант «культурной революции». ** Подробнее см.: Lipset, Seymour M. Political Man. The Social Basis of Politics, Baltimore (Md.): The Johns Hopkins University Press, 1981, pp. 127–179. *** Левин, Курт. Разрешение социальных конфликтов, сс. 170, 162. 85 Марк Урнов было бы выразить следующим образом: я имею право делать то, что мне хочется, у меня нет обязательств ни перед обществом, ни перед государством — зато общество и государство обязаны обеспечить мое благополучие. Этот «индивидуалистический патернализм» несовместим ни со зрелой авторитарной, ни со зрелой демократической культурой, однако его легко обнаружить в обществах с разлагающимся или, наоборот, становящимся авторитарным режимом левого толка, а также в обществах, освободившихся от левого авторитарного режима, но еще на завершивших демократический транзит. Он был распространен в СССР на излете коммунистического режима и преобладает сегодня в постсоветской России*. В той или иной степени характерен он и для бывших советских республик, и для бывших социалистических стран Восточной Европы, и для современной Венесуэлы. Чем более распространен «индивидуалистический патернализм» в обществе, находящемся в процессе демократизации, тем драматичнее встает перед обществом альтернатива: отказ от упрощенных представлений о правах индивида и социальной роли государства и создание эффективной рыночной экономики и стабильной демократической политической системы или возврат к авторитарному режиму, куда более коррумпированному и значительно менее эффективному, чем режим, существовавший до попытки демократизации. Ответ на вопрос о том, сколько неудачных попыток демократизации в состоянии пережить страна, прежде чем распадется, во многом зависит от состояния ее культуры. Источники Atkinson, John W. «Motivational Determinants of Risk-taking Behavior»” in: Psychological Review, Vol. 64, No. 6, Part 1, 1957. Davies, James. «Towards a Theory of Revolution» in: American Sociological Review, 1962, Vol. 27, No. 1. * Еще раз сошлюсь на свое исследование 2004 года. В нем, выбирая между позициями «Государство обязано гарантировать каждому приличную работу и достойный уровень жизни» и «Государство должно заботиться о благосостоянии только тех, кто действительно не может работать (старики, дети, инвалиды)», 68% опрошенных предпочли первую позицию, 28% — вторую и 4% затруднились ответить. Отмечу, что взгляд на государство как на защитника и покровителя вполне может сочетаться с глубоким недоверием к нему. В этом же исследовании 72% российских респондентов согласились с утверждением, что «большинство чиновников в России — это воры» и примерно столько же опрошенных (75%) заявили, что «такие ключевые отрасли, как электроэнергетика, угольная промышленность, нефтяная промышленность и железные дороги должны принадлежать государству» (Урнов, Марк и Касамара, Валерия. Современная Россия: Вызовы и ответы, сс. 56, 62). 86 Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача Deutsch, Morton. «Field Theory in Social Psychology» in: Lindzey, Gardner and Aronson, Elliott (eds) The Handbook of Social Psychology, 2nd ed., Vol. 1, London: Addison-Wesley, 1968. Fischer, Ronald. «Congruence and Functions of Personal and Cultural Values: Do My Values Reflect My Culture’s Values?» in: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 32, Issue 11, 2006. Gurr, Ted. Why Men Rebel, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1970. Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Newbury Park (Ca.), London, New Delhi: Sage Publications, 1984. Inglehart, Ronald. «How Solid Is Mass Support for Democracy: And How Can We Measure It?» in: Political Science and Politics, Vol. 36, No. 1, 2003. Inglehart, Ronald and Baker, W. E. «Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values» in: American Sociological Review, 2000, Vol. 65, No. 1. Lipset, Seymour M. Political Man. The Social Basis of Politics, Baltimore (Md.): The Johns Hopkins Univ. Press, 1981. Lipset, Seymour M. «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy» in: American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, 1959. Olson, Mancur. «Rapid Growth as a Destabilizing Force» in: Journal of Economic History, Vol. 23, No 4, 1963. Przeworski, Adam and Limongi, Fernando. «Modernization: Theories and Facts» in: World Politics, Vol. 49, No. 2, 1997. Robaye, Francine. Niveaux d’aspiration et d’expectation, Paris: Presses Universitaires de France, 1957. Runciman, W. Garry. Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England, Aldershot: Gregg Revivals, 1993. Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy, London: George Allen & Unwin, 1944. Schwartz, Shalom H. and Bilsky, W. «Toward A Universal Psychological Structure of Human Values» in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 53, No. 3, 1987. Serpe, Richard and Stryker, Sheldon. «The Construction of Self and Reconstruction of Social Relationships» in: Lawer, Edward and Markovsky, Barry (eds). Advances in Group Processes: A Research Annual 1987, Greenwich (Ct.): JAI Press, 1987. Stryker, Sheldon and Burke, Peter. «The Past, Present, and Future of an Identity Theory» in: Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 4, 2000. Valsiner, Jaan. «Personal culture and conduct of value» in: Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, Vol. 1, No. 2, 2007. 87 Марк Урнов Айзенк, Ганс. Парадоксы психологии, Москва: Эксмо, 2009. Герцен, Александр. Былое и думы. Кн. 1, Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1962. Даль, Роберт. Демократия и ее критики, Москва: РОССПЭН, 2003. Закария, Фарид. Будущее свободы, Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004. Левин, Курт. Разрешение социальных конфликтов, СПб.: Речь, 2000. Макклелланд, Дэвид. Мотивация человека, СПб.: Питер, 2007. Маслоу, Абрахам. Мотивация и личность, СПб.: Евразия, 1999. Мертон, Робеpт. Социальная теория и социальная структура, Москва: АСТ, 2006. Монтескье, Шарль Луи, барон де Секонда. О духе законов. Москва: Мысль, 1999. Парсонс, Талкотт. О социальных системах, Москва: Академический проект, 2002. Пшеворски, Адам. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке, Москва: РОССПЭН, 2000. Рождественский, Юрий. Введение в культуроведение, Москва: Добросвет, 2000. Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке, Москва: Прогресс, 1992. Триандис, Гарри. Культура и социальное поведение, Москва: Форум, 2007. Урнов, Марк. «Трансформация политического режима в России: содержание и возможные последствия» в: Красин, Юрий (ред.) Демократия и федерализм в России, Москва: РОССПЭН, 2007. Урнов, Марк. Эмоции в политическом поведении, Москва: Аспект Пресс, 2008. Урнов, Марк и Касамара, Валерия. Современная Россия: Вызовы и ответы. Москва: ФАП «Экспертиза», 2005. Хайек, Фридрих. Дорога к рабству, Москва: Новое издательство, 2005. Хантингтон, Самюэль. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века, Москва: РОССПЭН, 2003. Шелер, Макс. Ресентимент в структуре моралей, СПб.: Наука, 1999. 88 Часть вторая Практика демократизации и ее особенности От демократии XIX века к демократии XXI-го: каков следующий шаг? Алексей Миллер, Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета (Россия) Для того чтобы оценить современные перспективы демократии вообще, и в посткоммунистических странах Европы в частности, полезно взглянуть на эту проблему с исторической перспективы. История демократии эпохи модернити, связанная с концепцией нации, которая формировалась и развивалась в XVIII и XIX веках, по историческим меркам является довольно короткой. Как и всякая политическая система и идеология, демократия этого типа, разумеется, позаботилась о выстраивании глубокой линии преемственности — вплоть до греческих полисов. Однако у демократии эпохи модернити ненамного больше общего с демократией древнегреческих полисов, чем у коммунистических режимов ХХ столетия с коммунизмом древнехристианских общин. Между тем две заметно отличающиеся модели утверждения нации в качестве рамки для демократической формы политического представительства можно обозначить как британскую и французскую. Вне географической Европы развитие нации-государства как политической формы демократии эпохи модернити связано прежде всего с влиянием Британской и Французской империй. В их метрополиях в XVIII и XIX веках сформировались нации-государства, и каждая из империй была весьма активна в экспорте собственных 91 Алексей Миллер демократических моделей, причем во многом этот экспорт основывался на комбинации «жесткой» и «мягкой» силы Британской и Французской империй. Кто-то не без сарказма заметил, что Англия не покидала своих колоний, без того чтобы не оставить им неработающую конституцию. А историю экспорта Кодекса Наполеона с помощью не только привлекательности идей Декларации прав человека и гражданина, но и гвардейских штыков знает каждый школьник. До Первой мировой войны демократия на европейском континенте так и не стала стабильной системой. Франция в XIX столетии пережила как минимум пять тяжелых политических кризисов. Относительно успешное функционирование представительных институтов в некоторых странах во второй половине XIX века было обусловлено прежде всего наличием дополнительных стабилизирующих институтов и/или центров политического влияния. Это могли быть даже традиционные институты — как, например, монархия и императорский двор в Австро-Венгрии, которые компенсировали дефекты парламентской системы империи, сформированной после 1867 года. Вообще, так называемый феномен «бонапартизма», характерный не только для Франции времен Наполеона III, но и для бисмарковской Пруссии, следует рассматривать как часть процесса становления парламентской системы, а не только как ее извращение (монархия может выполнять относительно схожие функции и сегодня, как, например, в Испании). Это могли быть неформальные, часто закрытые «клубы» или ложи, которые принимали политические решения там, где демократические институты не справлялись (такие механизмы во многих демократических системах действуют до сих пор — как, например, в США*). Версальская система создала после Первой мировой войны целый ряд новых государств и предъявила им определенные требования по демократическому политическому устройству и поведению — в частности по обращению с меньшинствами. Последнее было особенно важно в условиях создания наций-государств на пространстве распавшихся континентальных империй, которое очень мало подходило для реализации подобных проектов. Проблема исключения и подавления меньшинств уже тогда стала для новых стран Восточной Европы родовой травмой демократии. На Балканах послевоенные договоры, особенно Локарнский, впервые санкционировали с международно-правовой стороны массовые перемещения населения, * Примером достаточно очевидного вмешательства таких формально внесистемных, но, по сути, критически важных для функционирования системы центров силы является то, как был разрешен кризис с определением исхода выборов в соревновании Джорджа Буша-мл и Альберта Гора. 92 От демократии XIX века к демократии XXI-го… которые вполне можно назвать депортациями по этническому и религиозному признакам, по сути, сделав их инструментом создания наций-государств. Это со всей очевидностью подтвердило, что демократия начала ХХ века не умела эффективно решать проблему культурно инаковых меньшинств методом неассимилирующего включения. Впрочем, опыт более ранних демократий, в том числе французской, британской и американской, также опирался на механизмы жесткого исключения меньшинств по расовому признаку. Этот же механизм вновь сработал на посткоммунистическом пространстве в самых разных сценариях — от югославского и грузинского вариантов этнической гражданской войны и принудительных миграций, через молдавский вариант скоротечного силового конфликта, приведшего к исключению Приднестровья из молдавской политической системы*, до мирного недопущения к гражданским правам русскоязычных групп в Прибалтике. Мы еще вернемся к этой теме при обсуждении современных проблем западных обществ, вызванных новой волной миграций, чтобы убедиться, что и в XXI cтолетии демократия, вышедшая из эпохи модернити, не вполне научилась справляться с вызовом со стороны неассимилируемых меньшинств. Однако вернемся к межвоенной эпохе. Отсутствие неформальных внутренних и внешних стабилизаторов, неблагоприятный международный контекст, а с 1929 года — и экономический кризис привели к тому, что демократические режимы в подавляющем большинстве новых стран уже в 1920-е годы в большей или меньшей степени переродились в авторитарные. Вместе с тем во многих случаях эти авторитарные режимы, опиравшиеся на традиционные социальные структуры и элиты, продемонстрировали высокую степень сопротивляемости в отношении революционных тоталитарных движений и политических религий как левого, так и правого толка. Это верно и для Восточной Европы, и для Балкан, и для Пиренейского полуострова, и отчасти даже для предвоенной Италии**. Именно там, где такие авторитарные режимы не успели заместить неустойчивую демократию — а именно в России «образца 1917-го» и Германии «образца 1933 года», массовые тоталитарные движения и смогли прийти к власти***. * Что было необходимым условием для осуществления проекта нации-государства в Молдавии. ** Сегодня схожую функцию блокирования фундаменталистского политического исламизма выполняют авторитарные режимы в ряде мусульманских стран Северной Африки — в Алжире, Египте. *** Разумеется, это не исчерпывающее объяснение успеха коммунистов и нацистов в этих странах. 93 Алексей Миллер В условиях «холодной войны» ведущие демократические страны Запада, в отличие от Версальской системы межвоенного периода, создали ряд структур (прежде всего НАТО и Европейский Союз), которые выполняли роль внешнего стабилизатора демократических режимов на окраинах Европы. Примеры Испании, Португалии, Греции и Турции показывают, что без такого внешнего стабилизатора демократические режимы на европейской периферии и сегодня не обладают достаточной внутренней устойчивостью. Если не попадать в плен метафоры Милана Кундеры о «похищенной Центральной Европе», которая была якобы лишена в условиях советского доминирования возможности «вернуться к демократии», то можно с уверенностью предположить, что политическое развитие стран этой части континента было бы похоже на развитие некоммунистической европейской периферии. Иными словами, стабилизация демократических режимов произошла бы лишь в том случае и только тогда, если и когда они были бы включены в структуры, выполняющие функцию внешних стабилизаторов*. Именно такое включение в западные структуры целого ряда новых стран и произошло после падения коммунистических режимов в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Те посткоммунистические страны, которые такие внешние стабилизаторы получили, с тех пор постепенно консолидируют, при массе проблем и дефектов, демократическое устройство по западной модели. Те, которые не включены в Европейский Союз и НАТО и не имеют ясной перспективы членства, демонстрируют больший или меньший политический плюрализм, но не устойчивую демократию. Это верно для всех постсоветских республик, включая Россию (и исключая принятые в ЕС и НАТО Литву, Латвию и Эстонию). В странах без длительной демократической традиции — особенно в тех из них, которые прожили под властью коммунистических режимов как минимум четыре десятилетия — с особой силой выступают две проблемы неустойчивых демократий. Во-первых, в этих странах не сохранилось прежних и не успело сформироваться новых неформальных внутренних механизмов стабилизации неустойчивых и дефектных демократических процедур. Именно поэтому в тех посткоммунистических странах, где отсутствует внешний стабилизатор в лице ЕС, так часты послевыборные кризисы, когда никто не желает признавать своего поражения на выборах и, ссылаясь на манипуляции во время избирательных кампаний и/или под* Сложно представить, что это произошло бы вскоре после окончания Второй мировой войны. Дело в том, что само наличие такой возможности предполагает, что война не завершилась бы разделением Европы на два блока. А между тем именно «холодная война» и существование Организации Варшавского договора были ключевой мотивацией возникновения и консолидации НАТО и ЕС. 94 От демократии XIX века к демократии XXI-го… счета голосов, требует пересмотра результатов состоявшихся выборов или проведения новых, если официальный итог складывается не в его пользу. Никакой внешний мониторинг выборов со стороны ОБСЕ и других организаций не может при этом заменить включения в Европейский Союз (или ясную перспективу скорого членства в нем) в деле обеспечения легитимности и стабильности демократических процедур. Во-вторых, во всех странах, где демократические режимы установились в ХХ столетии, сам механизм формирования демократического «политического поля» выглядит принципиально иначе. Дело в том, что в Западной Европе и США демократии в XVIII и XIX веках носили ярко выраженный элитистский характер, а число имеющих право голоса было крайне ограничено не только расовыми, но также сословными, имущественными и образовательными цензами. Именно в этих условиях и формировались не только партийные системы, но и те неформальные механизмы согласования интересов и урегулирования конфликтов, без которых демократия как формальная система не может быть устойчивой. Не менее важно, что новые группы, добивавшиеся избирательных прав, входили в уже структурированное политическое поле как организованные силы с осознанными групповыми интересами*. Те страны, которые адаптировали демократию уже в ХХ веке, должны были сразу иметь дело со всеобщим избирательным правом**, а посткоммунистические страны — еще и с населением, тренированным коммунистическими режимами для активного участия в имитации выборов. Причем в этих странах, подвергшихся даже более активной социальной атомизации, чем западные общества, и партийная структура вообще, и отдельные партии в частности структурированы очень слабо, а в обществе мало организованных политических и социальных групп с осознанными интересами***. Это усиливает негативные последствия проблем, которые являются общими для всех демократий. Во-первых, в условиях, когда «классы превратились в массы», ослабилась политическая роль и организованность социальных групп. Партии уже не носят классового характера и стремятся строить свои программы и избирательные стратегии по принципу «берем всех». Во-вторых, медийное пространство, в котором происходит избирательная борьба, претерпело революционные изменения. Вместо * Достаточно взглянуть на рабочие клубы Уэльса второй половины XIX века, чтобы понять, что имеется в виду. ** В некоторых странах это отчасти компенсировалось местными традиционными механизмами контроля над электоратом. Пример — качикизм в Испании. *** В Польше, например, ни одна партия до сих пор не пережила потери власти, за исключением «демократических левых», которые тоже находятся на грани распада. 95 Алексей Миллер Republic of Letters, т. е. политических трактатов, газетной публицистики и обстоятельных политических речей на избирательных митингах или в парламенте, которые также публиковались в печати, мы имеем в лучшем случае Empire of Television, о которой говорит А. Гор*. Чаще всего избирательные кампании ведутся именно с помощью телевизионных клипов, что предполагает неизбежное преобладание формы над содержанием. Как следствие — повестка дня политических дебатов примитивизируется, выхолащивается, ряд ключевых тем вообще из нее выключается. Достаточно вспомнить, что принципы господствующего экономического порядка до текущего экономического кризиса нигде не были темой избирательных кампаний, потому что насаждался взгляд, согласно которому система была устойчива, саморегулировалась и при этом оставалась слишком сложна для понимания «простых» избирателей. Попытка поставить эти вопросы до кризиса вела к вытеснению политиков на обочину как радикалов или демагогов. Снижение содержательности политических дебатов в связи с массовостью электората и особенностями медийного пространства — это общая проблема, решения которой не видно. В условиях, когда содержательный аспект избирательной борьбы выхолащивается, на первый план часто выходят темы-субституты. Характерный пример такого рода — роль «исторической политики» в посткоммунистических странах**. В странах с длительной демократической традицией проблема дегенерации политической повестки дня отчасти компенсируется наличием сложноустроенных стабильных политических партий, которые культивируют внутрипартийные политические дебаты. В посткоммунистических странах этот фактор почти не работает. Из сказанного можно сделать вывод, что условия, в которых сегодня происходит становление демократических структур в посткоммунистических странах, настолько радикально отличаются от тех, в которых вырастали демократии западного образца, что «органический» процесс просто не может дать аналогичных результатов. В последние десятилетия имели место несколько волн экспорта демократии на европейскую периферию. Такой экспорт приводил к созданию стабильных демократических режимов лишь в тех случаях, когда сами страны «импортировались» в наднациональные структуры Запада, играющие роль внешних стабилизаторов. Вне этого механизма устойчивое развитие демократии западного образца в посткоммунистических обществах выглядит крайне маловероят* Cм.: Gore, Al. The Assault on Reason, New York: The Penguin Press, 2007, рр. 5–6. ** Подробнее см.: Миллер, Алексей. «“Историческая политика" и ее российская версия» в: Pro et contra, № 3, 2009. 96 От демократии XIX века к демократии XXI-го… ным. Таким образом, можно говорить о «демократическом клубе», в котором демократия является не только критерием членства, но даже в гораздо большей степени его результатом. Попытка имитации западных демократических структур «вне клуба» ведет к функционированию в периферийных обществах процедур (выборы) и институтов (парламенты), которые внешне во многом напоминают западные образцы, но выполняют иные — вспомогательные, консультативные, а часто декоративные — функции. Одна из них — легитимация недемократических режимов, что тесно связано с профанацией самой идеи демократии в глобальном масштабе. Во внешнеполитической сфере легитимация с помощью выборов работает лишь постольку, поскольку демократические правительства по разным причинам склонны подыгрывать в этом спектакле режимам, которые важны как политические союзники, либо как хозяева критически важных природных ресурсов. Внутри страны «имитационная» демократия дает режимам демагогический ресурс апеллирования к санкции большинства*. Между тем одна из ключевых функций демократии — защита меньшинств. Это на первый взгляд может прозвучать парадоксально, но исторически авторитарные режимы лучше справлялись с этой функцией, чем демократии, и тем более — неустойчивые демократии. Историк империй Доминик Ливен как-то заметил, что с точки зрения колонизируемого населения лучше было попасть под власть империи, в метрополии которой господствовал традиционный авторитарный режим, чем под власть империи демократической. Геноцид и этнические чистки вполне возможны и даже весьма вероятны при демократии, если она понимается как власть этнического или религиозного большинства, причем не только в колониях, но и в самих формирующихся нациях-государствах**. В связи с этим можно отметить еще одно отличие стран «органического» развития демократии и стран, пытающихся более или менее успешно адаптировать систему демократии эпохи модернити в ХХI веке. Последним приходится иметь дело с «территориализованными» меньшинствами, у которых сформировалось достаточно развитое национальное самосознание. Поэтому национализирующие и ассимилирующие практики, в кото* Двойной стандарт и двойная мораль как во внешней, так и во внутренней политике — неотъемлемая черта демократий. Этому надо учиться — как и смешиванию коктейля в правильных пропорциях. Однако данный принцип все чаще принимается на вооружение и элитами авторитарных режимов — и, разумеется, становится заметной большая разница между демократическими элитами, отступающими от декларируемых ими принципов, и авторитарными элитами, имитирующими следование этим принципам. ** См.: Mann, Michael. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 97 Алексей Миллер рых, каждая по-своему, весьма преуспели в XIX столетии французская, британская и американская демократии, теперь уже не только не работают, но оказываются контрпродуктивными. Именно осознание этого фактора лежит в основе концепции, противопоставляющей нацию-государство и государство-нацию, которую разрабатывают в последние годы Альфред Степан и Хуан Линц*. Они обращают внимание на то, что ряд современных демократий отошли от модели нации-государства, предполагающей, что лишь одна нация может существовать в государстве, и разработали институциональные системы, отражающие признание того факта, что в государстве живет несколько наций или демосов (Канада, Индия). Сравнивая модель «нация-государство» с моделью «государство-нация», Степан строит следующий ряд оппозиций: приверженность одной «культурной цивилизационной традиции» против приверженности более чем одной такой традиции, но с условием, что приверженность разным традициям не блокирует возможности идентификации с общим государством; ассимиляторская культурная политика против признания и поддержки более чем одной культурной идентичности; унитарное государство или мононациональная федерация против федеративной системы, часто асимметричной, отражающей культурную разнородность. В других работах Степан также отмечает, что для модели нации-государства обычно более характерна президентская, а для государства-нации — парламентская республика**. Эта концепция более осторожна, чем столь популярная недавно теория мультикультурности Уилла Кимлики***. Она скорее развивает идеи, заложенные в концепции консоциативной демократии****. Однако и у Альфреда Степана и Хуана Линца можно заметить некоторую долю излишнего оптимизма. Справедливо замечая, что политика государства-нации в ряде случаев предотвращает острые кризисы, которые возникают при попытке применить к меньшинствам с сильной национальной идентичностью ассимиляторскую политику, они недостаточно внимания уделяют бельгийскому примеру, * См.: Stepan, Alfred. «Comparative Theory and Political Practice: Do We Need a "State-Nation" Model As Well As a "Nation-state" Model?» in: Government and Opposition, Vol. 43, 2008, No. 1, pp. 1–25; Stepan, Alfred; Linz, Juan and Yadav, Yogendra. Democracy in Multinational Societies: India and Other Polities, Baltimore, London: Johns Hopkins Univ. Press, 2008. ** См.: Stepan, Alfred. «Comparative Theory and Political Practice: Do We Need a "StateNation" Model As Well As a "Nation-state" Model?», pp. 1–25. *** См., например: Kimlicka, Will. «Multicultural States and Intercultural Citizens» in: Theory and Research in Education, Vol. 1, No. 2, 2003, pp. 147–169. **** См.: Lijphart, Arend. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 1977; O'Leary, Brendan. «Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments» in: Noel, Sid, Jr. From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, Montreal: McGill-Queen's Press, 2005, pp. 3—43. 98 От демократии XIX века к демократии XXI-го… который показывает, какие проблемы с целостностью государства могут возникать в модели государства-нации. Применительно к постсоветскому пространству Степан верно отмечает, что в ряде новых государств, которым модель государстванации подошла бы намного лучше, чем модель нации-государства, практическая реализация такой политики затрудняется наличием потенциально ирредентистского соседа в лице России. Он показал это на примере Украины*; то же самое верно по отношению к Грузии, Молдавии и даже Эстонии и Латвии. В Эстонии и Латвии есть регионы, в том числе прилегающие к границам России, где компактно проживают русские меньшинства; в Молдавии сепаратистский регион Приднестровья имеет ясно выраженную пророссийскую ориентацию; в Грузии сепаратистские регионы Южной Осетии и Абхазии также имели общую границу с Россией и сегодня при ее поддержке получили статус самостоятельных, пусть и немногими признанных, государств. На Украине Крымская автономия имеет русское большинство, а восточные регионы страны, помимо значительного русского меньшинства, в подавляющем большинстве заселены русскоязычным населением. Любая административная автономия и тем более федерация воспринимаются национальными центрами этих государств как чреватые сепаратизмом или как создающие благоприятные условия для русского ирредентизма. Вызовы классической модели нации-государства со стороны неассимилируемых меньшинств характерны не только для тех стран, которые пытаются адаптировать демократию в XX и XXI столетиях, но и для «старых» демократий. В силу демографического фактора и глобализации в целом ряде «старых» демократий сложились крупные иммигрантские сообщества, в основном мусульманские, которые не только не хотят ассимилироваться, но и претендуют на соблюдение своих культурных и религиозных традиций и норм, трудно совместимых с ценностями и нормами постхристианских обществ Западной Европы. Во Франции, Великобритании, Германии и Нидерландах при всех различиях подходов к проблеме, есть одна общая черта: мы не видим сколько-нибудь ясной стратегии ее решения. Мы уже наблюдали, с какой легкостью принципы Habeas Corpus были отброшены в США в рамках «войны с террором». Конечно, в европейских странах принципов демократии и верховенства закона придерживаются куда более последовательно, чем в Соединенных Штатах. Однако прогнозировать, что произойдет с демократией в этих странах в перспективе уже ближайших двух-трех десятилетий при неизбежном увеличении абсолютной и относительной числен* См.: Stepan, Alfred. «Ukraine: Improbable Demoсratic "Nation-State" But Possible Democratic "State-Nation"?» in: Post-Soviet Affairs, No. 4, 2005, pp. 279–308. 99 Алексей Миллер ности неассимилированных мусульманских сообществ и постоянно присутствующей угрозе эскалации насилия, в том числе террора, сейчас трудно. Это самый очевидный кризис и вызов модели демократической нации-государства, который способен изменить и уже меняет привычные демократические стандарты ограничения вмешательства в частную жизнь, применения права, свободы слова и ассоциаций и т. д. Оснований для оптимизма сегодня мало. Весьма вероятно, что многие элементы демократии будут принесены в жертву, и предпочтение будет отдано практикам, присущим авторитарным режимам, которые обеспечивают стабильность и более жесткие механизмы политического исключения проблемных меньшинств. Вывод о том, что формирование демократии западного образца в обществах, не включенных в структуры Запада, крайне маловероятно, вытекает из сказанного c очевидностью*. Фактически, вопрос о перспективах расширения сферы демократии западного образца в глобальном масштабе сводится к вопросу, может ли современный «демократический клуб» расширять имеющиеся сегодня стабилизирующие структуры (прежде всего Европейский Союз) или создавать новые, обеспечивающие более широкое членство в «клубе». Но можно ли ставить знак равенства между западной формой демократии эпохи модернити и демократией вообще? Если прав Чарльз Тилли, определивший демократию как «взаимно обязывающий и безопасный диалог власти и общества», то это не так. В этом определении практически ничего не говорится об институциональных параметрах**. Значит, можно найти элементы демократии в обществах, совершенно не похожих по своему политическому устройству на демократии западного образца. Такие элементы можно и оценивать по-разному (хотя типичный подход основан на том, чтобы описывать подобные общества как страдающие от «дефицита демократии», соотнося их, таким образом, с западным образцом). Однако подобный подход весьма ограничивает наши возможности понимания эволюционных изменений в недемократических обществах. Если тирания и демократия — это два полюса в политической организации, то между ними лежит огромное пространство различных вариантов авторитарных режимов, причем некоторые из них по целому ряду важнейших характеристик ближе демократии, чем репрессивной диктатуре. Авторитаризм совсем не обязательно следует рассматривать как преддверие (тоталитарной) диктатуры, что так свойственно многим восточноевропейским либералам. * Пример Японии и Южной Кореи подтверждает этот тезис, но заслуживает отдельного обсуждения, для которого у автора недостаточно компетентности. ** Cм.: Тилли, Чарльз. Демократия, Москва: Институт общественного проектирования, 2007. 100 От демократии XIX века к демократии XXI-го… Во-первых, напомню, что авторитаризм в межвоенной Европе часто более эффективно сопротивлялся тоталитарным тенденциям, чем непрочные демократии. Во-вторых, существует дистанция огромного размера между авторитаризмом, основанным на широкой общественной поддержке и стремлении ее сохранить (пример — современная Россия), и репрессивной диктатурой, «сидящей на штыках». Такие режимы нередко имеют неплохие результаты в обеспечении тех ключевых параметров общественного и личного развития, которые разделяются демократией и стоят, на мой взгляд, на шкале ценностей выше самой демократии. Речь идет о личной безопасности, об эффективном государстве, обеспечивающем определенный уровень социальной защищенности, и об индивидуальной свободе*. Подобный авторитаризм не только декларирует, но нередко и обеспечивает свободу передвижения внутри страны и за ее пределы, свободу доступа к информации (для тех, кто готов ее поискать не только в программах новостей на государственных телеканалах), свободу слова (также за исключением ключевых каналов телевидения), целый ряд ключевых индивидуальных экономических свобод. Автор этих строк, живя в заведомо не соответствующей демократическим стандартам России, чувствует себя лично свободным. Все это весьма важно, так как, если мы хотим надеяться на эволюционный, органический процесс развития демократии в тех странах, которые не «импортированы» в западные структуры, мы должны иметь сытое, модернизированное население, ответственно пользующееся индивидуальными свободами и как следствие — «дозревающее» до ответственного демократического участия и способности ответственно бороться за право такого участия не только путем спорадических протестов на центральных площадях своих столиц против фальсификации выборов. Весьма вероятно, впрочем, что сказанное выше — не более чем досужие мечтания, и такие «мягкие» авторитарные режимы в длительной перспективе не будут менять своей природы. В этом случае мы должны будем изучать эти политические системы не с точки зрения потенциала их эволюции в демократические системы, но с точки зрения их способности адаптировать элементы демократии в определении Чарльза Тилли без изменения самой природы режима. В современном мире авторитарные режимы демонстрируют такие результаты социально-экономического развития, что тезис о демо* Чарльз Тилли справедливо указывает на Ямайку как пример общества, обладающего всеми ключевыми демократическими институтами, но по уровню state capacity стоящей очень близко к грани failed state. Этот пример ясно демонстрирует, что демократия без эффективного государства обеспечивает более низкий уровень социальной защищенности и инди-видуальной свободы, чем некоторые варианты авторитарных режимов. 101 Алексей Миллер кратии как необходимом условии экономического процветания выглядит весьма шатким. Скорее следует поставить вопрос о том, какие типы авторитарных режимов оказываются способны организовать устойчивое социально-экономическое развитие, по темпам нередко опережающее развитие западных стран. В рамках валлерстайновской оптики один из интересных вопросов, возникающих в таком контексте, — какие типы авторитарных режимов обеспечивают соревновательную эффективность и в то же время политическую совместимость демократических и авторитарных политий в рамках одной мир-системы. В конце концов демократические системы могли в политическом, культурном, экономическом и военном отношении доминировать в мире, но никогда численно не преобладали. Сегодня у нас нет рациональных оснований полагать, что это положение будет меняться в сторону постоянного расширения числа стран, адаптирующих демократическую модель западного образца. А вот признаки того, что в рамках мир-системы происходит ослабление доминирующего влияния демократического Запада и как следствие — привлекательности его модели, видны невооруженным глазом. Источники Gore, Al. The Assault on Reason, New York: The Penguin Press, 2007. Kimlicka, Will. «Multicultural States and Intercultural Citizens» in: Theory and Research in Education, Vol. 1, No. 2, 2003. Lijphart, Arend. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 1977. Mann, Michael. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. O'Leary, Brendan. «Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments» in: Noel, Sid, Jr. From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies, Montreal: McGillQueen's Press, 2005. Stepan, Alfred. «Comparative Theory and Political Practice: Do We Need a "State-Nation" Model As Well As a "Nation-state" Model?» in: Government and Opposition, Vol. 43, No. 1, 2008. Stepan, Alfred. «Ukraine: Improbable Demoсratic "Nation-State" But Possible Democratic "State-Nation"?» in: Post-Soviet Affairs, No. 4, 2005. Stepan, Alfred; Linz, Juan and Yadav, Yogendra. Democracy in Multinational Societies: India and Other Polities, Baltimore, London: Johns Hopkins Univ. Press, 2008. Миллер, Алексей. «"Историческая политика" и ее российская версия» в: Pro et Contra, 2009, № 3. Тилли, Чарльз. Демократия, Москва: Институт общественного проектирования, 2007. 102 Горькое торжество демократии Доминик Муази, Специальный советник Французского института международных отношений, заведующий кафедрой Европейского колледжа в Варшаве (Франция) «Мы лишим вас самого смысла существования, ибо мы представляли собой угрозу, которая скрепляла ваш альянс». Разумеется, пророческие слова одного из советских лидеров, Александра Яковлева, звучали несколько иначе. Но именно такова была суть его послания Западу, когда он с горечью и бессилием наблюдал за крахом Советского Союза и его империи, службе которым отдал свой ум и талант, на борьбу за процветание которых потратил большую часть своей жизни. Слова бывшего советского политика объясняют не только трудности, с которыми столкнулся Североатлантический альянс за последние двадцать лет. Как сохранять единство, когда исчезла скрепляющая его коммунистическая угроза? Как дать позитивное определение тем интересам и ценностям, которые за долгое время вошло в привычку формулировать «от противного»? Сегодня это прозрение как будто обретает более широкий смысл для западных демократий, ибо из него вытекает вопрос: удалось ли Западу, гордому своей идеологической победой над тоталитарной советской моделью, достичь согласия с самим собой? Нет ничего опаснее иллюзорного ощущения окончательной победы. Именно оно обусловило неразумное высокомерие, которым про- 103 Доминик Муази никнуто эссе Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», имевшее шумный успех в 1991 году. Демократия теоретически и идеологически распространила свою власть на весь мир, но не ослабла ли она на практике в западных странах, где утвердилась ранее всего? Не взялись ли мы проповедовать другим ценности, которыми сами все чаще пренебрегаем в повседневной жизни? Не слишком ли безоглядно сделали мы ставку на их универсальность — противоречивым образом движимые как верой в давно усвоенные принципы, так и сомнениями в себе и в своем собственном будущем? Ведь очень часто случается так, что чем меньше мы уверены в себе, тем больше стремимся продемонстрировать абсолютную убежденность в превосходстве наших ценностей. Дабы понять, «что с нами произошло» и оттуда взялся горький привкус нашей демократической победы, необходимо сначала вернуться назад, в 1990-е годы, и уже потом обратиться к следующему десятилетию. 1990-е годы — время, потерянное победоносными демократиями Как определить десятилетие, промелькнувшее между 1990-м и 2000-м годами? Не есть ли оно лишь мимолетный промежуток между двумя эпохами? По одну его сторону — эпоха «холодной войны», завершившаяся с падением Берлинской стены, прямым следствием чего стали крах СССР и объединение Европы. С другой — эпоха глобализации, время передачи «исторической эстафеты» от Северной Америки к Азии, и прежде всего, к Китаю и Индии, которую ускорили обрушение башен-близнецов в результате террористической атаки на Нью-Йорк в 2001 году и банкротство Lehman Brothers в 2008-м. Долгое время было непросто дать четкую характеристику 1990-м годам. За неимением лучшего часто использовали выражение «период после “холодной войны”». Не зная, как определить наступившее время, его название выводили из предшествующего периода. В действительности, если перефразировать Пиранделло, над этим десятилетием довлело «замешательство перед лицом обилия концепций». Для одних, поддерживавших Фрэнсиса Фукуяму с его знаменитым, но спорным предположением о «конце истории», данный период знаменовал собой завершение идеологического противостояния между двумя глобальными центрами силы. Один лагерь одержал безоговорочную победу над другим. Слава либерализму и капи- 104 Горькое торжество демократии тализму, да здравствует западная демократия!.. Для других это прежде всего эпоха торжества Америки. Биполярному миру «холодной войны» пришла на смену однополярная эпоха «гипергосподства» Соединенных Штатов, если воспользоваться словами бывшего французского министра иностранных дел Юбера Ведрина. У Америки в этот период на руках оказались все карты, даже если она не вполне отдавала себе в этом отчет и использовала их порой далеко не лучшим образом. Для тех, кто не был так озабочен идеологическими проблемами, 1990-е годы отмечены прежде всего возвращением в Европу войны. На континенте, расколотом «холодной войной», мир был невозможен, но война — невероятна, по знаменитому выражению Раймона Арона. Но неужели оказалось так, что в воссоединенной после «холодной войны» Европе мир стал возможен, а войны — вероятны? Разве, по мнению ученика Раймона Арона профессора Пьера Аснера, кровавое размежевание на Балканах не знаменует собой возврата к «новому средневековью»? Этнические чистки, произошедшие в центральной Африке в середине десятилетия, лишь сгустили атмосферу тревоги. Оптимизм Фукуямы окончательно утратил почву; не больше ли согласовывается с действительностью пессимизм Самюэля Хантингтона, начиная с 1993 года предрекавшего «столкновение цивилизаций»? Есть, наконец, и такие, кто с конца 1990-х годов, вслед за известным нью-йоркским хроникером Томасом Фридменом, делают упор на возникновении нового мира, прозрачного, пронизанного отношениями взаимозависимости, — мира глобализации. Мира, который рождается после разрушения искусственных преград «холодной войны» благодаря информационно-технологической революции, наложившей на нашу эпоху столь же мощный отпечаток, как и революция в средствах связи и передвижения за сто лет до этого. Конец истории и окончательная победа демократии, повсеместный триумф Америки, возвращение к войнам в Европе, возникновение глобализованного мира… Понятно, почему период формирования «мира после “холодной войны”» представляется специалисту по геополитике десятилетием сложным и богатым событиями, исполненным надежд и опасений. История словно оказалась на перепутье, как во всем мире, так и в отдельных регионах. Никогда достижение мира между израильтянами и палестинцами на Ближнем Востоке не казалось столь близким. Кто знает, что произошло бы, если в 1995 году убийство Ицхака Рабина не прервало процесс укрепления 105 Доминик Муази доверия между двумя народами. Вчера еще до мира, казалось, было рукой подать, а сейчас он бесконечно далек. И нечто подобное можно сказать практически о всех сферах политики и экономики, почти о любом регионе мира. Стремясь прежде всего к ясности в осмыслении сути 1990-х годов, я сосредоточу внимание на двух ее возможных интерпретациях: как эпохи сверхгосподства США и возвращения к войнам в Европе. Действительно, именно эти две трактовки недавнего прошлого представляют особенную важность для понимания мира, в котором мы живем сегодня. Это — две основные тенденции, характеризующие упущенные возможности. В 1990-е годы Америка могла «построить новый мир», в высокой степени отвечающий нормам права и справедливости. У нее были на руках все карты; она либо бездарно растратила их, либо придержала и не пустила в ход — по неразумию, легкомыслию или лености. История «не дает другого шанса», и вчерашние неиспользованные возможности во многом объясняют сегодняшние проблемы. Что же касается Европы, «праздник» оказался в определенном смысле испорчен. Мирное и свободное объединение не принесло немедленных положительных результатов. Расширившись до своих географических границ, Европа столкнулась с самым ужасным, негативным явлением в своей истории — войной. Время американской «однополярности» Итак, в 1990-е годы Соединенные Штаты упустили единственную возможность «сформировать» мировую систему в соответствии с собственными ценностями. Так, во всяком случае, полагал Билл Клинтон на исходе своего второго президентского срока. Перед близкими соратниками он не скрывал сожаления об упущенном на президентском посту времени, о том, что приступил к делу слишком поздно, когда собственные проблемы сузили круг его возможностей. Не отражали, не усугубляли ли слабости человека колебания и противоречия целого народа? Сразу после своей «победы» в «холодной войне», совпавшей с успехом в первой войне в Персидском Заливе в 1991 году, американцы разрывались между гордостью от обретения ими неоспоримого статуса главной мировой державы, картинно демонстрируемым стремлением «сделать мир лучше» и неодолимым искушением заняться прежде всего своими делами. В 1992 году Джордж Буш-ст. повторил политическую судьбу Уинстона Черчилля после победы над Германией во Второй мировой войне. Его «отблагодарили» избиратели, для 106 Горькое торжество демократии которых победа на глобальной арене не смогла затмить колоссальных тягот собственного экономического и социального положения. Со своим лозунгом: «Это экономика, дурень!» Билл Клинтон идеально «схватил» глубокое разочарование и шок значительного числа граждан державы, в которой огромная военная мощь сочетается с инфраструктурой, характерной скорее для страны «третьего» мира. Обладая всеми средствами для тотального военного, экономического и политического доминирования, Америка на протяжении этого уникального для нее десятилетия выказывала робость, отсутствие здравомыслия и даже твердости. Тщетно ожидая, что Европа проявит себя на Балканах достойным образом, она в итоге вмешалась в ситуацию пусть и решительно, но слишком поздно, когда человеческие потери уже измерялись десятками тысяч… Если в отношении к Европейскому Союзу Соединенные Штаты повинны в равнодушии и одновременно излишней доверчивости, то их отношение к России можно охарактеризовать как презрительное, а дипломатию Москвы они рассматривали лишь как придаток дипломатии Вашингтона. «Достаточно приблизить Россию к Западу, насколько это возможно, и сдерживать ее, если в том возникнет надобность» — вот к чему сводилась политика Вашингтона в отношении Москвы. Расширение НАТО, бесспорно закономерное и во многих аспектах даже необходимое, совершенно не пощадило национальных чувств России. Америка 1990-х и 2000-х годов представляет собой не столько заслуживающую осуждения надменную сверхдержаву, сколько державу легкомысленную, растратившую попусту мощь своего вселенского посыла и сочетавшую при Билле Клинтоне верные прозрения с незавершенными делами. Стремление примирить американский унилатерализм с многосторонним духом Организации Объединенных Наций и заложить основы более справедливого и сбалансированного мирового порядка с Соединенными Штатами во главе в итоге осталось благим намерением. Точно так же вмешательство Вашингтона в процесс арабо-израильского урегулирования произошло слишком поздно, чтобы повлиять на ситуацию. Разумеется, Америка достойно проявила себя на Балканах, став на сторону косовских албанцев и даже подвергнув бомбардировке Белград, что глубоко шокировало «православных» союзников Сербии в Москве. «Американцы не любят, когда людей в Европе заставляют сниматься с насиженных мест», — сказал мне в Вашингтоне один из руководителей США накануне вмешательства его страны в косовский конфликт. 107 Доминик Муази Возвращение к войнам в Европе Падение Берлинской стены, окончание «холодной войны» и распад советской империи не только не положили начало эпохе мира, демократии и процветания в Европе, но, напротив, спровоцировали вооруженный конфликт на ее «заднем дворе» — на Балканах. Невозможно переоценить губительного воздействия распада Югославии на настрой европейцев и будущее Евросоюза. И сегодня еще продолжается дискуссия о глубинных причинах, вызвавших к жизни жуткие образы давно ушедших эпох. Не превратилась ли Югославия за десятилетия правления Тито в своеобразный «социалистический морозильник», внутри которого медленно, но верно обострялись межэтнические противоречия? Или же возвращение войн в Европу предвосхищает неизбежное будущее, более жестокое, чем мы привыкли предполагать? А может, эта война свидетельствует о неспособности Европейского Союза превратиться в реальную силу в сфере международной политики и безопасности? Бесспорно одно: война на Балканах и медвежья услуга, которую оказали ей, по меньшей мере, поначалу, европейцы, подтвердили худшие опасения американской элиты в отношении Европы. «Европе доверять нельзя. Пусть выпутывается сама! Когда разногласия и бессилие вызовут у нее влечение к самоубийству, Америке придется в очередной раз вмешаться, чтобы спасти ее от себя самой и подобрать обломки», — так говорил мне в начале 1990-х один высокопоставленный американский дипломат. Америка не верит в Европу, но и Европа все сильнее отдаляется от Америки, которую критикует больше за то, что она «есть», чем за то, что она «делает», больше за ее суть, чем за достижения: «культурное болото», страна, где до сих пор применяется смертная казнь… Конечно, сегодня Америка — это тоже часть Запада, но несравненно менее гуманная и цивилизованная, чем Европа! В то время как «победоносные западные державы» демонстрируют беспечность, бессилие и разногласия, историческая эстафета постепенно переходит от Запада к Восточной Азии. Финансовый кризис, постигший ее в 1997–1998 годах, оказался быстро преодолен и утвердил крупнейшие азиатские страны — прежде всего Китай и Индию — в мысли, что настает их час. Распад Советского Союза не только породил у Соединенных Штатов иллюзорное ощущение всемогущества, но также освободил Индию от сковывавшей ее экономической модели и неудобного стратегического союзника. С 1991 года для этой страны открылся период непрерывного хозяйственного роста. Изначально сделав ставку на экономическую 108 Горькое торжество демократии открытость (а не политическую, как Россия), она «не прогадала». По крайней мере, так полагают сами индийские руководители. Что до Китая, то процесс реформ там начался значительно раньше и в последние два десятилетия его возвышение только подчеркивает масштабы снижения роли России в мире. Не напоминает ли конец ХХ века окончание XIX столетия? Для обоих исторических моментов характерны тенденции к глобализации и революциям, в первом случае информационной, во втором — транспортной. Однако параллели хромают. Из первой глобализации победителем вышли Соединенные Штаты, выгодами второй пользуются Индия и Китай. За первоначальным сходством кроются разные реальности. В конце первой глобализации Европа ввязалась в самоубийственную войну, и именно поэтому на первое место вышла Америка. Сегодня США не губят себя, подобно Европе кануна Первой мировой войны. Они утрачивают прежнее могущество и отходят в сторону, неудержимо передавая историческую эстафету Азии. В итоге 1990-е годы оказались обманчивыми. За сближением России с Западом скрывалась утрата ею ее исторической роли. За формальным образованием Европейского Союза — возвращение нестабильности в Европу. За видимым вселенским торжеством Америки вырисовывается неудержимый рост могущества Азии, а за успехами Азии кроется проблема дестабилизации отношений Запада с остальным миром. Может ли демократия по-прежнему считаться необходимой для развития, если Китай добился за двадцать пять лет десятикратного роста своей экономики и аккумулирует резервы, в то время как страны Запада вынуждены смиряться с внешнеторговым дефицитом в условиях крайне низких темпов экономического роста? Отсюда возникает главный вопрос, возникающий на пороге XXI столетия: сохраняется ли считавшееся ранее бесспорным превосходство демократической системы над всеми прочими, особенно в тот момент, когда демократия, дабы противостоять своим врагам, рискует поставить под сомнение собственные принципы? 2000—2010 годы: демократия под угрозой культуры страха Не прошло ли минувшее десятилетие под знаком излишнего, неоправданного страха и не ставит ли он под угрозу саму сущность Запада и его способность взаимодействовать с остальным миром? 109 Доминик Муази Очевидно, привычнее и как-то спокойнее было бы характеризовать Запад в терминах демократии, а не страха, ибо именно демократические политические институты служат тем прочным связующим звеном, которое в конечном счете объединяет европейские страны и Соединенные Штаты. К сожалению, подобное классическое представление, основанное на ценностях, а не на эмоциях, не учитывает новую специфику нашей эпохи, а именно — того факта, что люди по обоим берегам Атлантики уже не гордятся как прежде своей демократической моделью и избранными ими лидерами. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опросов о степени поддержки политических деятелей и проводимого ими курса в большинстве стран Европейского Союза и США, где желание перемен сопровождается стремительным ростом разочарования в политике и политиках. Разумеется, сами граждане демократических стран всегда одними из первых обличали недостатки и неудачи своих институтов и политических лидеров. Как гласит знаменитое изречение Уинстона Черчилля, демократия — худшая система правления, за исключением всех остальных. Однако приходится признавать, что чувство разочарования, охватившее ныне жителей стран западной демократии — это новая мучительная реальность, которая распространяется все шире и шире. На мой взгляд, существует связь между процессом глобализации и потускнением демократического идеала. И (пусть даже высказанное далее может кого-нибудь шокировать) смысл этой связи состоит в следующем: культура страха стирает качественные отличия, существовавшие прежде между демократическими и недемократическими режимами, ибо толкает устойчивые демократии на нарушение собственных принципов, основанных на уважении к правовому государству. Если мы будем продолжать проповедовать ценности, которые не разделяем на практике, то утратим наш моральный авторитет и притягательность — ибо существует не только относительная, но и абсолютная разница между демократией, пусть даже несовершенной, и автократией или квазидемократическими режимами, которые сегодня представлены соответственно такими странами, как Китай и Россия. Новизна подобного «страха» на Западе в общем и целом относительна. В страхе как таковом нет ничего нового и оригинального, так как он и прежде оказывал определяющее влияние на политические и культурные циклы в Европе и Соединенных Штатах. За последние годы новая волна и новый цикл страха (на мой взгляд, они появились еще до терактов 11 сентября 2001 года, которые лишь придали им мощный импульс) прочно утвердились в 110 Горькое торжество демократии нашем сознании, и здесь у Европы и Америки есть немало общего. В самом деле, на обоих берегах Атлантики боятся «чужаков» — иностранцев, которые готовы заполонить родную страну, украсть работу и угрожают нашей национальной идентичности; боятся терроризма и распространения оружия массового поражения; боятся экономической нестабильности и финансовых неурядиц; боятся природных катастроф, экологических и биологических, от потепления климата до эпидемий. В общем, люди все больше боятся будущего, неясного и грозного, на которое они почти — или вообще — не в состоянии повлиять. Страх в Европе «А те, которые в живых, смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы: перевернул совсем их страх…» Во Франции XVII века поэт Жан де Лафонтен использовал образы животных, чтобы обличать язвы общества. Первые строки его басни «Звери, больные чумой»* превосходно иллюстрируют глубокий кризис идентичности, от которого страдает Европа. Этот кризис усугубил экономический спад и снижение уровня жизни европейцев, но возник он задолго до нынешних финансовых катаклизмов. Чтобы оценить его масштабы, достаточно посмотреть выпуски новостей во Франции, Чехии или Италии. Не проходит и дня без нападок на жесткие решения Еврокомиссии, вынуждающие граждан и компании идти на новые и новые жертвы ради экономической стабильности, политической устойчивости и абстрактной безопасности. Сегодня большинство европейцев уверены, что в Европе проблемы возникают быстрее, чем решаются. Падение Берлинской стены в 1989 году стало апогеем «культуры надежды». Прошло менее двадцати лет, и в 2005 году французы и голландцы проголосовали против проекта общеевропейской Конституции, а в 2008 году их примеру в отношении Лиссабонского договора последовала Ирландия. Таковы видимые проявления распространения культуры страха на Старом континенте. В 1989 году Европа праздновала падение Стены как окончание своей раздробленности. В 2008 году она как будто готова возвести новые стены, которые оградили бы ее от внешнего мира с миллионами иммигрантов, тысячами конкурентов и сотнями террористов. Страх стал главной тенденцией в развитии Европы, и по многим причинам. С эмоциональной точки зрения расширение Европейского Союза про* Цит. по сделанному И. А. Крыловым переложению на русский язык «Мор зверей». — Прим. перев. 111 Доминик Муази изошло слишком поздно, когда пошел на спад порыв к свободе, выражавшийся в стремлении к расширению единого европейского пространства. В то же время с институционной точки зрения оно случилось слишком рано, до завершения процесса всестороннего реформирования структуры управления Евросоюза. Как любил подчеркивать Бронислав Геремек, этот недавно покинувший нас великий европеец, бывший лидер «Солидарности» и министр иностранных дел Польши: Европа — не только экономическое пространство, но и этическая конструкция, она нуждается в сердце, должна создавать теплую атмосферу единения, имеет непреходящее духовное измерение. Профессор Геремек был совершенно прав. Но сколько европейцев думали и думают как он? Нелегко избавиться от националистических предубеждений. Более глубокая вера в свою судьбу, в свою способность преодолеть прошлое позволили бы Европе принять новую ситуацию с большей открытостью, гуманностью и эффективностью. Страх перед «Другим» означает и страх перед террористом, особенно когда он представляется в виде мусульманского фундаменталиста с «поясом шахида». Затмевая весь белый свет особенно боязливым нашим согражданам, этот страх оборачивается представлением о захвате мусульманским миром Европы, в котором пришлые чужаки занимают ведущие демографические и религиозные позиции, превращая Старый Свет в «Еврабию». Отчасти со страхом перед «завоевателями» ассоциируется и угроза терроризма, исходящая из непонятного европейцам исламского Востока. Я говорю «отчасти», потому что в Европе, в отличие от США, боязнь терроризма не стала всепоглощающей, а риторика «безопасности» — тотальной и парализующей волю. Во многом это обусловлено тем, что европейские страны сравнительно недавно — в 1960-е и 1970-е годы — пережили даже более масштабную волну терроризма, а также и тем, что как бы ни были ужасны теракты в Мадриде в 2004-м и в Лондоне в 2005 годах (к ним следует присовокупить и неудавшиеся попытки терактов в Великобритании в 2007 году), их сложно сравнивать по масштабу и эффекту с нью-йоркской катастрофой 11 сентября 2001 года. Чтобы обрести веру в себя, Европе необходимы серьезные усилия и обеспечение реального хозяйственного роста. В силах ли она совершить это? Если население развивающихся стран сегодня мечтает добиться уровня потребления, подобного западному, и делает для этого все от него зависящее, то европейцы не хотят трудиться как азиаты для поддержания своего качества жизни. Нынешнее различие показателей экономического роста в Европе и Азии предве- 112 Горькое торжество демократии щает в долгосрочной перспективе поражение европейской модели. Пока наращиваение долговых обязательств будет оставаться уделом Запада, а хозяйственный рост и индустриальное развитие — прерогативой Азии, упадка Запада, по-видимому, не избежать. Страх в Америке Можно утверждать почти с полной уверенностью, что существуют две Америки: одна, спаянная собственно страхом, и другая, движимая страхом перед тем страхом, который сплачивает первую и потому объединившаяся под знаменами надежды вокруг кандидатуры Барака Обамы. В отличие от европейцев, американцев не тревожат призраки прошлого. Америка всегда была обращена в будущее, являясь скорее проектом, чем историей. И нынешний кризис американской идентичности проявляется в трех вопросах: Лишились ли мы души, то есть нашего морального превосходства? Лишились ли мы цели, то есть осознания смысла своей миссии? И, наконец, лишились ли мы своего положения, то есть не пребываем ли в упадке, не обходит ли нас кто-то? Задаваясь такими вопросами все чаще, американцы начинают сомневаться в универсальности и главенствующей роли своей модели и системы. Что хорошо для Америки, возможно, не подходит для остального мира, а раз уж сами американцы не следуют на практике проповедуемым ими ценностям, как могут они знать, что же хорошо для них самих? Чтобы проанализировать культуру страха в США, не следует брать за точку отсчета 11 сентября. Страх всегда присутствовал в американской истории. Завоевание территории нынешних Соединенных Штатов сопровождалось насилием над коренным индейским населением, а также конфликтами между самими первопроходцами. Свободное владение оружием, закрепленное в исходных статьях Конституции США и являющееся до сих пор характерной особенностью страны, служит не только символом индивидуализма и неограниченного права на самооборону; это — наследие дикого прошлого, жестокого и опасного, где человек был человеку волком и страх пронизывал повседневную жизнь большинства граждан. Страх в Америке возник не 11 сентября; в тот ужасный день он лишь обрел невиданные прежде масштабы. Тысячи жертв за несколько часов, символический характер мишеней — символ военной мощи США в Вашингтоне и башни-близнецы Всемирного Торгового Центра, определявшие неподражаемый силуэт Нью-Йорка, самого 113 Доминик Муази космополитического из мегаполисов мира, — все это сделало Америку уязвимой в тот самый момент, когда она, казалось, окончательно утвердила свое превосходство через десять лет после распада Советского Союза. 11 сентября не породило культуру страха, оно придало ей неведомую прежде глубину. С начала «холодной войны» американцам было известно, что их географическое положение больше не служит защитой — однако день 11 сентября превратил это абстрактное знание в конкретную, трагическую реальность. И если до этого дня Соединенные Штаты были склонны недооценивать опасности, то после него они стали переоценивать их; развязали в Ираке неоправданную войну столь же неоправданными средствами, создали атмосферу подозрительности, гибельную как для их имиджа, так и для их интересов. Выбор между свободой и безопасностью стар как мир. Но, развязав «всемирную войну против терроризма», администрация Джорджа Буша-мл. не сумела найти золотой середины между ними. Гуантанамо, секретные тюрьмы и превентивные аресты стали символом того, что «с Америкой что-то не так». Надежда на лучшее будущее, уверенность в себе и неудержимый оптимизм позволили скромной, суровой и идеалистической республике менее чем за два столетия обрести статус всемирной империи. Это же чувство надежды многие десятилетия лежало в основе американского влияния в мире, неодолимой притягательной силы Америки. Оно же подпитывало и знаменитую «американскую мечту». Оптимизм, идеализм, индивидуализм, а также стремление к совершенству и вера в свою исключительную судьбу представляют собой естественные составляющие преуспевания страны, которая всегда относилась к себе как к реализующемуся проекту, а не как к наследию, традиции, которые следует сохранить или преодолеть. Европа скорее перестраивалась, чем строилась, не выходя за рамки своей истории. Сила и слабость ее — в способности вызывать, заклинать свое прошлое. Америка же представляла и представляет собой чистое становление. Но будет ли так всегда? В одной посвященной Китаю статье Дэвид Брукс задается вопросом: какие выводы можно извлечь из того, что «коллективистские общества добиваются экономического преуспевания и порою выступают с Западом на равных»? И пытается дать ответ: «Подъем Китая обусловлен не только экономическими причинами, но и культурными. Идеалы гармоничной коллективной жизни могут стать столь же привлекательными, что и американская мечта». Что же тогда останется Америке? Как сможет она утверждать то свое превосходство, в котором (или в убежденности в котором) она столетиями черпала свои силы? Именно этот страх, страх 114 Горькое торжество демократии отставания от жизни, страх перед появлением альтернативных успешных моделей экономики и общества, и парализует сегодня волю и сознание не умеющей проигрывать Америки. Может ли Запад вновь проникнуться «духом Просвещения»? На протяжении более двухсот лет западный мир жил «рядом» с «Другим», глядя на него свысока благодаря своим социальным, технологическим, экономическим и научным достижениям. Сегодня, когда демографы предсказывают, что к 2050 году американцы и европейцы вместе взятые будут составлять чуть более 10% населения планеты, западный мир должен учиться жить не «рядом» с «Другим», а «вместе» с ним. Этот «Другой» может иметь политические и культурные представления и ценности, отличные от наших, и, возможно, они не придутся нам по вкусу, но мы должны уважать его достоинство, признавать его право на иную культуру и образ жизни и соразмерять свои действия с его интересами и правами. Вступая в «постзападный» мир, нам нужно обратиться к собственному опыту. В истории были периоды, когда цивилизации относились друг к другу как к равным. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать переписку венецианских послов с дожами, описывающую подъем Оттоманской империи после падения Константинополя, или воспоминания Маттео Риччи, священника-иезуита, жившего в Китае в XVI веке, или вспомнить первые годы существования британской Ост-Индской компании, пока англичане еще не довели до упадка царство Великих Моголов, чтобы заменить его собственным управлением Индией. В этом смысле равенству цивилизаций был положен конец подъемом европейского экспансионизма, естественным наследником которого стала американская «полуреспублика-полуимперия». Сегодня американцы и европейцы должны переосмыслить место, которое они занимают в мире, а также пути взаимодействия с «Другими». Им не следует забывать и о толике скромности, ибо «они больше не одни» на планете, но в то же время и не перебарщивать, поскольку они, как и прежде, воплощают ценности и идеалы демократии и правового государства, идеи уважения прав человека, которые пока остаются непревзойденными и оспаривать которые в будущем не следует позволять никому. Они должны сознавать, что совпадение во времени «азиатской весны» с «западной осенью» представляет собой не только вызов, но и уникальную возможность «дойти до сути вещей». 115 Доминик Муази Сравнительное преимущество западного мира — не в демографии, не в военной, финансовой или экономической сферах, а в идеях и идеалах. Впервые за последние столетия на авансцену истории в лице Китая выходит мощная держава, у которой нет универсального послания к миру. А именно такое послание, обретающее жизнь, достоинство и обоснованность в серьезности наших действий и качествах наших политических лидеров, и составляет сравнительное преимущество западного мира. Наш капитализм, основанный на демократических институтах и ценностях, должен вновь обрести всеобщее признание, которое он утратил из-за алчности финансистов, посредственности политиков и несостоятельности механизмов публичного контроля. В конце XVIII века начало периода господства Запада над миром совпало с возникновением интеллектуального течения, основанного на идее прогресса, — Просвещения. В то время прогресс означал освобождение людей от всяческих предрассудков, суеверий и религиозных догматов. Какими сегодня могут быть составляющие и методы новой «философии Просвещения» как ответа на вызовы первой половины XXI века? «Другой» — это единственное зеркало, отражающее наши силы и слабости. В мире, где роль Запада — демографическая, экономическая и военная — может оказаться относительно незначительной, мы вынуждены будем стремиться лишь к одному: стать «зоной передовых ценностей». В этом — наше единственное преимущество перед Китаем и другими полуавторитарными лидерами, и останется таковым, если мы будем сами следовать тому, что проповедуем. Аналогичным образом наше понимание равенства людей, основанное на индивидуализме, является нашим сравнительным преимуществом перед Индией с ее пережитками кастовой системы. Для западного мира настало время осознать, что мы живем не по средствам в материальном плане и задействуем далеко не все свои возможности в плане интеллектуальном и «духовном». Только если мы сделаем это, нам и нашей социальной системе найдется достойное место в формирующемся новом мире. Перевод Ю. Гусевой 116 Демократия в Китае: вызов или шанс? Юй Кэпин, Директор Всекитайского центра сравнительных экономических и политических исследований (КНР) В первые годы после завершения «холодной войны» практически все исследователи и политики как на Востоке, так и на Западе, поддавшись простоте концепции Фрэнсиса Фукуямы, склонны были считать, что капитализм одержал окончательную победу и история приходит к логическому завершению — утверждению во всех странах мира либеральной демократии западного типа. Развитие, однако, не пошло по пути, определенному ему в те годы. Сколь бы неожиданным это ни было, но либеральные демократические структуры, схожие с западными образцами, отнюдь не стали типичными для большинства стран, образовавшихся на обломках бывшего Советского Союза, хотя отказ от наследия прежнего политического режима был весьма резким. С большой уверенностью можно сегодня утверждать, что направление политической эволюции России существенно отличается от того, которое приписывается канонами западной либеральной демократии, равно как и констатировать, что многие страны в Азии и Латинской Америке — Филиппины, Ирак, Афганистан, Венесуэла и Боливия — сталкиваются с большими сложностями, пытаясь реализовать реформы, направленные на установление либеральной демократии, а их граждане разочаровываются в западных политических образцах. 117 Юй Кэпин Китайские же реформы, напротив, развиваются очень быстро. Уникальная политическая модель, взятая на вооружение в КНР, отличается не только от принятой в свое время в Советском Союзе социалистической модели, но и от западной либерально-демократической традиции. Та новая политическая реальность, которая сегодня формируется в Китае, бросает вызов теоретическим основам западной демократической мысли, заставляя ученых задуматься: действительно ли западная версия демократии является универсальной для всего человечества ценностью; может ли существовать иная, нелиберальная, демократия? Эти вопросы сегодня находятся в центре внутрикитайской дискуссии о демократии, которая приобрела в наши дни наибольший накал со времени основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Основные вопросы, на которые пытаются найти ответ китайские исследователи, могут быть сформулированы следующим образом: в каком отношении находятся демократия и социальноэкономическая модернизация; применима ли в Китае демократия западного образца; существует ли особенная, китайская модель демократии; и наконец, что представляет собой демократия для Китая — новые возможности или опасный вызов? В следующем году в Китае будет отмечаться столетие со дня основания демократической республики, положившей конец феодальноавтократическому режиму. Мне как китайскому исследователю хотелось бы выразить свое мнение относительно развития демократического движения в Китае на протяжении этих ста лет и поделиться своим видением и своими оценками политических процессов, протекавших в стране в последние три десятилетия — в период экономических реформ и нарастающей открытости. Я хотел бы также предложить свои ответы на сформулированные выше вопросы. Основоположник китайской демократии Сунь Ятсен рассматривал демократию как общемировую тенденцию развития цивилизации. Он убеждал народ Китая: «Общемировое движение к демократии — широкая и мощная тенденция. Следовать ей — значит процветать, противиться ей — значит скатываться в небытие»*. Создатель и первый руководитель Националистической партии (шире известной как Гоминьдан), он возглавил первую демократическую революцию в китайской истории, свергнувшую династию Цин, отстранившую от власти последнего императора [Пу И] и положившую начало Китайской Республике. Однако эта революция в конечном итоге не * Cунь Ятсен. «Очерки о демократии и другие труды» в: Cунь Ятсен. Полное собрание сочинений, Пекин: Издательство Чжон Хуа, 1986 (на кит. яз.). 118 Демократия в Китае: вызов или шанс? привела к установлению в Китае стабильного демократического режима. После провозглашения Китайской Республики страна пережила непродолжительный период реставрации свергнутого монарха, за которым последовало de facto диктаторское правление ряда последователей Сунь Ятсена из числа лидеров Националистической партии. Вскоре, однако, они утратили поддержку китайского народа и [в ходе и после завершения Второй мировой войны] были вытеснены с территории материкового Китая силами Коммунистической партии Китая. При этом следует подчеркнуть, что главной причиной, по которой КПК сумела победить Гоминьдан в ходе гражданской войны [1927–1936 и 1945–1950 годов], была приверженность коммунистов демократическим идеям. Все отцы-основатели КПК подчеркивали важность следования демократическим принципам, причем особенно последовательно делал это Чэнь Дусю, первый председатель и генеральный секретарь Коммунистической партии, являвшийся также лидером самого известного демократического движения в истории Китая — «Движения 4 мая 1919 года». Председатель Мао Цзэдун также был убежденным сторонником китайской демократии. В своей классической работе «О новой демократии» он систематически изложил программные принципы КПК о китайской демократии*. Под его руководством Коммунистическая партия Китая создала в 1949 году Китайскую Народную Республику, что стало гигантским шагом на пути формирования демократии в Китае. Мао Цзэдун не раз повторял: только демократия может стать гарантией того, что правительство не будет свергнуто народом и его власть не будет оспариваться; он также полагал, что только демократия способна привести китайский народ к его достойной общенациональной цели — «великому обновлению (great rejuvenation)». Начиная с 1949 года Коммунистическая партия Китая сделала неизмеримо много для продвижения демократических порядков на китайской земле и достигла существенных успехов. Среди последних стоит отметить устранение феодальных иерархий и привилегий, преодоление гендерного неравенства, а также обеспечение трудящимся возможности участия в выработке политических решений и в управлении страной на разных уровнях. В то же время вскоре после революции демократия в Китае начала свертываться, а многие из ее достижений были практически нивелированы. «Великая про* Mao Цзэдун. «O новой демократии» в: Mao Цзэдун. Избранные труды, Пекин: Народное издательство, 1969, сс. 662–711 (на кит. яз.). 119 Юй Кэпин летарская культурная революция», запущенная Мао Цзэдуном, полностью уничтожила нормальные демократические механизмы принятия решений, дезорганизовала юридические процедуры и в конечном счете воплотилась в законченном автократическом режиме. Новый этап в развитии китайской демократии начался лишь с переходом к политике открытости, провозглашенной Дэн Сяопином. Реформы, инициированные в 1978 году, позволили китайской экономике развиваться свободно и без преград, что обеспечило высокие темпы роста и спровоцировало экономическое чудо, не имеющее аналогов в новейшей экономической истории. С 1978-го по 2008 год ВВП Китайской Народной Республики вырос с 364,5 миллиарда юаней (около 50,1 миллиарда долларов США по нынешнему обменному курсу) до 30,067 триллиона юаней (почти 4,3 триллиона долларов). Средние темпы прироста ВВП превышали в этот период 9% в год, а ВВП на душу населения повысился с 381 юаня (54,3 доллара) дo 22,6 тысячи юаней (3230 долларов)*. По совокупной экономической мощи Китай вышел на третье место в мире. Однако многие западные исследователи полагают, что китайская политика реформ и открытости оказалась успешной лишь в аспекте экономической модернизации, но не принесла существенных изменений в сфере политической демократизации. Некоторые авторы даже утверждают, что главной причиной китайских хозяйственных успехов стало именно то, что руководство КНР воздержалось от проведения соответствующих демократических преобразований**. При этом очень часто проводится сравнение с неудачным опытом Советского Союза, в котором темпы демократизации превысили скорость экономической модернизации, что в конечном итоге привело к его краху. Сторонники данной точки зрения отмечают также, что китайская политика реформ осуществлялась в стране с более чем миллиардным населением, и резкое изменение политического ландшафта в данной ситуации способно дезориентировать сотни миллионов человек, подорвать экономическую стабильность и даже превратить великую державу в источник потенциальной опасности для ее соседей. На деле китайская модернизация — это комплексный и многоуровневый процесс социальных преобразований, который предполагает не только масштабный экономический прогресс, но и значи* Рассчитано по: Статистический ежегодник КНР за 2009 г., Пекин: Национальное статистическое бюро КНР, 2010 (на кит. яз.). ** См.: Shirk, Susan. The Political Logic of Economic Reform in China, Berkeley (Са.): UCLA Press, 1993. 120 Демократия в Китае: вызов или шанс? тельные политические и культурные перемены. Политический фактор экономических перемен оказался в Китае даже более значительным, чем во многих западных странах. Мао Цзэдун, глубоко понимавший социальные и исторические традиции китайского народа, четко утверждал: «Политика — это командир, душа и кровь любых экономических задач»*. Без политической реформы китайская экономическая модернизация никогда не принесла бы ее нынешних результатов — и это получило подтверждение на всех этапах продвижения Китая по пути реформ и открытости. Новый курс Китая был предопределен масштабной политической реформой, начатой тридцать лет назад. Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва, ставший отправной точкой для китайских экономических преобразований, по сути был и политической реформой, инициированной Коммунистической партией Китая. Принятые на пленуме решения реорганизовали внутреннюю структуру КПК и изменили как политические принципы ее функционирования, так и основные задачи и цели. Без этих политических перемен никакие дальнейшие экономические и структурные преобразования были бы невозможны. Большинство западных исследователей пытаются оценить политическую систему Китая исходя из устоявшихся представлений о демократии, предполагающих практику многопартийности, всеобщее избирательное право, комплекс сдержек и противовесов, и поэтому приходят к выводу, что реформы, проведенные в КНР в последние десятилетия, носили преимущественно экономический, а не политический, характер. В этом, на мой взгляд, содержится неправильный акцент, приводящий к ошибочному умозаключению, на чем я остановлюсь ниже. Одновременно с изменениями в экономической структуре политическая жизнь в Китае также подверглась радикальному реформированию. Повторю: на мой взгляд, влияние политической системы на экономическое развитие было и остается в КНР более существенным и значимым, чем в большинстве западных стран. Без системной политической реформы экономические перемены были бы невозможны — и это важнейший урок, который мы можем извлечь из опыта китайской модернизации. Дэн Сяопин, провозвестник и архитектор политики реформ и открытости, хорошо это понимал. Он отмечал: «Если нам не удастся провести эту [политическую] рефор* Mao Цзэдун. Собрание статей, Пекин: Народное издательство, 1996, с. 351 (на кит. яз.). ** Дэн Сяопин. «Реформа системы управления партией и государством» в: Дэн Сяопин. Избранные труды, Т. 2, Пекин: Народное издательство, 1983, сс. 320, 343 (на кит. яз.). 121 Юй Кэпин му, мы не сможем закрепить результаты экономических преобразований… Без политической реформы реформа экономическая не даст позитивного результата; анализ показывает, что успех всего комплекса китайских реформ зависит от результативности и эффективности политических преобразований»**. И действительно, реализация реформ и политики открытости в Китае представляла и представляет собой комплексный процесс, включающий изменения, которые затрагивают экономические, политические и культурные аспекты жизни китайского общества. Важнейшей предпосылкой политической реформы и демократического строительства стало изменение политической идеологии. Дэн Сяопин считал «перемену в мыслях» главным условием успеха не только экономических, но и любых других преобразований. «Освобождение сознания» он называл первой из задач, которая должна быть решена при движении по пути реформ. Он утверждал также: «Наше следование по пути четырех модернизаций не приведет к цели, если только упрощенное мышление не будет отброшено в сторону, а сознание как профессиональных кадров, так и широких масс не будет полностью освобождено»*. Упрощая, можно сказать, что такая эмансипация сознания предполагает разрыв со старыми догмами и устаревшими представлениями, развитие таких оригинальных теорий и формирование современных концепций на основе учета нового опыта, которые могли бы формулировать запрос на принципиально новые общественные практики и институты. Китайские реформы последних тридцати лет прекрасно иллюстрируют, в какой степени изменение господствующих в обществе представлений и идей связано с общественно-политическим развитием. В определенном смысле все китайские реформы являются следствием столкновения между идеологемами традиции и новизны. Именно в процессе борьбы новых идей с устаревшими и происходит развитие общественных институтов и повышение уровня жизни. На «макроуровне» величайшей заслугой Коммунистической партии Китая за годы реформ стало формирование идеологической системы, сочетающей преимущества социализма с определенной китайской национальной спецификой. К ней относятся «теория Дэн Сяопина», важные суждения относительно «трех представительств», а также «научный взгляд на развитие». Первая состоит из ряда концептуальных положений, развенчавших ортодоксальную социалистическую экономику и потребовавших кардинального * Дэн Сяопин. «Освобождая наше сознание, ища истину в фактах и объединяясь в стремлении к будущему» в: Дэн Сяопин. Избранные труды, Т. 2, с. 143. 122 Демократия в Китае: вызов или шанс? реформирования экономической системы с учетом рыночных факторов, открытости миру и специфики китайского пути развития. Вторые были озвучены Генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем и указывают, что Коммунистическая партия представляет не рабочий класс, как это традиционно считалось, а тенденцию к развитию китайских производительных сил, прогресс китайской культуры и науки, интересы подавляющего большинства населения КНР. Третий, провозглашенный Ху Цзинтао, ставит на первое место в концепции развитие человека, постулируя необходимость придания развитию устойчивого характера и соблюдения баланса между экономикой, политикой и культурой, а также между обществом и окружающей средой. С точки зрения политической теории «освобождение сознания» не только предполагает, что новые идеи приходят на смену старым; этот процесс заметно влияет на социально-политическую жизнь Китая и подталкивает развитие китайской демократии. Идеи, которые получают в последние годы самое широкое распространение, включают в себя ориентированную на нужды народа систему управления, соблюдение прав человека, гарантии неприкосновенности частной собственности, верховенство закона, развитие институтов гражданского общества, придание государственному управлению инновационного характера, учет реалий глобализации, эффективное управление, политическую цивилизованность и стремление к построению гармоничного общества. Хочу заметить, что большая часть этих идей заимствована из арсенала западной политической мысли, которая до начала периода реформ критиковалась, а порой даже была запрещена как воплощающая капиталистическую идеологию*. Революционные перемены в китайской идеологии и китайской экономической системе спровоцировали серьезное развитие политической сферы. За последние шестьдесят лет акценты в политических дискурсах сместились от революции к реформам, от борьбы к гармонии, от диктатуры к демократии, от управления страной личным примером правителя к управлению в соответствии с законом, от абстрактного «государства» к живому и конкретному обществу. Сегодня, тридцать лет спустя после начала реформ, политическое развитие Китая постепенно, но неуклонно идет в сторону демократизации. Коммунистическая партия Китая считается уже не революционной, а правящей партией. Функции партии и прави* Подробнее см.: Юй Кэпин. Освобождение сознания и политический процесс, Пекин: Академическое издательство по общественным наукам, 2008 (на кит. яз.). 123 Юй Кэпин тельства все более обособляются, а деятельность партии ограничивается в рамках государственных законов. Относительно независимое гражданское общество шаг за шагом завоевывает все более значимое место в ходе принятия политических и социально значимых решений. Принцип верховенства закона и равенства всех граждан перед законом официально объявлен фундаментальной целью Коммунистической партии и китайского народа. Идет всеобъемлющая правовая реформа. Прямые выборы стали привычной политической процедурой и практикуются сегодня в большинстве сельских поселений. Права человека впервые гарантируются Конституцией страны. В то же время китайская политическая реформа в общем и целом остается реформой системы управления. Ее фокус сконцентрирован на улучшении государственного управления, на приближении его к решению насущных проблем граждан, повышении качества предоставляемых услуг, устранении излишних функций, рационализации, упрощении и демократизации системы принятия решений, расширении совещательной демократии и увеличении степени прозрачности и предсказуемости принимаемых политических решений. Если бы вышеуказанные позитивные изменения в китайской политической системе обращали на себя должное внимание иностранных аналитиков, те не приходили бы к выводу, что политическая легитимность Коммунистической партии и китайского правительства базируется исключительно на успешном экономическом развитии и вытекающем из него поступательном повышении жизненного уровня граждан. Не стоит также забывать, что одно лишь формальное внедрение «демократического» способа управления, основанного на всеобщем избирательном праве и прямых выборах главы государства, не имеет ничего общего с политической легитимизацией и обретением народного доверия. Так что изображать успехи Китая как пример азиатского «просвещенного деспотизма» — значит осознанно идти на искажение истины. Напротив, уроки китайских реформ и модернизации — как позитивные, так и негативные — указывают, что сами по себе экономическое развитие и повышение уровня жизни не могут ни легитимизировать политический режим, ни гарантировать стабильную поддержку власти со стороны народных масс. Внимательный анализ поступающих данных показывает, что сегодня самыми серьезными вызовами легитимности китайских 124 Демократия в Китае: вызов или шанс? властей (или, иначе говоря, вызывающими наибольшее недовольство народа правительством) являются вовсе не темпы экономического роста, а такие социальные проблемы, как растущее неравенство, углубляющийся разрыв в возможностях социальной самореализации для богатых и бедных, сохраняющаяся коррупционность государственных служащих, социальная нестабильность в сельских районах, высокие уровни распространения преступности, деградация окружающей среды и несовершенство природоохранных стандартов, а также пренебрежительное отношение к правам человека. Преодоление этих проблем не будет достигнуто посредством одного только экономического развития; категорическим императивом здесь выступает совершенствование практик демократического управления. Именно поэтому Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинтао указывает на значимость «научного развития», суть которого состоит в скоординированной, всеобъемлющей и устойчивой политике развития, дополняемой самыми передовыми приемами и методами в политической, экономической, культурной, социальной и экологической сферах*. По той же причине премьер Вэнь Цзябао постоянно подчеркивает, что демократия и верховенство закона, наряду с равенством и справедливостью, являются фундаментальными ценностями подлинного социализма**. В то же время следует признать, что китайский тип политического развития — и в первую очередь демократизация политической жизни — существенно отличается от общепринятой на Западе демократической традиции. Эти отличия естественны и не должны восприниматься как антагонистические, учитывая различный исторический и культурный контексты, в которых развивались восточная и западная цивилизации; и потому попытки трактовать китайскую версию политической демократизации в категориях западной демократической теории представляются тупиковыми. В свою очередь, основываясь на постулатах последней, сложно признать, что политическая система современного Китая эволюционирует в направлении большей демократии. Ведь западные теории демократии предполагают, что важнейшими ее признака* Ху Цзинтао. «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новую победу в деле полного построения среднезажиточного общества» (доклад XVII съезду КПК); см.: http://russian.china.org.cn/china/archive/shiqida/2007-10/25/content_9120930.htm ** Вэнь Цзябао. «Доклад о работе правительства на открытии 5-й сессии Всекитайского Собрания народных представителей 10-го созыва 5 марта 2007 г.» (см.: http://russian.china. org.cn/news/txt/2007-03/06/content_7911282.htm). 125 Юй Кэпин ми являются многопартийная система, всеобщее и прямое избирательное право, а также разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, — и отсутствие хотя бы одного из этих признаков автоматически лишает политическую систему шанса считаться демократической. Согласно этим стандартам Китай несомненно не принадлежит к «демократическому лагерю», как не может он считаться и членом «глобального демократического сообщества». В своем изначальном понимании «демократия» — это «народное управление». Поэтому главным критерием, позволяющим судить, является ли то или иное государство «демократическим», выступают ответственность правительства перед гражданами и его чувствительность к их нуждам и потребностям, а не три вышеуказанных признака, столь часто упоминаемых западными учеными. В этом смысле «демократия» — это скорее континуум, чем дихотомия. Пока страна обладает институтами, гарантирующими отражение политикой правительства интересов и стремлений народа, участие масс в политической жизни и принятии политических решений, а также ответственность власти перед народом, ее следует считать демократической — вне зависимости от того, какая существует в ней партийная система, каковы электоральные практики и каким образом находится баланс законодательной, исполнительной и судебной властей. Именно поэтому руководители Китайской Народной Республики и большинство китайских ученых настаивают, что Китай не обязан имитировать или копировать демократические системы западных стран, но может и должен создать модель демократического управления с китайскими характеристиками и тем самым проводить в жизнь ту версию демократии, которая в наибольшей степени соответствует и его культуре, и потребностям его народа. Что же предполагает демократия с китайской спецификой? Коммунистическая партия Китая предлагает четыре элемента демок* Сегодня в КНР функционируют восемь партий демократической направленности, которые Коммунистическая партия считает «субъектами политической консультации и соучастницами в политической жизни Китая». В их число входят: Революционный комитет Гоминьдана, Демократическая лига Китая, Ассоциация демократического национального строительства Китая, Ассоциация содействия развитию демократии Китая, Рабоче-крестьянская демократическая партия Китая, Партия Чжигундан Китая, Общество «Цзюсань» и Лига демократической автономии Тайваня (подробнее см.: http://russian.china.org.cn/china/ archive/politics/txt/2005-09/08/content_2032129.htm). Все они были основаны в 1925– 1946 годах и по состоянию на начало 2000-х годов насчитывали от 60 до 200 тысяч членов. — Прим. перев. 126 Демократия в Китае: вызов или шанс? ратии: демократические выборы, демократическую процедуру принятия решений, демократическое управление и демократический надзор. Однако по мере того, как демократические выборы получают все большее распространение, китайское правительство начинает концентировать внимание на политических дискуссиях и обсуждениях, в силу чего некоторые китайские исследователи характеризуют специфически китайскую демократию как «совещательную», или консультативную. Китай сегодня продолжает настаивать на сохранении доминирующей власти Коммунистической партии и не считает нужным вводить классическую многопартийную систему или парламентскую демократию. Однако современный Китай не является авторитарной однопартийной системой, а представляет собой систему, основанную на «многопартийном сотрудничестве и политической консультации под руководством Коммунистической партии»*. Китай также не обладает полномасштабной системой сдержек и противовесов, разделяющей законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, но при этом в стране гарантируется относительная независимость законодательных, исполнительных и судебных институтов, которые образуют три автономные системы власти. Идеологически марксизм по-прежнему занимает доминирующее положение среди школ политической мысли в Китае, но другие идеологемы также существуют в стране, что дает основание говорить об уникальном сосуществовании унитарной политической идеологии и плюралистических политических теорий. Кроме того, касаясь взаимоотношения между военными и политиками, что крайне важно для демократии, следует отметить, что в Китае всегда существовало гражданское правительство, жестко контролировавшее военных, которые были лишены возможности вмешиваться в определение политического курса. Заметим также, что отношения между государством и обществом становятся более комплексными, а участие жителей страны в гражданских акциях — все более привычным фактом. Однако в той же степени, в какой развитие китайской экономики направляется государством, китайское гражданское общество также формируется под его влиянием, и большинство некоммерческих организаций не обладают пока еще тем независимым статусом, который имеется у их западных аналогов. * Это выступление впоследствии было переработано автором и издано в виде отдельной книги как в Китае, так и на английском языке в США (см.: Keping, Yu. Democracy is a Good Thing: Essays on Politics, Society, and Culture in Contemporary China, Washington (DC): Brookings Institution Press, 2008). — Прим. перев. 127 Юй Кэпин После публикации моего доклада «Демократия — это вещь хорошая»* среди китайских политологов и экспертов началась и продолжается до сих пор яростная дискуссия по проблемам демократии. Основные ее темы состоят в том, является ли демократия «универсальной ценностью»; все ли демократии имеют фундаментальные общие черты, и каково взаимоотношение между универсальными и особенными чертами демократии. С тех пор я неоднократно в статьях и выступлениях подчеркивал, что демократический метод политического управления — это явление, универсальное для всего мира, присущее и естественное для всех человеческих существ и имеющее гораздо больше общих, нежели особенных черт. Однако вследствие того, что реализация демократических норм требует специфических экономических, политических и социальных условий, и эти условия в разной степени имеются в той или иной стране и в тот или иной период времени, демократия в различных государствах всегда обладает своими уникальными особенностями. Любая демократическая система — это сложный симбиоз универсальных и специфических черт, проявлений общего и особенного. Не следует исходить из того, что демократия может проявляться лишь в некоей одной форме, в которой были бы воплощены ее универсальная ценность и характеристики, общие для любой ее модели. Мы не можем и не должны отрицать специфические особенности демократических режимов лишь для того, чтобы отдать должное ее универсальному характеру. В то же время было бы большой ошибкой не принимать во внимание фундаментальные общие черты, присущие любой демократической системе, и отрицать универсальные принципы демократии, абсолютизируя лишь ее национальные особенности, проявляющиеся в различных странах. Поэтому совершенно неправильно утверждать, что китайская демократия в большей мере отлична от демократических практик других стран, чем сходна с ними. Демократическое устройство, к построению которого стремится народ Китая, также предполагает открытые выборы, контроль за действиями исполнительной власти и участие граждан в выработке управленческих решений — однако и эти выборы, и этот контроль, и это участие, несомненно, будут организованы с учетом китайской специфики. Сущность демократии заключена в народном самоуправлении — в том, что граждане становятся хозяевами своей собственной судьбы, что закрепляется совокупностью норм и институтов, гарантирующих жителям страны основные демократические сво- 128 Демократия в Китае: вызов или шанс? боды. И независимо от того, какую партийную и электоральную систему, равно как и систему сдержек и противовесов, предпочтет та или иная страна, до тех пор, пока она практикует управление со стороны народа и в интересах народа, она должна рассматриваться как обладающая демократической системой власти. Главным критерием тут выступает степень, в которой люди на деле являются хозяевами собственной судьбы, та степень, в которой они реально имеют доступ к рычагам государственной машины, и та степень, в которой эта машина восприимчива к реальным потребностям, нуждам и интересам человека. Именно эти факторы должны стать фундаментальным критерием определения демократичности существующей политической системы и оценки реального прогресса той или иной страны в движении по пути демократизации. В заключение хотел бы отметить, что одной из самых насущных задач, стоящих перед современным Китаем, является не только переосмысление традиционных теорий «социалистической демократии», но и критическое усвоение западных представлений о демократическом процессе. Модель развития, воспринятая Китайской Народной Республикой, сегодня не является чемто завершенным и сталкивается с серьезными проблемами и вызовами. И демократические практики, принятые в Китае сегодня, отличаются — и не могут не отличаться — как от советской модели, так и от представительной демократии, практикуемой в европейских странах. Китайская демократия — не только продукт китайской модернизации, но и ее естественная составная часть. Она поддерживает процесс модернизации всех сторон жизни китайского общества и вносит важный вклад в обеспечение социальной стабильности, защиту базовых прав человека и укрепление контроля за действиями исполнительной власти на общегосударственном и местном уровнях. Для современного Китая демократия — это и новый вызов, и новые возможности; при этом возможности намного превосходят опасности, привносимые вызовом. И я уверен, что специфически китайская демократия, вырастающая из потребностей китайского общества с его вековыми традициями, не только обеспечит процветание народу Китая, но и внесет свой вклад в развитие демократических теории и практики во всем мире. Перевод В. Иноземцева 129 Юй Кэпин Источники Дэн Сяопин. «Освобождая наше сознание, ища истину в фактах и объединяясь в стремлении к будущему» в: Дэн Сяопин. Избранные труды, т. 2, Пекин: Народное издательство, 1983 (на кит. яз.). Дэн Сяопин. «Реформа системы управления партией и государством» в: Дэн Сяопин. Избранные труды, т. 2, Пекин: Народное издательство, 1983 (на кит. яз.). Mao Цзэдун. «O новой демократии» в: Mao Цзэдун. Избранные труды, Пекин: Народное издательство, 1969, сс. 662–711 (на кит. яз.). Mao Цзэдун. Собрание статей, Пекин: Народное издательство, 1996 (на кит. яз.). Статистический ежегодник КНР за 2009 г., Пекин: Национальное статистическое бюро КНР, 2010 (на кит. яз.). Cунь Ятсен. «Очерки о демократии и другие труды» в: Cунь Ятсен. Полн. собр. соч., Пекин: Издательство Чжон Хуа, 1986 (на кит. языке). Юй Кепин. Освобождение сознания и политический процесс, Пекин: Академическое издательство по общественным наукам, 2008 (на кит. яз.). Keping, Yu. Democracy is a Good Thing: Essays on Politics, Society, and Culture in Contemporary China, Washington (DC): Brookings Institution Press, 2008. Shirk, Susan. The Political Logic of Economic Reform in China, Berkeley (Са.): UCLA Press, 1993. 130 Демократия и ее использование в России Глеб Павловский, Президент Фонда эффективной политики (Россия) Режим Владимира Путина — проклятая проблема теории демократии. И не потому, что его так уж трудно классифицировать. Этот режим не ищет публичных обоснований — но всегда болезненно реагирует на упрек в их отсутствии. И когда, после пяти лет безыдейности, функционер режима Владислав Сурков решил как-то определить его доктрину — как суверенную демократию — это не вызвало восторга ни у кого. Иммануэль Валлерстайн как-то указал на «пропасть… между теми, кто намерен расширять свободу большинства и свободу меньшинств — и теми, кто создает систему несвободы, делая вид, будто выбирает между свободой большинства и свободой меньшинств». Это важное различение. Полоса перемен в России после 2000 года связана с именем Путина и с понятием «большинства». Объединяющий термин «путинское большинство» появился поначалу как пропагандистский, но со временем получил почти институциональную роль в обосновании нового режима. Оправдываясь политически, Россия всегда апеллирует к голосу и правам большинства. При этом втайне ее власти убеждены, что меньшинства в России куда более значимы (правда, список этих значимых, элитарных меньшинств никто не хочет оглашать). Риторика власти в прошлое деся- 131 Глеб Павловский тилетие была классически плебисцитарной, и все политические повестки подменялись одной — отношением к Путину. Но власти наращивали число опекаемых меньшинств, и снимая одни ограничения для себя, тут же устанавливали другие — не становясь на более простой путь плебисцитарного господства в стиле Уго Чавеса. Без демократии Россия слишком разнообразна для самой себя Ценность демократической системы — в ее способности решать «неразрешимые» проблемы нации. Сложность, разнородность России всегда считались препятствием для ее демократического развития. Нет недостатка в теоретиках, доказывающих, что Россия исторически «непригодна» для демократии, что народ для нее не годится. Однако правда состоит в том, что Россия — одно из самых многообразных обществ на планете. Ее народы, говорящие более чем на двухстах языках, заселяют земли, на которых другие народы тоже живут веками. Мультикультурность, разнообразие народностей и вер — основа российской жизни, веками искавшей для себя подходящий государственный принцип. Для России, страны крайне многообразной, защита религиозных, этнонациональных и культурных сообществ является государственной задачей. Любое руководство обязано сглаживать противоречия между внутренними сообществами. И российское национальное единство начало впервые возникать на демократической основе. Вопреки скептикам, Россия нашла свой путь к демократии. Национальное строительство, не состоявшееся ни в имперское, ни в советское время, теперь ведется на демократической основе. Когда страна с таким разнообразным прошлым переходит на новые рельсы, это рубеж для истории и теории демократии. Демократия не сможет превратиться в долгосрочный глобальный мейнстрим, не охватив народы России. Это непредвиденный даже для нас успех демократии. Российский демократический выбор — наверное, самый часто критикуемый выбор. Подозрение к нему считается нормой, а его некорректность — аксиомой. В этом повинны не только слабости и ошибки (иногда преступные) демократического строительства в России, но и некоторые идолы современного демократического разума. Иные из них порождены «холодной войной» и понятны, хотя и чувствительны — ведь Россия лишь временно затаившийся и ослабленный враг. Иные восходят к пресловутому переживанию «России как Другого Европы» — и здесь особенно часто критика 132 Демократия и ее использование в России России превращается в практику «расизации русского». Высокомерие «демократической ортодоксии» опасно для демократической теории и практики — ведь сто лет назад высокомерие «социал-демократической ортодоксии» Европы привело к мировой войне и бедствиям национализма. Проблема состоит в том, что теоретики демократии обычно принадлежат к демократическим обществам, и их теория — это теория своих обществ. Но что делать с теорией демократичекого развития тем, кто лишь нащупывает новую идентичность? Кто предъявляет теоретическую рефлексию опыта собственных обществ, лишь ищущих стратегию своего развития? Никто не возражает против построения теории своего общества в универсальном мировом контексте. Но как это сделать России? О политической актуальности прошлого опыта Проект и процесс возникновения Европейского Союза никогда не упускает «исторического обоснования» — исключения войн, опыта ХХ века, табу на повтор схватки национализмов. Однако в отношении России аналогичное обоснование отвергается, хотя новая Россия гипертрофированно исторически мотивирована. При возникновении России исторический сверхаргумент имел (и сохраняет) огромное влияние. Нельзя понять российскую демократию, не проанализировав поле скрытых исторических ее травм и табу, к которым относится и самый момент ее возникновения — 1990–1991 годы. Что является российским «никогда больше», аналогичным европейскому? Сильно упрощая, можно сказать, что при рождении России возник ряд сильных табу, в дальнейшем перешедших в ее государственное мышление. Среди них есть довольно простые — например то, что никакая власть не должна испытывать лояльность людей, десятилетиями навязывая им одни и те же лица во власти. Столь явно демонстрируемое неравенство руководителей и руководимых для выросших в СССР имеет имя — «табу на Брежнева». Другую популярную, хотя и скверно концептуализированную аксиому можно назвать «табу на 1991 год», когда мы все увидели, что последствия неверных и некомпетентных решений превышают контролирующие способности их принимающих. В государственном строительстве новой России этот риск становится центральной темой уже к середине 1990-х годов. В России главными неприятностями оказались сами реформы — и граждане потребовали застраховать их от возможности их возоб- 133 Глеб Павловский новления в прежней, садистской форме. Цена этой услуги оказалась высока — но и свой страх они оценили высоко. Государство должно было спасти их от возвращения ужаса, и когда Путин заявил, что несет ответственность «за все что происходит в стране», он сделал одно из самых важных, далеко идущих политических заявлений. Отказ обсуждать историю демократии в России как теоретически значимый опыт сделал ее опыт невидимым. Российская демократия лишается теоретического статуса, а следовательно значения и новизны. Побочно это ведет к тотальной политизации предмета, и тогда демократия в России начинает рассматриваться как искусственная, подложная конструкция. Однако любая критика демократии в России упирается в отсутствие описаний среднего уровня. Любые концепции уличают то в апологетике, то в гиперкритицизме, но важно, что никакие толкования — даже официально апологетические — не становятся значимым фактором политических дебатов. Кремль как think tank Как вообще вышло, что со второй половины 1990-х годов из всех мест концептуальной инициативы актуальным остался think tank Кремль? Говорят, что в России нет инноваций. Одна все же есть — это сама Россия. Которую двадцать лет назад объявили, а Владимир Путин реализовал — та самая суверенная демократия, за которую Кремль клеймят общественные активисты. Российское общество выросло в новую нацию, спасаясь в не советских, но и не национальных границах — где нации прежде не существовало. Общество решило задачу государственного выживания народа после катастрофы, им же самим накликанной, а решение этой задачи вырастило ожесточенный и не слишком просвещенный правящий класс — сегодня сам для себя ставший политической проблемой. Обычной ошибкой является упрощение стратегии российской власти, сведение ее к серии попыток сохранить монополию. Разумеется, и этот мотив присутствует в полной мере. Но он не дает ключа к постоянному колебанию Кремля между соблазном использовать популизм и страхом оказаться во власти популистской политики. С точки зрения Кремля, Россия управляется так, чтобы избежать исторически общеизвестных, и тем не менее повторяемо катастрофичных, решений народа и власти. Система ищет защиту не только от эталонных безумств толпы, но от эталонных безумств исполнительной власти. Недоверие руководителей страны к собственному аппарату — важный мотив сохранения его интереса к 134 Демократия и ее использование в России демократическим практикам. Поэтому администрация президента и оказалась местом выработки стратегий общественного развития. Монополизируя инициативу, она представляет предельный на данный момент уровень общественной компетентности. На первый взгляд, нетрудно отличить теорию от пропаганды, особенно злонамеренной — но существует методологический дефицит применения демократической теории. Он коварен, хотя обозначить его легко: потеря корректного различения теорий демократии и практик их использования. То, что порой «продвинутым пользователем» теории является сам теоретик, только ухудшает дело. Консультируя власти, оказывая влияние на составление рейтингов и выступая в роли публичного интеллектуала, такой теоретик становится политиком. Используя собственную теорию, он неявно модифицирует ее, ступая на скользкий путь. Тогда вдруг теория полиархии из важного и обоснованного знания превращается в мистическую акциденцию «воюющих демократий» и обосновывает директивы «демократизации» (что иллюстрирует цитата из выступления Джозефа Байдена в Тбилиси в июле 2009 года: «мы стоим за тот принцип, что суверенные демократии имеют право принимать собственные решения»). Говоря это, вице-президент США и не думал присоединиться к концепции суверенной демократии Владислава Суркова, которую, впрочем, резюмировал точно и лаконично. Замечу: личность и тексты Суркова поясняют философию, объединившую команду Кремля во что-то большее, чем политический интерес. Ее подоплека — определенный тип использования демократии, зародившийся вместе с концептом «демократической и суверенной России». Двадцать лет назад эта модель сложилась в систему власти. Власти, которая изобрела себя и страну, и поэтому видит себя уникальной. Не обязательно «наилучшей», а несравненной — ей не с кем себя сравнить. В чем эта уникальность российской власти? Прежде всего, в ее прошлых успехах. В прошлом любая экстремальная задача решалась силами команды, собранной ad hoc — и вот, последняя из таких команд поныне правит Россией. Естественно, она уверена, что и в будущем любая задача может быть решена так же. Кремль не опасается упреков в «дефектной демократии» — ведь именно дефекты в прошлом становились стимулом к успешной экспансии в иную область. Но этот волюнтаризм — волюнтаризм сомневающийся. Государство само для себя вечно находится под вопросом. Как бы население ни доверяло этому государству, правящая группа-модератор в этом сомневается. Власть постоянно решает задачу возобновления единства государства как отдельную, специальную технологическую задачу. 135 Глеб Павловский Непризнанная работа демократии Новой России теоретически не повезло. Она вышла на арену в момент, когда исчезла единственная причина прислушиваться к концепциям из Москвы, а именно Советский Союз. Европейскую эйфорию 1989 года, создавшую новую идеологию Запада, Россия почти не заметила. В Москве эту сенсацию вытеснила другая. Идея независимой суверенной России формируется осенью-зимой 1989 года вне связи с происходящим в Европе. 1989 год превращает демократию в идеологию нового мира. Россия в это же самое время принимает демократию — но лишь как пароль национального суверенитета. Концептом демократии Москва 1989-го обязана не Западу 1989-го, а советскому лозунгу — «больше демократии — больше социализма!». Лозунг демократии не объединяет с Европой. Здесь возникают скрытые поначалу ножницы понимания демократии. Но и Путину теоретически не повезло. Его режим озадачил теоретиков, но мало ими осмысливался — хотя отсутствие интерпретаций в какой-то степени являлось параметром самого режима. Первые годы его идеология состояла из суммы случайных интерпретаций, иногда просто газетных реплик и отшучиваний, вроде «управляемой демократии». Однако общество было настроено еще более антиидеологично. Чувствуя это, Путин избегает идеологем. Обсуждение режима ведется в терминах конструктивизма, преднамеренности и воли, доброй или злой. Считается, что он строился намеренно, что у него был проект, и отсюда — что автор режима волен был заменить любую его конструкцию. Удивительным образом теоретики попадали в зависимость от мифа о всемогуществе Путина, который они же и разоблачали. Ощущение всемогущества ложно, хотя возникло рано, в первый же путинский год. У него нет никаких оснований и подтверждений, кроме самого факта победы Путина на выборах, все еще казавшейся удивительной. Победы несомненным большинством, возникшим будто бы ниоткуда. Стратегии использования «большинства» в 1980-е и 1990-е годы Уже накануне возникновения новой России, еще в СССР Михаила Горбачева, «прогрессивное большинство» предполагалось наличествующим, готовым. Это индуцировалось идеологией советской системы — системы всенародного, как тогда говорилось, «подавляющего 136 Демократия и ее использование в России большинства»*. Большинства, предшествующего любым возможным выборам и не совершающего никакого выбора, поскольку оно определено через прежний. Горбачев, начиная перестройку, предлагал не задевать «социализм — наш исторический выбор». Все это означало, что выбор советских людей давно совершен другими людьми, и нынешним не нужно делать его вновь. В новых условиях это «подавляющее большинство» стало консолидироваться вокруг Горбачева, тоже рассматривая себя как безальтернативное. «Перестройке нет альтернативы!», «Иное не дано!» — вот тогдашние лозунги демократов. Лидер действует, а большинство — нет, реализуя политическую волю символически, через лидера. В свою очередь, внутри советского «подавляющего», никем не подсчитанного большинства, помещались группы доверия лидеру, поначалу также, вероятно, составлявшие большинство. Оба эти большинства были реальными. Последний замер советского «всенародного большинства» на референдуме 1991 года показал, что оно и в конце перестройки составляло около трех четвертей всей страны. Утопией демократического движения конца 1980-х был консенсус. Бэкграундом этой утопии было как раз советское «подавляющее большинство». Всенародный консенсус рассматривался и как обоснование легитимности политики и принимаемых решений, и как механизм прямого вовлечения людей в политику. Коль скоро «консенсус» всенародный, это значит, что все — или почти все — вовлечены в демократическое строительство: демократия как бы уже состоялась. «Мы за дискуссии», утверждал Горбачев, но они не должны (хотя могли бы) создавать альтернатив. Неприемлемо превращение чьего-то мнения в платформу, антипатичен раскол «консенсуса». В этом — глубочайшее заблуждение Михаила Горбачева, которое исходило из абсолютно фундаментальной для него утопии: в рамках консенсуса — что угодно, за пределами его — ничего (кроме танков). А их Горбачев оказался не способен масштабно применить. Режим Горбачева рухнул — но утопия консенсуса осталась всем нам в наследство. Борис Ельцин стал новым вождем именем консенсуса. Что бы он ни говорил про демократию, он мыслил горбачевским «консенсусом» — большинством, которое арифметически незначимо. Оно может уменьшаться, или его даже вообще может не быть — как при голосовании за Конституцию в 1993-м году, но считается, что большинство есть. А остальные 40% или почти 50% вообще незначимы, они не альтернати* Выражение «подавляющее большинство» не считалось в СССР негативным или угрожающим термином. 137 Глеб Павловский ва. А если они претендуют на альтернативу, противовес им — танки. Президент — фигура консенсуса и правит именем консенсуса. Власть главы государства видится как особая власть, отличная от всех остальных — власть, устанавливающая иные власти, не неся ответственности за их действия. Вся политика ведется именем консенсуса. Отсюда лозунг: «президенту нет альтернативы». Как только возникает идея политики именем большинства, «всенародное большинство» обязано быть консенсусным. Иного не дано. Российское «сверх-счетное большинство» ни разу не определялось на выборах — оно им предшествовало. Символ «сверх-счетного большинства» находит себе выражение в социологических рейтингах президента. С 1992 года понятие «рейтинг президента» входит в политический лексикон и превращается в фетиш. В октябре 1993 года эта мантра является открытым политическим аргументом в борьбе Ельцина против Верховного Совета — но уже на декабрьских выборах того же года попытка спроецировать прежнее «большинство» в большинство парламентское провалилась. Успех сопутствовал Владимиру Жириновскому, и возник расколотый парламент, в котором составить большинство было трудно. Ельцин потерял интерес к Думе и особенно — к развитию партийной системы (одно время в его кругу обсуждался проект «департизации» Госдумы). Началось противостояние Думы и Президента как двух претендентов на «большинство» (слабостью Думы здесь было то, что в любом случае думское большинство оставалось в том или ином смысле коалиционным). Остающийся без собственного большинства Президент, не находящий такового парламент — все пытались апеллировать к некоему мифу «народного доверия», и скоро стало ясно, что единственная возможность получить «безальтернативное большинство» — это президентские выборы. Те, кто голосовал в 1996-м за Ельцина, не выбирали его как своего лидера — они вотировали сам институт президентского единовластия именем «большинства». Они утверждали: в стране должна быть «безальтернативная» власть, и на месте этой власти пусть уж лучше будет Борис Ельцин, чем Геннадий Зюганов или президентский силовик Александр Коржаков. После выборов — и до 1999 года — «демократическое большинство» становится виртуальным. Но о нем никогда не забывают. Замеры рейтингов Президента и других институтов власти превращаются в политический конвейер с ясным плебисцитарным подтекстом. Разрабатывается система индикаторов «большинства», которого, увы, нет, но которое обязано быть властью. Всю историю Михаила Горбачева и Бориса Ельцина можно описать — разумеется, это будет односторонний срез — как драматур- 138 Демократия и ее использование в России гию борьбы за ускользающий консенсус, однажды находимый, тут же утрачиваемый и снова взыскуемый. История Владимира Путина — это история обретенного консенсуса. А тандем — это отказ от консенсуса, поначалу неочевидный для него, но добровольный. Здесь, может быть, начинается следующая драма. Уход Ельцина и плебисцитарный характер «путинского большинства» К концу второго президентского срока Ельцина единственным призом для участвующих в игре становится власть именем большинства. Все участники выборов 1999–2000 годов готовятся к обретению безраздельной, безальтернативной власти — хотя ее в реальности нет. Во власти ничто не работало, но политический класс мечтал о «новом большинстве». Эта философия была характерна практически для всех групп, за исключением, возможно, «Яблока». И никакой разницы между коммунистами, лужковцами, правыми реформаторами и ельцинистами в этом вопросе не наблюдалось. Демократическая повестка 1999 года выглядела парадоксально — уход Ельцина, завершение его полномочий должно произойти таким образом, чтобы сработала Конституция, хочет она того или нет. Здесь уже заложен парадокс «управляемой демократии». С одной стороны, сохранение демократической Конституции и конкурентных выборов, с другой — принципиальное решение о режиме управления демократическими институтами, надстраиваемом над ними. Но кем мог бы осуществляться такой контроль? Только тем, кто сумеет навязать игру по конституционным правилам — и выиграть легитимно. Так команда, собравшаяся вокруг уходящего Ельцина и приходящего Путина, обретала особый пафос — самосознание «хранителей Конституции», неформально охранящих «будущее» российской модели демократии. Стандарты демократии не были отменены — они были оспорены и отчасти отложены, так как модерирование рассматривалось как временное состояние, созданное неконституционными посягательствами противников Ельцина. Желанное «новое большинство» действительно появилось, первоначально в виде электорального чуда — взрывного роста поддержки Путина Здесь свою роль сыграла «военная» атмосфера выборов 1999 года, возникшая даже раньше вторжения Шамиля Басаева в Дагестан — начиная с весенней войны НАТО против Югославии. Свою роль сыграла и эмоциональная разрядка избирателя — увидевшего в Путине человека, способного эффективно и бесконфликтно «избавить страну от Ельцина». Военная атмосфера выявила новый 139 Глеб Павловский акцент большинства: это большинство за «единство страны». Большинство материализовалось, с одной стороны, как лидерское вокруг Путина, а с другой стороны, как прогосударственное. И в этом смысле оно чем-то похоже на исчезнувшее, старое советское «подавляющее большинство». С этого времени «безальтернативность» власти, которую вначале воспринимали как естественную функцию высокого рейтинга, своего рода прибавочную стоимость лидерства, — начинают поддерживать сознательно и твердо. Складывается плебисцитарный механизм измерения рейтингов «путинского большинства» помимо выборов. В России все время идет борьба претендентов на власть. Но на какую власть они претендуют? На результат, возникающий единственно в ходе выборов? Популярные даже в оппозиции лозунги заставляют сомневаться в этом. Например, цель «демонтажа путинского режима» — это в сущности такой же чрезвычайный мандат, ведущий к версиям «безальтернативной власти». «Безальтернативное большинство» ныне измеряется рейтингом поддержки лидера — а динамика его выглядит линией, почти застывшей на отметке 50–55%. Рейтинги доверия еще выше. Картина, мало похожая на какую-либо в мировой истории. Она не меняется даже сейчас, когда у тандема два лидера. Они в разном весе, но у каждого относительно ровная линия поддержки, и эти линии постепенно конвергируют. Такая же линия у партии «Единая Россия», которая после появления тандема остановилась на уровне доверия 50% и в этих пределах стабильно остается. Еще несколько лет назад, при президентстве Владимира Путина, партия не демонстрировала столь высоких показателей между выборами. Ее поддержка колебалась в зоне трети голосов, но никак не половины, как сегодня. По сути дела, как раз после ухода Путина из президентства партия обрела самостоятельную ценность и стала автономным институтом «большинства». Итак, «большинство» остается в центре ландшафта российской демократии. Оно не теряет связь с выборами, но превращает их в проекцию уже готового большинства, в подтверждение статус-кво. Это большинство не интересуется альтернативами. Оно остается стержнем и центральным политическим мифом российской демократии. Является ли большинство гарантом конституционного консенсуса? Является ли оно «прогосударственным»? Порой кажется, что да. Но российский политический класс не может забыть, как советское «подавляющее большинство» в один момент перестало поддержи- 140 Демократия и ее использование в России вать Советский Союз. Является ли новое «путинское большинство» надежной манифестацией новой российской нации на будущее? Этот вопрос не имееет ясных «да» и «нет», пока нет измеримых альтернатив состоявшемуся положению дел, и подобные утверждения нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть… В то же время постепенно выяснялись устойчивые особенности существования новой Системы. Она вынуждена постоянно решать задачу возобновления единства государства как отдельную политтехнологическую задачу. В Послании 2003 года Владимир Путин сформулировал этот приоритет, заявив, что такое огромное государство, как Россия должно прилагать дополнительные усилия для сохранения своих целостности и единства. Это заявление подтверждает, что государство и политическая нация не могут существовать, опираясь на общество и стандартные институты. Российское государство вечно само для себя находится под вопросом. Несмотря на то, что население доверяет ему, правящая группа-модератор в этом сомневается. И сомневается с оглядкой на недавнее прошлое — на опыт нигилистического поведения со стороны элит. С конца 1990-х российскую Систему считают нестабильной в ее «естественном» состоянии, и политический режим всегда является одновременно средством ее стабилизации, искусственной и отчасти принудительной. «Стабильность», ценность прошлого десятилетия, превратилась в конкурента демократической автономии и развития общества. Этот порочный круг, который застал Дмитрий Медведев, еще нисколько не разорван. В российском обществе есть проекты, предлагающие «дестабилизировать» систему, чтобы в дальнейшем стабилизировать ее, но уже на «чисто демократической основе» — но это неизбежно возвращает нас к нерешенным вопросам 1990– 1991 годов. Что такое «демократическая реставрация» государства, которого никогда не существовало ни в этих границах, ни с демократическими институтами? Пока «путинское большинство» сохраняется, и на него можно опереться. Оно превратилось в базу российской демократии, и борьба «за» или «против» него стала чуть ли не основным контентом публичной политики в стране. Долгое время считалось, что Система использует отказ «большинства» от политической активности, злоупотребляет тем, что «большинство» делегирует свою политическую активность одному человеку — Владимиру Путину. Но сегодня, при том, что пассивность большинства очевидна, не очевидно, кому делегируется право действовать. Путину? — Да, конечно. Медведеву в тандеме с Путиным? — Разумеется, да. 141 Глеб Павловский В период президентства Путина считалось, что при реальной угрозе его курсу он может обратиться к своему большинству. Эта логика заложена в плебисцитарную публичность замеров путинского большинства в виде персонального рейтинга бывшего президента. Но тандем лишен плебисцитарного маневра именно в силу своей двойственности. Альтернатива аккумулирована и заперта внутри его самого. Прежнее большинство вообще не желает быть стороной конфликта. Возникает ощущение, что все, что не может быть понято большинством, не может быть темой политической жизни и не должно становится значимой темой в СМИ. Это приводит к обеднению меню публичных дебатов в медиа, примитивизации политического языка. Политическое использование большинства в России — это огромная и специальная проблема. Разобраться, как в российской демократии понимается и применяется институт «большинства» — ключевой момент для понимания возможных для нее альтернатив. Новая российская власть, несомненно, находится в невротической зависимости от собственного «большинства», что предполагает как манипуляцию «большинством», так и заискивание перед ним. Не всегда легко оценить перспективность этих усилий. Мы видим, какие силы и средства тратятся на медийное поддержание политического «большинства», на сохранение уверенности в его тесной связи с государственной властью. Борьба за «безальтернативное большинство» продолжается, а под «консерватизмом» понимают его сохранение. И сегодня оппозиция мечтает о «демонтаже режима путинского большинства», отказавшись от борьбы за альтернативу. Даже Дмитрий Медведев в одном из публичных заявлений открыто предпочел приоритет развития приоритету стабильности. Десять лет назад строителей новой России интересовали не стандарты, а эффективность. Они хотели исключить хаос, сдержать революцию силами порядка — полицией и виртуальным плебисцитом, но не собирались отдавать государство ни полиции, ни улице. Учреждение тандема Медведева с Путиным стало финалом плебисцитарной мистерии. Быт тандема — это компромисс, то есть антиплебисцитарная политика. Если плебисцитарный режим кто-то и захочет восстановить, его придется вводить заново — а это нелегко. Проще договориться о стандартах работающей демократии. Когда Дмитрий Медведев говорит именем «абсолютного большинства» народа, он выступает не как вождь большинства, а как лидерморалист. Его опора — моральное большинство, претендующее на политическую суверенность. Медведев не просто хочет преодолеть отсталость; корень ее он видит в комплексах насилия, бесправия, 142 Демократия и ее использование в России нигилизма — в рабских комплексах. Медведев не хочет быть президентом рабов. В этом он наследует первичный пафос Путина — пафос национально-демократического сопротивления. Медведев акцентирует его, переводя его в идеологический регистр. Идеологию, которая, еще не будучи оформлена, уже меняет политическую атмосферу. Медведев постоянно возвращается к теме нормальности, ценности «нормальной жизни» и «нормального способа ведения дел». Нет сомнения в том, что для президента нормальность — важная ценность. Особенно для уставшей от экспериментального бытия России. Но очевиден и парадокс объединения задач «спасения нации» с построением «нормальной, комфортной жизни для населения». Власть искренне работает над тем, чтобы сделать Россию нормальной страной. Но собственно нормальная жизнь незнакома, поскольку никогда не была контекстом для власти. У этой власти в принципе нет собеседника. Только чрезвычайность задач наделяет ее уникальной легитимностью. Суть ее недоверия к общественной среде — не оппозиционность той, а безынициативность, ее стратегическая импотенция. В общении с обществом Кремль испытвает скуку и демотивацию. Модернизация дает новый мандат чрезвычайности, обновляя легитимность этой власти. Она позволяет снова увидеть ситуацию как чрезвычайную. Здесь вновь возникает консенсус — и либеральный критик Евгений Ясин согласен с Владиславом Сурковым, что «для нас инновации — вопрос не роскоши, а выживания». Но тогда неясен его упрек Кремлю в «краткосрочности целей»: выживание — всегда краткосрочная цель. И эта цель хорошо распознается российской системой власти и российским обществом — что вечно грозит власти надрывом и потерей чувства нормы. Эта исключительность государственной власти — ее привычное свойство. Но ставя задачу создания нормального правового государства — а Медведев ведет к созданию регулярных институтов, в которых «одинокая власть» растворится — даже эта задача ставится как «все или ничего». Но если власть действительно решит эту свою задачу, то власти отдельно от государства не останется. Будет власть государственных и правовых институтов. Тогда гений-одиночка, власть-импровизатор, уйдет. Русская демократия и ее глобальный подтекст Начиная импровизировать демократию в конце 1980-х годов, в обход дебатов «Федералиста», мы не решались придумывать ее заново, потому что считалось, что она уже где-то есть. Фактически же в скрытой форме Россия возобновила дебаты, предшествовавшие 143 Глеб Павловский американской конституции. Русская демократия необдуманно задела проблематику будущей демократии. Это была попытка реализовать утопию всенародного большинства на новой основе. И поэтому идея «нации» долго казалась неуместной — она раскалывала идею консенсуального большинства. Но и идея партийности казалась мало уместной. Никто и не чувствовал разницы идеи партий и идеи политического клуба. По факту, партии и были столичными клубами, с небольшой провинциальной сетью. Я могу предположить, что в каком-то смысле в этом — разгадка отвращения Ельцина к многопартийности, его нежелания развивать партийную систему. С его точки зрения многопартийность являлась лишним звеном. Зачем партии в зоне, где им нечего делать? Они или должны быть внутри «консенсуса», как китайские партии, или они вредны. Здесь ощутим переход консенсуса в радикальный волюнтаризм: политика есть то, что делает Центр, есть программирование Центром и действия Центра во имя этого программирования. Но программой ельцинского «консенсуса» было не что-нибудь, а вся Россия. Просто Путин ее реализовал, а Ельцин — нет. Но здесь процесс, начавшийся в России больше двадцати лет назад, несет в себе глубинную проблему самой демократии, проблему создания стратегического центра, способного программировать в катастрофических условиях (даже в непрерывно катастрофических, потому что никаких других условий русская демократия не знала). Это «демократия катастроф» при сохранении легитимности и инклюзивности, но с изгнанием бесов популизма и бесов фрагментации и распада. Российская концепция «большинства» в этой точке весьма перегружена метафизическими демонами теории демократии. Дискуссии прошлого вдохновлялись пропагандой вокруг темы «демократична ли Россия». От оборонительной апологетики спор сдвинулся к универсальным вопросам. Сколь безопасны демократии, добившиеся поддержки национального большинства, но угрожающие соседям по региону? Каковы международные санкции для противодействия flawed democracies, и возможна ли вообще принципиальная оценка одних демократий другими? Где стандарты такой оценки, и кто их будет устанавливать — public philosophers, или такие признанные интеллектуалы, как генерал Петреус? Россия — часть мирового демократического процесса, участник глобального сообщества демократий. Сегодня она обдумывает собственную технологию — от навыков до стандартов и ценностных оснований. 144 Демократия и разочарованность Иван Крастев, Директор Центра либеральных стратегий (Болгария) «Как правило, история выглядит процессом "протестантским", а не “католическим” — ее характерной чертой выступает институциональная, культурная и идеологическая вариативность. Однако время от времени в истории случаются свои “католические моменты”, в которые универсальные идеологемы обретают институциональную плоть» и возникает непреодолимое ощущение, что история развивается в строго определенном направлении*. Время, наступившее после окончания «холодной войны», и стало именно таким «католическим моментом». По крайней мере на время западные либеральные демократии стали восприниматься как «пункт назначения» всего исторического процесса. В отличие от прежних времен, в последние годы прошлого столетия ни апелляции к традиции или Богу, ни революционная идеология не могли обеспечить правительствам нравственное основание для власти. Воля народа, выраженная в ходе свободных и справедливых выборов, стала единственным источником легитимности, который готово принять современное общество. Повсеместное распространение выборов (зачастую сво* Jowitt, Ken. New World Disorder: The Leninist Еxtinction, Berkeley (Ca.), London: California Univ. Press, 1992, р. 3. 145 Иван Крастев бодных и подчас справедливых), а также всеобщее признание приоритета прав человека оказались отличительными чертами политики начала нового века. И если прежнее поколение теоретиков демократизации задавалось вопросом о том, что делает демократию эффективной и устойчивой, то в центре внимания демократической теории, сформировавшейся после 1989 года, оказались всеобщая привлекательность демократии, а также появление и выживание демократических порядков в неожиданных регионах и в самой разной культурной и экономической среде. Революционные толпы на улицах Праги и Восточного Берлина, миролюбивые, победоносные и уверенные в своем праве жить в «нормальном обществе», стали последним доказательством превосходства либеральной демократии над любой иной формой правления. Страхи и противоречия, сопровождавшие демократический опыт европейских стран на протяжении двух столетий, наконец-то, как казалось, были преодолены. Демократии больше не требовалось доказывать свое право на существование. Европа вступила в эру демократического триумфализма. Демократия, под которой понимается самоуправление равных, сегодня признана во всемирном масштабе; она укоренилась более чем в трех пятых из существующих в мире государств и остается предметом вожделения в оставшихся двух пятых. В 2005 году впервые в истории более половины землян жили в демократических государствах. Давнишние сомнения в желательности или достижимости демократической формы правления фактически сошли на нет. И пусть у демократии не перевелись враги, но у нее не осталось критиков. Антидемократические суждения и сантименты стали моветоном. Но здесь-то и появилась проблема… Парадоксальным следствием триумфа демократии стало то, что через два десятилетия после падения Берлинской стены крепнет недовольство реально существующими демократическими режимами, а в рядах защитников свободы возникает ощущение опасности складывающейся ситуации. Успехи демократии обернулись ее кризисом. Появляется чувство, что мы уже достигли того, что Александр Гершенкрон назвал «критическим моментом» — точкой, за которой на протяжении короткого периода времени мы станем свидетелями и, быть может, даже участниками эстетического, идеологического, стратегического и в конечном счете институционального переосмысления значения демократии. Кажется, что политологи, вдохновленные распространением демократических режимов после падения коммунизма, упустили из виду фундаментальную особенность этих новых демократий, а 146 Демократия и разочарованность также вытекающие из нее следствия. В первые же годы, последовавшие за «бархатными революциями» 1989-го, было утрачено внимание к тому, как демократия воспринимается жителями демократизирующихся стран, какие аргументы в ее поддержку оказываются наиболее популярными и какими методами проводятся демократические преобразования. Риторика триумфализма размыла интеллектуальные основы современных демократических режимов. Демократия перестала быть наименее нежеланной формой власти, своего рода лучшим из зол, и стала казаться идеальным типом управления. Люди начали рассматривать ее не как нечто, что может защитить их от худших вариантов развития событий, но как универсальное средство обеспечения мира, благосостояния, эффективной и честной власти — в общем, как палочку-выручалочку и скатерть-самобранку «в одном флаконе». Случившийся в 1989 году исторический перелом вселил в массу людей веру в то, что демократия полностью синонимична миру и экономическому росту. Отличительной чертой эры демократического триумфализма стала попытка представить демократию как идеальное средство разрешения всех социальных проблем и оценить ее не через сравнение с конкурирующими политическими режимами, а с точки зрения ее способности угождать гражданину современного «общества потребления». Демократию начали считать универсальным ответом на множество не связанных между собой вопросов. Каков лучший инструмент обеспечения устойчивого экономического роста? Демократизация. Как надежнее всего защитить свою страну? Стать демократией и быть окруженным другими демократиями (ведь всеобщее распространение свободы тождественно и всеобщему распространению безопасности). Как раз и навсегда победить коррупцию? Установить демократический порядок подотчетности и гласности. Как ответить на демографические и миграционные вызовы? Опять-таки, надо быть более демократичным и проводить политику интеграции и включенности… И в конечном счете риторика взяла верх над реальностью. Однако «миссионеры от демократии» не учли, что одно дело — рассуждать о том, что коррупция или дискриминация меньшинств могут быть более эффективно преодолены при демократическом режиме, чем при любом другом, но совсем иное — полагать, что одно лишь введение свободных выборов и принятие либеральной конституции способны снять эти проблемы с повестки дня. Потребовалось менее десяти лет для того, чтобы апология превосходства демократий в сфере обеспечения экономического роста, безопасности граждан и качества управления начала приносить 147 Иван Крастев обратный эффект. К тому же наступление глобального финансового кризиса на фоне усиления авторитарного капитализма быстро поставило под сомнение казавшиеся долгое время неоспоримыми аксиомы. Претензии демократии на статус гаранта устойчивого экономического роста были подорваны успешностью Китая. В последние тридцать лет эта недемократическая страна является самой быстро растущей экономикой в мире; она близка к тому, чтобы обогнать Соединенные Штаты — крупнейшего производителя промышленной продукции, и уже сместила Германию с места главного мирового экспортера. И дело не только в Китае. Исследователям хорошо известно, что некоторые наиболее (как, впрочем, и наименее) успешные развивающиеся экономики — автократии. И поэтому, хотя стабильные и развитые демократические режимы остаются богатыми и процветающими, демократия не является синонимом благополучия и экономического роста. Опыт демократизации африканских государств показал, что распространение электоральных процедур также не приносит желаемого результата, если считать таковым снижение уровня насилия. Оксфордский экономист Пол Колье в своей замечательной книге «Войны, пушки и голоса»* показал, что если в странах со средним уровнем подушевых доходов выборы уверенно и последовательно снижают риск всплесков насилия, то в странах с низким достатком они делают общество более склонным к агрессии. Придерживаясь схожей позиции «просвещенного ревизионизма», израильский военный историк Азар Гат** пошел еще дальше в оспаривании утвердившейся ныне догмы о военном превосходстве лагеря либеральных демократий. Оригинальный анализ причин победы демократий в двух мировых войнах привел его к выводу, что она была обусловлена не превосходством демократического политического режима, а тем фактом, что в обоих случаях Соединенные Штаты выступили на стороне демократий. Мощь Америки, а не преимущества демократии — вот что объясняет итог взаимной борьбы великих держав в XX веке. И если Азар Гат сомневается в том, что демократии непобедимы, то американские политические философы Эдвард Мэнсфилд и Джек Снайдер*** * См.: Collier, Paul. Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places, New York: HarperCollins Publishers, 2009. ** См.: Gat, Azar. «The Return of Authoritarian Great Powers» in: Foreign Affairs, Vol. 86, No. 4, July–August 2007. *** См.: Mansfield, Edward and Snyder, Jack. «Democratization and War» in: Foreign Affairs, Vol. 74, No. 3, May—June 1995. 148 Демократия и разочарованность критикуют теорию, которая ставит продвижение демократии в центр политики безопасности, проводимой западными державами. Coбрав более двухсот впечатляющих исторических свидетельств за последние два столетия, они опровергают теорию «демократического мира». Хотя авторы в целом согласны с большей частью политологического сообщества в том, что демократии не нападают на другие демократии, они отмечают, что в процессе перехода к демократическому режиму общества нередко становятся столь военизированными и бескомпромиссными, что могут проявлять агрессивность в отношении других демократических стран. Поэтому нужно задуматься о том, сколь желательным является сейчас начало или «перезагрузка» процессов демократизации в странах, где они не получили должного развития — например в Китае или России. Предположение Роберта Кейгана о том, что «форма правления, принятая тем или иным народом, а не его “цивилизационная принадлежность” или “географическое позиционирование”, может наиболее точно указать на его вовлеченность в геополитические союзы»*, также подвергается сегодня сомнениям. Достаточно открыть любую газету, чтобы убедиться, что в вопросах внешней политики демократическая Турция, демократическая Индия и демократическая Бразилия вовсе не обязательно поддерживают демократические страны Европы или демократические Соединенные Штаты просто потому, что все они — демократии. Антиколониальные чувства или по-старинке трактуемые национальные интересы и амбиции куда лучше объясняют геополитические приверженности, чем абстрактная форма правления. Таким образом, с демократией в последние десять лет произошло то, что специалисты-маркетологи назвали бы «перепроданностью». Последние две волны демократизации породили ожидания и инициировали дискурс, которые и спровоцировали нынешний кризис демократических режимов. Великая рецессия Когда мир начал входить в полосу самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии, многие политологи предположили, что его результатом станут либо крах новоявленных образцов авторитарного капитализма типа России или Китая, либо * См.: Kagan, Robert. The Return of History and the End of Dreams, New York: Vintage Books, 2009. 149 Иван Крастев разрушение новых демократических режимов в Восточной Европе, которые окажутся один на один с такими же вызовами, с какими Западная Европа столкнулась в 1930-е годы. Но кризис не привел к закату ни новых авторитаризмов, ни новых демократий. Скорее он странным образом подтвердил правоту Самюэля Хантингтона, сорок лет тому назад заметившего, что самое значимое политическое различие между государствами — это не форма правления, а степень управляемости*. Определяющая черта нашего времени — вовсе не подъем капиталистического авторитаризма; куда большего внимания заслуживает размывание границ между демократией и авторитаризмом в контексте растущего недоверия граждан как к политической, так и к предпринимательской элите и надвигающейся неуправляемости современных обществ как на национальном, так и глобальном уровнях. Авторитарные капиталистические режимы, самыми заметными примерами которых ныне выступают Китай и Россия, не укоренены в структурах управления традиционных обществ и не уповают на массовые репрессии как на средство своего сохранения. Живя в недемократических государствах, и русские, и китайцы сегодня более свободны и более богаты, чем когда-либо в их предшествующей истории. Парадоксально, но в обоих этих государствах основной социальной базой режима выступает недавно сформировавшийся средний класс. Всемирный социологический обзор «Голос народа», ежегодно проводимый компанией «Gallup International», в последние четыре года демонстрирует один и тот же парадокс: хотя демократия и признана универсально лучшим из известных типов правления, граждане демократических стран в целом и государств Центральной и Восточной Европы в особенности не только намного более критически относятся к достоинствам демократии, чем жители недемократических стран, но даже считают, что их мнение и их голос имеют все меньшее влияние на то, как управляются их государства. И если классическая книга Вацлава Гавела о позднетоталитарном обществе называлась «Власть безвластных (The Power of the Powerless)», то ее продолжение, если бы оно было написано в посткоммунистический период, следовало озаглавить «Разочарование облеченных властью (The Frustration of the Empowered)». ** См.: Хантингтон, Самюэль. Политический порядок в меняющихся обществах, Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 150 Демократия и разочарованность 1989-й год и вокруг него Сегодня, спустя двадцать лет после падения Берлинской стены, нарастает двусмысленность исторического значения событий 1989 года, а также нынешнего состояния демократии в Европе (особенно Центральной). Доверие к демократическим институтам и к процедуре выборов устойчиво снижается. Общество считает политический класс коррумпированным и преследующим прежде всего цели личного обогащения. Разочарование в демократии нарастает. Согласно проведенному в 2008 году центром «Eurobarometer» опросу общественного мнения, лишь 21% литовцев, 24% болгар и румын, 30% венгров и 38% поляков полагают, что их жизнь стала лучше после падения Берлинской стены*. Сегодня многие склонны считать, что от событий 1989 года выиграли не простые граждане, а прежние коммунистические элиты, которые отринули сковывавшие их ограничения и в полной мере воспользовались открывшимися экономическими возможностями. Согласно этой точке зрения крах коммунизма запустил процесс освобождения посткоммунистических элит от чувств страха (перед чистками и репрессиями) и вины (за свое богатство), от идеологических ограничений и национального самосознания и даже от необходимости осуществлять эффективное управление своими странами. Экстерриториальные элиты, прячущие свои миллионы в офшорах, и равнодушные к демократии массы более всего выиграли от такого «конца истории». «Демократические революции» 1989 года поразили многих беспристрастных наблюдателей антиэгалитаризмом и антиутопичностью. Алексис де Токвиль был бы очень удивлен, если бы узнал, что, в отличие от прежних, очередная волна демократизации в разы увеличила имущественное неравенство в новых демократических странах. И не только обычные граждане, но и теоретики демократии сегодня переосмысливают реальное историческое значение событий 1989 года. Ведущие исследователи, размышляя об итогах тридцати лет быстрого распростратения демократии, начатого демократической революцией в Португалии в 1974 году, приходят к грустным выводам. Филипп Шмиттер в своей статье, опубликованной в «Журнале демократии», отмечает, что в современном историческом контексте демократизация оказалась куда более простой задачей, чем это можно было предположить, но зато и перемены, принесененные ее новой * См.: Eurobarometer 70, field work, October—November 2008, «Data», p. 58, December 2008. Available at http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm 151 Иван Крастев волной, были гораздо менее значимыми, чем инициированные прежними*. При этом, по его мнению, легкость демократических реформ как раз и объясняется их формальностью и поверхностностью. Радикальной смены элит не произошло, а те их представители, которые во многом и иницировали перемены, выиграли от них неизмеримо больше, чем в любых прежних демократических революциях. Именно тот факт, что основным бенефициаром развернувшихся событий стали старые властные элиты, и объясняет всплеск ревизионистских интерпретаций недавней истории. В своей новой книге «Негражданское общество» американский историк Стивен Коткин убедительно доказывает, что коллапс коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе (единственным исключением являлся польский сценарий) правильнее трактовать как крах неэффективных и деморализованных коммунистических институтов и установлений (как раз того «негражданского общества», о котором он пишет), нежели как восстание общества гражданского**. Люди, вышедшие на улицы Праги и Софии, были не столько революционными гражданами, сколько разочарованными потребителями. Соответственно, согласно Коткину, политические свободы и рыночная экономика стали не реализацией заявленных целей успешной революции, а побочными следствиями фронтальной атаки на коммунистические режимы. Короче говоря, точно так же, как демократия стала жертвой восторженности ее адептов, революции 1989 года вполне могут пасть жертвами тривиализации демократии. Нам надо в очередной раз задать себе старые вопросы, правильные ответы на которые давно стерлись из нашей памяти: что делает демократию наименее неприемлемой формой правления и какова реальная роль событий 1989 года в трансформации европейской демократической традиции. Моя позиция заключается в том, что демократические революции 1989 года, не ознаменовавшие, разумеется, «конца истории», стали, тем не менее, поворотным пунктом в истории европейского опыта демократии. Они преуспели в примирении демократии и либерализма — но далось это дорогой ценой. Стоявшая за ними идеология «нормальности» (попытка представить демократию как естественное состояние общества и освободить его от «исторического хлама») внесла серьезный вклад в нынешний кризис демократии, радикально ослабив «иммунную систему» этого типа политического устройства. * См.: Schmitter, Philippe C. «Twenty-Five Years, Fifteen Findings» in: Journal of Democracy, Vol. 21, No. 1, 2010, pp. 17–28. ** См.: Kotkin, Stephen. Uncivil Society: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment, New York: Random House, 2009. 152 Демократия и разочарованность Прощание с Веймарской системой Сейчас даже трудно себе представить, насколько радикальны отличия современного образа мышления европейцев относительно демократии от того, который доминировал всего четверть века тому назад. Сложно признаться себе в том, что практически все, что принимается сегодня как данное, еще вчера не только казалось недостижимым, но и воспринималось с серьезной долей скепсиса даже самими сторонниками перемен. Революции 1989 года стали общеевропейским опытом, который изменил политическую культуру всей Европы. На европейскую историю последнего столетия оказало серьезное влияние глубоко укорененное недоверчивое и отчасти безразличное отношение к демократии как к политическому режиму. В 1934 году португальский диктатор Антонио Салазар смело предсказывал, что «в ближайшие двадцать лет, если только не случится каких-то ретроградных подвижек в политическом развитии, в Европе не останется ни одного парламента»*. Революционные подъемы «долгого XIX века» (столетия, «спокойный» характер которого серьезно переоценивается в обыденным сознании), а также коллапс многих европейских демократий в период между Первой и Второй мировыми войнами породил у многих европейцев скептическое отношение к участию масс в политике. Начиная с 1918 года мало какая из европейских стран могла похвалиться правительством, чей срок пребывания у власти превышал бы один год. Короткая и несчастливая жизнь Веймарской республики и ее трагическая кончина — «отчасти убийство, отчасти следствие тяжелой болезни, отчасти суицид», говоря словами Питера Гея**, — наложила мощную печать на отношение европейцев к демократии. Ассоциации Веймарской демократической системы с фашистским режимом, развившимся в ее рамках при попустительстве ее лидеров и затем легитимно пришедшим к власти, использовав демократические инструменты, остались в сознании у многих людей. Не будет преувеличением сказать, что послевоенная западная демократическая теория — не что иное, как конкурирующие между собой интерпретации причин краха Веймарской республики. Невозможно составить представление о политическом сознании европейцев в ХХ веке без учета страха перед революционными массами, во многом и сформировавшего это сознание. «Мы склонны — * Цит. по: Keane, John. The Life and Death of Democracy, New York; London: Simon & Schuster, 2009, р. 234. ** Gay, Peter. Weimar Culture: The Outsider as Insider, New York: Harper & Row, 1968, p. xiii. 153 Иван Крастев в теории — рассматривать революции как движения, несущие освобождение, — писал Раймон Арон в 1970-е годы, — но революции ХХ века чаще приносили с собой рабство или, по меньшей мере, авторитаризм»*. За столетие до него Якоб Буркхард был даже более четок: «Я слишком хорошо знаком с историей, чтобы ожидать от деспотизма масс чего-либо, кроме будущего тиранического режима, который и ознаменует собой ее конец». Короче говоря, в континентальной Европе либерализм и демократия скорее были разведены, чем состояли в браке, на протяжении двух столетий. Либералы были уверены, что «либеральная демократия» — это своего рода оксюморон. Они часто вели войну на два фронта, противостоя сторонникам как авторитарной стабильности, так и радикальной (популистской) демократии. Само значение слова «популизм» в американской и европейской политической традициях (относительно нейтральное в первой и преимущественно негативное во второй) напоминает о двух различных типах отношений между демократией и либерализмом. Европейский либерализм (и особенно французский, возникший как реакция на радикализм и перегибы Великой французской революции) видел себя не столько элементом массовой демократии, сколько альтернативой ей. Для многих — как, к примеру, для Франсуа Гизо — быть либералом означало отказаться от принадлежности к демократам. И даже хотя слово «демократия» было боевым кличем западноевропейцев в период конфронтации с просоветским коммунистическим блоком, недоверие к демократии выступало чертой европейского политического консенсуса эпохи «холодной войны». Демократии считались слабыми и нестабильными; эффективность их противостояния деструктивным и враждебным элементам выглядела сомнительной. Они казались идеалистичными и медлительными, когда дело доходило до принятия решения о применении силы. Решения, принимавшиеся демократическим путем, считались слишком подверженными влиянию электоральных циклов и потому недалекими и демагогическими; кроме того, они разделяли общество и требовали манипуляции определенными социальными группами. Никто иной как Уинстон Черчилль с презрением говаривал: «Лучший аргумент против демократии — пятиминутный разговор со средним избирателем». Меритократия, а вовсе не демократические порядки, была идеалом образованных классов Европы. Меритократические принципы и либеральный рационализм, а никакая не демократия, * Aron, Raymond. The Dawn of Universal History: Selected Essays from a Witness to the Twentieth Century, New York: Basic Books, 2003, p. 163. 154 Демократия и разочарованность лежали в основе проекта европейской интеграции. Меритократы, а не демократы, подписывали и документы об образовании Европейского Союза. В 1983 году — всего за шесть лет до падения Берлинской стены — французский философ Жан-Франсуа Ревель сформулировал страхи поколения «холодной войны», констатируя, что «демократия в конце концов вполне может оказаться исторической случайностью, недолгим видением, ныне исчезающим у нас на глазах»*. К этому пессимистическому умозаключению его подвело убеждение, что демократические режимы слишком мало ценят за их достижения, но в то же время им приходится платить несоизмеримо более высокую цену за неудачи и ошибки, чем их противники платят за собственные. Таким образом, почти накануне «бархатных революций» демократии продолжали считаться слабыми, если не саморазрушающимися, политическими формами. И только события 1989 года смогли преодолеть в европейском сознании веймарский комплекс и радикально изменить отношение европейцев к демократии. Ночь на 9 ноября 1989 года, когда толпы ликующих немцев проломили Берлинскую стену, смогла по крайней мере подавить воспоминания о такой же ноябрьской ночи 1938-го, когда организованная нацистами антисемитская «Хрустальная ночь» указала на «стену» между цивилизацией и варварством, воздвигнутую в самом сердце Европы. Для многих европейцев миссия революций 1989 года состояла хотя бы в том, что они примирили революционную практику с идеалами и теорией либеральной демократии. События 1989 года — помимо того, что они принесли свободу жителям восточноевропейских государств, — еще и доказали западноевропейцам привлекательность их многократно раскритикованной ими же самими политической модели. Революции 1989 года и опыт дальнейшего развития посткоммунистических стран помогли также положить конец имевшей долгую историю общеевропейской дискуссии о взаимоотношении политической демократии и свободной рыночной экономики капиталистического типа: ведь на протяжении большей части XIX и XX веков европейских правых преследовал страх, что всеобщая демократия приведет к устанению частной собственности и индивидуальных свобод, тогда как левые и марксисты не переставали твердить о том, что буржуазная демократия — не более чем фасад, скрывающий механизмы доминирования класса крупных собственников. ** Revel, Jean-Fran ois. How Democracies Perish, New York: Doubleday, 1983, р. 3. 155 Иван Крастев Сегодня историкам и политологам уже привычно трактовать историю Центральной и Восточной Европы и переход от коммунистического прошлого к рыночному настоящему как пример непреодолимого «взаимного притяжения» демократии и капитализма. Однако всего двадцать лет назад задачи построения демократии и формирования основ рыночной экономики нередко рассматривались чуть ли не как взаимоисключающие. Многие диссиденты из стран Восточной Европы, будучи людьми глубоко интеллектуальными, разделяли антикапиталистические настроения, столь присущие западноевропейским левым. И хотя политические философы конца 1980-х годов соглашались с тем, что свободный рынок и свободная демократическая политика в отдаленной перспективе должны усиливать друг друга, многие из них полагали, что одновременная реализация этих программ не породит ничего, кроме неприятностей. Как же можно дать людям полную свободу политического выбора и в то же время заставить их ощущать болезненный эффект урезания государственных расходов, обесценения пенсий и масштабного сокращения рабочих мест? Немецкий социолог Клаус Оффе выражал мнение очень многих, когда в первые месяцы перехода к рынку подчеркивал, что «рыночная экономика может быть эффективно внедрена только до распространения демократии (only in pre-democratic conditions)»*. Разочарование нормальностью К счастью, порой то, что не работает в теории, оказывается эффективным в реальной жизни. Страны Центральной и Восточной Европы преуспели в одновременном переходе и к свободному рынку, и к демократии. Для того чтобы это стало возможным, потребовался магический коктейль идей, эмоций, случайных обстоятельств, давления извне и талантливого лидерства. В усилиях по изменению облика своих обществ реформаторы отталкивались от коммунистического наследия как от чего-то такого, к чему ни за что не хотелось бы вернуться. И люди оказались столь же терпеливыми в перенесении тягот реформаторского периода, сколь нетерпеливыми они были в стремлении свергнуть коммунистических идолов. Начало 1990-х годов стало сюрреалистическим временем, когда профсоюзные лидеры требовали более решительного сокращения избыточной занятости, а только что вышедшие из партии коммунистические идеологи апологетизировали стремительную приватизацию государственной собственности. * См.: Offe, Claus. Varieties of Transition: The East European and East German Experience, Cambridge (Ma.): MIT Press, 1996, p. 67. 156 Демократия и разочарованность Конечно, недовольство капитализмом и новыми порядками присутствовало, но не появилось ни одной политической партии и даже популярных лозунгов, которые выразили и воплотили бы антикапиталистические чувства тех, кто оказался в проигрыше от проведенных реформ. Любая критика рыночных порядков воспринималась как проявление ностальгии по коммунизму. Антикоммунистические и коммунистические элиты с равным энтузиазмом приветствовали перемены: первые — по принципиальным соображениям, вторые — руководствуясь собственными интересами. К тому же привлекательная программа «возвращения в Европу» помогла посткоммунистическим обществам примирить перераспределительные инстинкты демократии с действием умножающих неравенство свободных рыночных сил. Попавшие в «смирительную рубашку» европейских интеграционных процессов, страны Центральной и Восточной Европы одновременно прошли и через политическую, и через экономическую открытость. Демократия, либерализм и капиталистическая хозяйственная система оказались примиренными не только в восточной, но и в западной части европейского континента. В своей попытке имитировать западную либеральную демократию восточные европейцы открыли эту систему для самих себя и для остального мира. Короче говоря, идеология нормальности, которая была главной движущей силой революций 1989 года, обусловила как успех демократического транзита, так и внутреннюю пустоту постпереходной политики. Стремление стать нормальными вдохновляло центрально- и восточноевропейских политических лидеров на поиск прагматичных решений и имитацию западноевропейских практик и институтов. Это же желание оказалось особенно к месту на протяжении всех десяти лет процесса вступления в Европейский Союз, когда многие посткоммунистические страны в спешном порядке принимали законы, которые нередко даже не обсуждались. Однако та же идеология нормальности отчасти ответственна за интеллектуальный паралич, поразивший ныне политический класс стран Центральной и Восточной Европы, равно как и за неспособность новых демократий определить свою особую идентичность. Политика «возвращения к норме» заменила обсуждения и дискуссии имитациями, породила преклонение перед банальностью и позволила политикам удариться в риторику, центральным элементом которой было отождествление демократии и эффективного управления. Быть неоригинальным стало высшей добродетелью. Само слово «эксперимент» обрело негативный оттенок. Парадоксально, но в том, что касается смелых реформ и политического экспериментирования, 157 Иван Крастев китайский посткоммунистический авторитаризм оказывается куда более инновативным и открытым новому опыту, чем европейские посткоммунистические демократии. Объявив демократию нормальным состоянием общества и сведя демократизацию к перенятию и имитации институтов и практик развитых демократических стран, восточноевропейская идеология нормальности помешала возникновению тех противоречий, которые и придают демократической системе ее гибкость и устойчивость. Так, например, трения, возникающие между демократической мажоритарностью и либеральным конституционализмом, не являются преходящей «болезнью роста», а составляют основу демократического политического процесса. Эти противоречия не могут быть раз и навсегда устранены или разрешены — напротив, общество должно научиться жить с ними и использовать их для собственного развития и совершенствования. Демократия — это своего рода федерация, в которой составляющие единое целое «республики» постоянно ссорятся из-за своих границ и вынуждены раз за разом пересматривать их. Демократия — это самосовершенствующийся режим, и устойчивым его делают именно заложенные внутри него противоречия между участниками. Показательно, что даже в то время, как нынешние идеологи нормальности трактуют рост популистских настроений в центральноевропейских странах как скатывание в бездну политической патологии, уровень доверия граждан к демократическим институтам в странах с откровенно популистскими правительствами — например такими, как в Болгарии и Словакии, — существенно вырос*. Пытаясь объяснить, как и почему общества выглядят постоянно колеблющимися между периодами активной вовлеченности граждан в публичную политику и временами их полной погруженности в собственные материальные проблемы, Альберт Хиршман отмечал, что политические акции, предпринимаемые в надежде на перемены к лучшему, очень часто приводят к разочаровывающим последствиям**. Его предположение о том, что развитие общества потребления и расширение возможностей индивидуального выбора в перспективе спровоцируют бум разочарования и недовольств, должно, на мой взгляд, быть поставлено в центр крайне необходимого сегодня обсуждения того, какими преимуществами обладают ныне демократии перед своими авторитарными конкурентами. * См.: Mese nikov, Grigorij; Gy rf ov , Olga and Smilov, Daniel (eds.) Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe, Bratislava: Institute for Public Policy, 2008. ** См.: Hirschman, Albert O. Shifting Involvements: Private Interest and Public Action, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1982. 158 Демократия и разочарованность Превосходство демократии над авторитаризмом состоит не в некоей имманентно присущей ей способности обеспечить людям исполнение всех их потребностей и желаний, а в большей готовности и умении демократий реагировать на неудовлетворенности своих граждан. В таком контексте демократический триумфализм последних двух десятилетий — это серьезная и перманентная угроза, препятствующая правильному пониманию тех вызовов, с которыми сегодня сталкиваются демократические режимы по всему миру. Ведь если до 1989 года в демократиях было принято считать народное недовольство чем-то само собой разумеющимся, то «зацикленные на нормальности» новые европейские демократические режимы предпочитают относиться к таким проявлениям неудовлетворенности как к чему-то подозрительному и ненормальному. Но демократия — это не альтернатива плохому и неэффективному управлению; это альтернатива революции. На самом деле именно способность демократических обществ исправлять сделанные ошибки, преодолевать последствия неправильных решений и извлекать из всего этого необходимые уроки как раз и является их самой привлекательной и притягательной чертой. И это обстоятельство особенно значимо сегодня, когда многие европейцы — если не абсолютное их большинство — боятся, что их ближайшее будущее может оказаться не таким благополучным и мирным, как недавнее прошлое. Определяя демократию как естественное состояние общества и при этом ограничивая возможности выбора гражданами политических решений, сформировавшийся после 1989 года консенсус парадоксальным образом уничтожает фундаментальное преимущество демократических режимов. Демократии не являются и не могут быть устройствами по производству удовлетворенности. Они не продуцируют эффективное управление (good governance) с тем автоматизмом и производительностью, с какими современная пекарня выпускает пончики. Все, что демократии дают неудовлетворенным гражданам, — это удовлетворение от имеющегося у них права каким-то образом преодолеть их недовольства. И только поэтому демократия остается политическим режимом, наиболее соответствующим современной эпохе всеобщей неудовлетворенности. Перевод В. Иноземцева, авторизованный И. Крастевым 159 Иван Крастев Источники Aron, Raymond. The Dawn of Universal History: Selected Essays from a Witness to the Twentieth Century, New York: Basic Books, 2003. Collier, Paul. Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places, New York: HarperCollins Publishers, 2009. Eurobarometer 70, October–November 2008 (на сайте http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm). Gat, Azar. «The Return of Authoritarian Great Powers» in: Foreign Affairs, Vol. 86, No. 4, July–August 2007. Gay, Peter. Weimar Culture: The Outsider as Insider, New York: Harper & Row, 1968. Hirschman, Albert O. Shifting Involvements: Private Interest and Public Action, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1982. Jowitt, Ken. New World Disorder: The Leninist Еxtinction, Berkeley (Ca.), London: Univ. of California Press, 1992. Kagan, Robert. The Return of History and the End of Dreams, New York: Vintage Books, 2009. Keane, John. The Life and Death of Democracy, New York, London: Simon & Schuster, 2009. Kotkin, Stephen. Uncivil Society: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment, New York: Random House, 2009. Mansfield, Edward and Snyder, Jack. «Democratization and War» in: Foreign Affairs, Vol. 74, No. 3, May–June 1995. Mese nikov, Grigorij; Gy rf ov , Olga and Smilov, Daniel (eds.) Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe, Bratislava: Institute for Public Policy, 2008. Offe, Claus. Varieties of Transition: The East European and East German Experience, Cambridge (Ma.): MIT Press, 1996. Revel, Jean-Fran ois. How Democracies Perish, New York: Doubleday, 1983. Schmitter, Philippe C. «Twenty-Five Years, Fifteen Findings» in: Journal of Democracy, Vol. 21, No. 1, 2010. Хантингтон, Самюэль. Политический порядок в меняющихся обществах, Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 160 Часть третья Демократия и модернизация 161 Модернизация и демократия Рональд Инглхарт, Профессор Мичиганского университета, президент организации World Values Survey (США) На протяжении последних двух столетий теория модернизации неоднократно оказывалась то в центре, то на периферии внимания. В XIX и XX веках марксисткая концепция модернизации вдохновляла самые мощные политические партии и движения. В 1970-е годы критики заявляли, что теория модернизации умерла, — но после окончания «холодной войны» модернизационная теория обрела новое дыхание, ибо стало понятно, что, если отринуть прежние упрощения, ее можно использовать для осмысления процессов демократизации. Концепция модернизации исходит из того, что экономический и технологический прогресс порождают предсказуемые социальные и политические изменения. Однако опыт последних десятилетий показывает, что экономическое развитие связано с изменениями в человеческих вере и мотивации, имеющими важные последствия. Меняются роль религии, мотивация к труду, уровень рождаемости, гендерные роли и сексуальные нормы. Появляется массовый спрос на демократические институты и ответственное поведение элит, который делает возникновение демократии все более вероятным. Одну из самых влиятельных теорий модернизации развил в свое время Карл Маркс, предложивший утопическую программу преодоления эксплуатации и насилия. Сегодня почти никто не верит, что 163 Рональд Инглхарт устранение частной собственности способно решить острые социальные проблемы, но мысль Маркса о том, что экономический и технологический прогресс провоцируют схожие социальные и политические последствия, актуальна и сегодня. Когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс в 1848 году опубликовали «Манифест Коммунистической партии», индустриализация началась лишь в нескольких странах — но они утверждали, что она станет всеобщим явлением, и сейчас большая часть человечества живет в индустриально развитых или индустриализирующихся странах. Адам Смит и Карл Маркс развивали различные теории модернизации, но оба считали, что технологические инновации и их социальноэкономические последствия оказывают определяющее воздействие на культуру и политические институты. Маркс настаивал, что социально-экономическое развитие изменяет человеческие ценности и этические нормы; Макс Вебер полагал, что дело обстоит иначе и, напротив, ценности определяют хозяйственные практики. Современные исследования показывают, что справедливы и тот, и другой подходы, хотя основное направление причинно-следственной связи идет от экономических факторов к социальным и политическим. В годы «холодной войны» в США появилась очередная версия модернизационной теории, изображавшая недоразвитость (underdevelopment) как прямое следствие исторических и культурных особенностей страны. Считалось, что она отражает иррациональные религиозно-общинные устои, препятствующие экономическому прогрессу, и что западные демократии способны «привить» отстающим странам новые ценности и практики посредством экономической, культурной и военной поддержки. Однако уже к концу 1970-х годов стало ясно, что такая помощь не дает результата; более того, распространилось мнение, что торговля с развитыми государствами порождает перманентную зависимость от них развивающихся стран. Такая точка зрения была на руку правителям последних, так как предполагала, что проблемы их народов обусловлены не политическими просчетами или коррумпированностью лидеров, а сущностью глобального капитала. 1980-е стали апофеозом депендентизма, утверждавшего, что страны «третьего мира» могут избежать эксплуатации, лишь замкнувшись в себе и приняв на вооружение политику импортозамещения. Вскоре, правда, выяснилось, что такой курс ведет в тупик: страны, наименее вовлеченные в глобальное разделение труда — Куба, КНДР или Мьянма, оказались самыми неудачливыми. Напротив, экспортоориентированные страны демонстрировали высокие темпы роста и устойчивое развитие демократии. Маятник качнулся обратно, и в моду вошла новая версия модернизации. Развитие экономик 164 Модернизация и демократия Восточной Азии и успешная демократизация Южной Кореи и Тайваня подтверждали, казалось бы, что производство пользующихся спросом на мировом рынке товаров обеспечивает быстрый рост; инвестиции в человеческий капитал упрочивают средний класс, а тот, превращаясь в мощную силу, неизбежно становится катализатором демократии — самой эффективной формы политической организации развитого индустриального общества. Однако и по сей день, когда на международных конференциях произносится слово «модернизация», за ним обычно следуют рассуждения в духе депендентистской критики развития мировой экономики и заумные рассуждения о специфике исторических путей — как будто не существовало ни работ Карла Маркса, Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма, ни новых данных о динамике экономического развития в 1980–2000-х годах. Модернизация: современный взгляд Совершенно очевидно, что теория модернизации нуждется в обновлении, причем по ряду причин. Во-первых, модернизация — процесс нелинейный. Он не идет бесконечно в одном направлении. Каждый этап модернизации определенным образом изменяет мировоззрение людей. Индустриализация приносит бюрократизацию, иерархичность, централизацию в принятии решений, секуляризацию и разрушение традиционных стереотипов поведения. Становление постиндустриального общества отторгает бюрократизацию и централизацию и ориентирует людей на личную автономию и ценности самовыражения. При прочих равных условиях повышение уровня экономического развития делает людей более толерантными и акцентирует их внимание на самовыражении и участии в выработке решений. Этот тренд не универсален: лидеры отдельных стран и случайные события могут вносить существенные коррективы. Кроме того, приносимые модернизацией перемены не являются необратимыми. Жестокие экономические испытания могут обращать их вспять — как это случилось во время Великой депрессии в Италии, Германии, Испании и Японии или в 1990-е годы в постсоветских государствах. И если нынешний кризис перерастет в аналог Великой депрессии, нам, быть может, придется противостоять новой волне ксенофобии и авторитаризма. Во-вторых, социально-культурные перемены зависят от исторического пути развития народов. Хотя экономические сдвиги приносят предсказуемые изменения в мироощущение людей, историческое наследие — определяемое протестантизмом, католицизмом, исламом, конфуцианством и даже коммунизмом, оставляет заметный след. Ценностные установки становятся результатом взаимодейс- 165 Рональд Инглхарт твия движущих сил модернизации и влияния традиции. И хотя сторонники классической версии модернизации как на Западе, так и на Востоке полагали, что этнические и религиозные факторы вскоре утратят свое значение, они на деле оказались крайне живучими; несмотря на то, что граждане индустриальных и индустриализирующихся стран становятся все богаче, их культурные установки и ценности не унифицируются. В-третьих, модернизация — вопреки ранним этноцентристским версиям этой теории — не является вестернизацией. Индустриализация началась на Западе, но в последние десятилетия самые высокие темпы промышленного развития демонстрируют страны Восточной Азии, а Япония стала лидером по продолжительности жизни и ряду других показателей «модернизированности». Соединенные Штаты не стали моделью для изменений в культуре, и промышленно развитые страны не копируют их стандарты; более того, на практике США сохранили куда более традиционалистские ценности, нежели большинство индустриальных стран. В-четвертых, модернизация не ведет автоматически к демократии, хотя в долгосрочной перспективе она способствует социальным и культурным трансформациям, которые значительно ее приближают. Само по себе достижение высокого уровня ВВП на душу населения не предопределяет становление демократии, но становление постиндустриального общества влечет за собой благоприятствующие ему социальные и культурные перемены. Общества знания не могут эффективно функционировать без высокообразованных людей, привыкших думать самостоятельно; более того, повышение экономической защищенности переносит акцент на ценности самовыражения, что подразумевает свободу выбора как основной приоритет и мотивирует политическое участие. Если индустриализация [в равной степени] может привести к фашизму, коммунизму, теократии или демократии, то появление общества знания делает наиболее вероятной именно демократию, ибо требует открытости инновациям и широкой индивидуальной автономии; это в свою очередь, рождает все более независимых, умеющих выразить собственную точку зрения и способных к критике власти индивидов. Так что модернизация влечет культурные сдвиги, а они обусловливают возникновение и успешное функционирование демократических институтов. Основная идея модернизации состоит в том, что экономический и технологический прогресс порождают комплекс социальнополитических трансформаций, а они, как правило, ведут к радикальным переменам в ценностях и мотивации. Это включает в себя изменение роли религии, карьерных устремлений, уровня рождаемости, 166 Модернизация и демократия гендерных ролей, сексуальных норм. Данные перемены также определяют массовый спрос на демократические институты и ужесточение требований к элитам. В результате демократия становится все более вероятна, а война — все менее приемлема для народа. Современные аналитические методы и новые источники позволяют более глубоко понять, как экономическое развитие трансформирует общество. С 1981-го по 2007 год организация World Values Survey провела пять общенациональных опросов в странах, охватывающих почти 90% населения планеты. Их результаты показали огромные различия в ценностях людей в разных странах. В одних 95% респондентов ответили, что Бог очень важен в их жизни; в других так считали менее 3%. В одних почти 90% убеждены, что при приеме на работу мужчина имеет преимущество перед женщиной, в других так думают лишь 8%. Эти межстрановые различия коррелируют с уровнем экономического развития: люди из стран с низким доходом более склонны акцентировать роль религии и поддерживать традиционное распределение гендерных ролей, чем люди из богатых стран, причем корреляция крайне высока, зачастую в пределах 0,6—0,8. При сравнении приоритетов людей из богатых и бедных стран также обнаруживаются различия. Людям в разных странах задавали вопрос: «Оцените важность следующих вещей в вашей жизни по шкале: "очень важно”, “достаточно важно”, “не очень важно”, “совсем не важно”». Вопрос касался семьи, друзей, свободного времени, политики, работы и религии. Везде на первом месте оказалась семья. Работу также считают важной во всех странах; но в бедных ее считают более важной, так как от того, есть ли у человека работа, во многом зависит его выживание. Здесь работа считается «важнее», чем друзья и досуг вместе взятые. Но по мере движения к более богатым странам мы замечаем, что относительная ценность работы (и религии) снижается, а друзей и свободного времени — растет. Наличие свободного времени считается менее важным, чем работа, однако оно «котируется» намного выше, чем религия. Таким образом, экономическое развитие способствует более или менее прогнозируемым переменам в общественном сознании. С 1981 по 2007 год шкала основных ценностей в развитых странах менялась в ожидаемом направлении, в то время как в стагнирующих обществах набор основных ценностей почти не претерпел изменений. Основываясь на собранных данных, можно утверждать, что модернизация порождает культурные сдвиги, которые способствуют автономии личности и демократии*. * См.: Inglehart, Ronald and Welzel, Christian. Modernization, Cultural Change and Democracy, New York, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 167 Рональд Инглхарт Доля ответивших «очень важно», в % 80 работа 60 религия друзья 40 досуг 20 политика 0 Страны с низким Страны с уровнем Страны с уровнем Страны с высоким уровнем дохода дохода ниже дохода выше уровнем дохода среднего среднего График 1. Сравнение значимости различных аспектов жизни в богатых и бедных странах. Источник: объединенные данные исследований в рамках World Values Survey и European Values Study за 1990–2007 годы. Доминантная роль социально-экономического развития Стремление выжить характерно для любого живого существа, но выживание на протяжении большей части истории всех видов, в том числе и человека, не было гарантированным. В такой ситуации вся жизненная стратегия подчиняется одной лишь цели — выжить. Однако экономическое развитие постепенно превратило выживание в то, что большинство людей стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Ожидаемая продолжительность жизни повысилась до небывалого уровня: в 1900 году в США она составляла 49 лет; сегодня — 78. Большинство граждан развитых стран не боится угрозы голода. Как следствие — для новых поколений основной акцент сместился с выживания на самовыражение. Если разразившийся в 2008 году кризис будет достаточно глубоким и продолжительным, он может развернуть вспять эту тенденцию — однако пока это выглядит маловероятным. 168 Модернизация и демократия Развитие раздвигает рамки автономии и креативности. Экономическая безопасность снижает давление материальных ограничений. Социально-экономический прогресс повышает уровень образования людей и обеспечивает лучший доступ к информации, а зарождающееся общество знания требует мобилизации когнитивных способностей человека. Кроме того, углубляется профессиональная специализация и усложняется структура общества; люди освобождются от общинных и клановых связей; «механическая солидарность» сменяется «органической», «сообщество» — «ассоциацией». Диверсифицированное взаимодействие освобождает людей от предопределенных социальных ролей и связей, предоставляя им возможность самим определять свою роль в обществе; четко установленные гендерные и классовые роли размываются, расширяя пространство самовыражения. Поэтому ценности и убеждения людей в развитых странах поразительно отличаются от тех, что присущи людям из развивающихся стран. Некоторые из наиболее важных межкультурных расхождений касаются религии. В аграрных обществах она, как правило, играет центральную роль в жизни людей; в индустриальных — ее роль ослабевает. Другое измерение межкультурных различий заключается в гендерных ролях, самовыражении и качестве жизненных интересов — и мы видим, что в некоторых бедных странах 99% населения считают, что мужчины более способны к политическому руководству, чем женщины; в постиндустриальных странах с таким утверждением соглашается лишь незначительное меньшинство. История показывает, что существующий набор ценностей отражает условия жизни и меняется вместе с ними — хотя и со значительным отставанием, поскольку требуется время для апробации новых жизненных стратегий. Эти новые стратегии скорее всего будут взяты на вооружение молодым поколением, а не старшей возрастной группой. С появлением нового стиля жизни последующие поколения оказываются перед выбором различных ролевых моделей — и выбирают ту, которая наилучшим образом отвечает их опыту. Так экономическое развитие ведет к фундаментальным переменам в ценностных ориентациях людей по всему миру. Через индустриализацию — к постиндустриализму и… Индустриализация инициирует важный этап культурной трансформации и приводит к бюрократизации, рационализации, централизации и секуляризации. Развитие постиндустриального общества влечет за собой другой ее этап — усиление роли личной автономии и самовыражения. И на том, и на другом этапе происходит измене- 169 Рональд Инглхарт ние отношения людей к власти — но в различных аспектах. На индустриальном этапе модернизации происходит освобождение власти от религии, в то время как на постиндустриальном — освобождение человека от вездесущности власти. Индустриализирующиеся общества сконцентрированы на максимизации материального продукта, поскольку видят в этом наилучший способ повышения благосостояния людей. Постиндустриальная модернизация ведет к смене стратегии — от максимизации материальных ценностей к увеличению благополучия людей за счет изменения образа жизни. Соответственно на смену политическим баталиям на основе социального и классового конфликта приходят разногласия по вопросам культуры и качества жизни. Таким образом, социально-экономическое развитие порождает изменения не одного, а двух типов: один связан с индустриализацией, другой — с переходом к постиндустриальному обществу. Утверждение рационалистических ценностей привело к утверждению власти, сменяющей ту, что опиралась на традиционалистское мировоззрение. С возрастанием контроля над природой роль религии снижалась. Возникли материалистические идеологии, выдвигавшие светские интерпретации истории и светские утопии, которых предлагалось достичь с помощью развития технологий. Но эти идеологии были не менее догматичны, чем религия, отражая строгую дисциплину и стандартизацию, характерную для организации труда и жизни в целом в индустриальных обществах. Утверждение секулярно-рационалистического мировоззрения приводило поэтому не к подрыву власти, а лишь к смене ее основы с традиционной религиозной на светско-рационалистическую. Однако индустриализация не повысила индивидуальной автономии человека, поскольку индустриальные общества строго дисциплинированы и регламентированы, а жизнь в них так же стандартизирована, как и товары массового потребления. Стандартизация жизни подавляет самовыражение. Жесткие нормы поведения обеспечивают организацию безликой массы, когда армии рабочих маршируют от своих бараков к конвейеру и обратно. Индустриализация заменяет религиозные догмы светскими, но не освобождает человека от давления власти. Появление постиндустриального общества влечет за собой волну культурных перемен, идущую в другом направлении. В развитых странах большая часть рабочих трудится уже не на заводах, а взаимодействует с людьми, образами и информацией. Важнейшими итогами человеческих усилий становятся знания и идеи, а главным ресурсом, необходимым для их производства, — творчество. Постиндустриальный век высвобождает человеческий выбор из тисков объектив- 170 Модернизация и демократия ных ограничений тремя путями. Во-первых, постиндустриальные общества достигли беспрецедентно высокого уровня защищенности жизни. Даже в США около четверти ВВП расходуется правительством на социальные нужды. Средняя продолжительность жизни почти в 80 лет стала в постиндустриальных обществах нормой. Все это позволяет реализовать стремление к самовыражению. Во-вторых, постиндустриальный век запускает процесс всеобщей когнитивной мобилизации. Современные профессии во все большей степени требуют применения мыслительных способностей. Образование делает людей интеллектуально более независимыми, а опыт работы помогает развить потенциал автономного принятия решений. Креативность, воображение и интеллектуальная свобода играют все большую роль, а информационные технологии обеспечивают людям легкий доступ к знаниям. В-третьих, в постиндустриальном обществе наблюдается «социально-освободительный» эффект. Общества, ориентированные на сферу услуг, отказываются от жестко стандартизированного образа повседневной жизни. Постиндустриализм дестандартизирует экономическую активность и общественную жизнь. Автономность, которую получает человек, проникает во все сферы: взаимодействие людей становится все свободнее от подчинения тесным внутригрупповым связям. Государство благосостояния приветствует эту тенденцию к индивидуализации. До его появления выживание детей в значительной мере зависело от того, обеспечивают ли их родители; дети же в свою очередь брали на себя заботу о престарелых родителях. Сегодня же неполные семьи и бездетные пожилые люди гораздо более жизнеспособны, чем раньше, и это еще более облегчает переход от «сообществ по необходимости» к «группам по интересам», расширяя рамки человеческого выбора. Две последовательные фазы модернизации отличаются по очень важным аспектам. В индустриальную фазу растущий контроль человека над природой был сопряжен с «механическим» мировоззрением, зависимость от высших сил представлялась все менее значимой, но человеческая деятельность продолжала быть жестко структурированной и регламентированной. В итоге чувство защищенности в индустриальную эпоху не переходило в более широкое чувство автономии человека. Индустриализация серьезно способствовала утверждению секулярно-рационалистических ориентаций и лишь немного — ценностей самовыражения. На постиндустриальной фазе экономические проблемы отступают, дестандартизация хозяйственной и общественной жизни снижает социальные ограничения, и чувство защищенности переходит в более широкое чувство автономии. Так, продвигая ценности самовыражения, постиндустриальная эпоха способствует затуханию секулярно-рационалистических ценностных ориентаций. 171 Рональд Инглхарт Стойкость традиционных культур Самюэль Хантингтон, Роберт Патнэм, Фрэнсис Фукуяма, Уэйн Бейкер, Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель* считают, что культурные традиции очень устойчивы и сегодня определяют политический и экономический облик соответствующих обществ. Но теоретики модернизации от Карла Маркса и Макса Вебера до Даниела Белла и Олвина Тоффлера утверждают, что подъем индустриального общества сопряжен с чередой культурных перемен, ведущих к разрыву с традиционными системами ценностей. Как ни странно, верны обе точки зрения. В последние годы в исследованиях социально-экономического развития возникли две соперничающие школы. Одна акцентирует внимание на конвергенции ценностей в результате модернизации, предрекая закат традиционных ориентаций и замещение их более современными. Другая подчеркивает сохранение традиционных ценностей вопреки экономическим и политическим переменам. Предполагается, что ценностные ориентации мало зависят от экономических условий. Соответственно, сторонники этой идеи считают конвергенцию вокруг некоего набора «современных» ценностей маловероятной; традиционные ценности будут продолжать оказывать влияние на культурные перемены, вызванные экономическим развитием. Основная идея модернизационной теории состоит в том, что социально-экономическое развитие сопряжено с последовательными предсказуемыми переменами в культурной и политической жизни. Как мы видим из мирового опыта, экономический прогресс действительно имеет тенденцию направлять различные общества в более или менее просчитываемом направлении — однако путь культурных перемен зависит от определенных обстоятельств. Историческое наследие, определяемое протестантизмом, православием, исламом или конфуцианством, обусловливает наличие разных культурных зон с различными системами ценностей, продолжающими действовать даже тогда, когда удается контролировать ход социально-экономического развития. Эти культурные зоны обнаруживают значительную стойкость — несмотря на то, что системы ценностей различных стран под действием мощных модернизирующих сил трансформируются в одном и том * См.: Хантингтон, Самюэль. Столкновение цивилизаций, Москва: Издательство АСТ, 2007; Патнэм, Роберт. Чтобы демократия сработала, Москва: Ad Marginem, 1996; Фукуяма, Фрэнсис. Доверие, Москва: Издательство АСТ, 2008; Inglehart, Ronald and Welzel, Christian. Modernization, Cultural Change and Democracy; Inglehart, Ronald and Baker, Wayne. «Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values» in: American Sociological Review, February 2000, pp. 19–51. 172 Модернизация и демократия же направлении и не сливаются воедино, как предрекают упрощенческие подходы к проблеме культурной глобализации. Это может показаться парадоксальным — но парадокса здесь нет. Если бы общества двигались в одном и том же направлении и с одной и той же скоростью, дистанции между ними никогда бы не сократились и конвергенции никогда бы не произошло. Конечно, реальность не так проста, но этот пример иллюстрирует важный принцип: постиндустриальные общества стремительно трансформируются и двигаются в одном и том же направлении — но культурные различия между ними в 2006 году никак не меньше, чем были в 1981-м. Несмотря на то, что ценностные ориентации могут меняться и меняются, они продолжают отражать историческое наследие общества. Тем не менее очевидно, что социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе ведет к предсказуемым, но вероятностным переменам, которые не носят детерминистского характера. Более того, культурные изменения нелинейны и не движутся в такт с экономическим развитием. Мы уже говорили, что индустриализация инициирует переход от традиционалистских к светско-рационалистическим ценностям, а с развитием постиндустриального общества культурная трансформация меняет направление. Сторонники модернизационной теории предвидели культурные изменения, связанные с первой тенденцией, но не прочувствовали более позднюю, вторую волну. Ее освобождающий импульс несовместим с технократическим авторитаризмом, который теоретики модернизации считали результатом политической модернизации. Напротив, ориентация на ценности самовыражения делает самым вероятным результатом политического развития демократию. Культурные изменения, связанные с различными этапами модернизации, обратимы. Социальное развитие ведет к крупным (более или менее предсказуемым) культурным переменам; но в случае экономического спада эти изменения могут обернуться вспять. И тем не менее существует тесная логическая связь между: 1) высоким уровнем экономического развития, 2) культурными изменениями, направленными на усиление индивидуальной автономии, креативности и самовыражения, и 3) демократизацией. При этом демократии становятся более восприимчивыми, а политика все меньше походит на игру, к которой допущены лишь элиты, принимающие во внимание мнения людей только во время выборов. У разных обществ разные траектории трансформаций. Макс Вебер* считал, что традиционные религиозные убеждения отличаются устойчивостью, и многие исследователи отмечают, что характерные куль* См.: Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribner & Sons, 1958. 173 Рональд Инглхарт турные особенности на протяжении долгого времени продолжают оказывать влияние на политическую и экономическую жизнь общества. Так, Роберт Патнэм* продемонстрировал, что наиболее успешно демократические институты сегодня функционируют в тех регионах Италии, в которых было относительно неплохо развито гражданское общество в XIX веке и даже раньше. Общества с низким уровнем межличностного взаимодействия в меньшей степени склонны к развитию крупных и сложных форм общественных институтов. Гэри Гамильтон утверждает, что, хотя капитализм стал почти универсальным образом жизни, цивилизационные факторы продолжают оказывать влияние на организацию общества и его экономику. «То, что мы видим с развитием мировой экономики, — это не усиление унификации в форме универсализации западной культуры, а продолжение цивилизационной диверсификации через активное новое прочтение и реинкорпорирование незападных цивилизиционных моделей»**. Факторный анализ данных по 43 странам в рамках World Values Survey в 1990-е годы обнаружил, что более чем за половину кросснациональных различий в нашей палитре отвечают два измерения: континуумы от традиционных к секулярно-рационалистическим ценностям и от выживания к самовыражению***. При повторе анализа с данными за 1995–1998 годы были выявлены те же два измерения межстрановых различий — несмотря на то что новый анализ включил в себя дополнительно 23 страны****. Те же два измерения остались основными в анализе с данными за 2000-2001-й*****, а также за 2005–2007 годы. На Графике 2 показано расположение 52 стран по этим двум шкалам на культурологической карте мира в соответствии с наиболее свежими данными (за 2005–2007 годы) по каждой стране. Согласно теории модернизации, повышение уровня защищенности жизни ведет к сдвигу по шкале от традиционных к секулярно-рационалистическим ценностям и от ориентаций на выживание к ориентации на самовыражение. Поэтому практически все страны с высоким уровнем дохода имеют высокие показатели по обеим шкалам, находясь в правом верхнем поле графика. Страны же с низким уровнем дохода имеют низкие показатели и находятся в нижнем левом поле графика. * См.: Патнэм, Роберт. Чтобы демократия сработала. ** Hamilton, Gary. «Civilizations and Organization of Economies» in: Smelser, Neil and Swedberg, Richard (eds.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton Univ. Press, 1994, p. 184. *** См.: Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1997. **** См.: Inglehart, Ronald and Baker, Wayne. «Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values». ***** См.: Inglehart, Ronald and Welzel, Christian. «Modernization, Cultural Change and Democracy». 174 Модернизация и демократия 2.0 Япония Конфуцианские страны От традиционалистских к секулярнорационалистическим ценностям 1.5 Тайвань 1.0 0.5 0.0 Болгария Белоруссия 1.0 Китай 2.0 2.0 Дания Финляндия Нидерланды Швейцария Словакия Словения Бельгия Исландия Католическая Франция Православные страны Македония Европа Люксембург Италия Хорватия Южная Азия Вьетнам Кипр Индия Таиланд Индонезия Эфиопия Польша Исламские страны Велико британия Испания Уругвай МалайзияАргентина Замбия Чили Турция Иран Уганда Бангладеш Австралия Н.Зеландия Канада Сев.Ирландия Англоговорящие страны Ирландия Бразилия США Латинская Мали Америка Руанда Нигерия Перу Мексика Иордания ЮАР Алжир Венесуэла Зимбабве Гватемала Марокко Египет Колумбия Танзания Сальвадор ПуэртоРико Африка Гана Пакистан 1.5 Норвегия Чехия Ю.Корея Россия Сербия Молдавия Украина Ирак Германия Гонконг Румыния 0.5 Швеция Протестантская Европа 1.5 БуркинаФасо 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 От выживания к самовыражению График 2. Расположение 52 стран на культурологической карте мира по двум шкалам Источник: данные исследований в рамках World Values Survey за 2007 год. Но есть доказательства правильности и веберианской точки зрения на модернизацию, в соответствии с которой религиозные ценности общества накладывают прочный отпечаток. Так, мы видим, что протестантские страны Европы демонстрируют приблизительно равные показатели по обеим шкалам. Можно также выделить такие группы, как католические страны Европы, конфуцианские страны, православные государства, англоязычные страны, Латинская Америка и государства Африки к югу от Сахары. Межстрановые различия, выявленные в ходе исследований, отражают как экономическую, так и социальную историю общества. Используя совершенно иной метод анализа и другую базу данных, Шалом Шварц* приходит к классифи* См.: Schwartz, Shalom. «A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications» in: Comparative Sociology, No. 5, 2006, pp. 137–182. 175 Рональд Инглхарт кациям стран (в исследование попали 76 государств), которые очень схожи с теми, что представлены на приведенном графике. Протестантское, конфуцианское и исламское культурные наследия имеют долговременный эффект, продолжая оказывать влияние на развитие соответствующих обществ даже тогда, когда прямое влияние религиозных институтов незначительно. Так, несмотря на то, что посещаемость церквей в протестантских странах Европы сегодня невелика, общества, которые исторически формировались под влиянием протестантизма, продолжают жить с соответствующим набором ценностей и убеждений. То же самое характерно и для обществ, сформировавшихся под влиянием римско-католической церкви, а также для исламских, православных и конфуцианских обществ. Это значит, что тезис о секуляризации верен лишь наполовину. Хотя роль религии снижается, значение духовных вопросов в более широком смысле лишь растет. В постиндустриальных обществах поддержка старой, иерархичной церкви ослабевает, зато Япония Швеция От традиционалистских к секулярнорационалистическим ценностям Высокий уровень дохода 2,0 Германия Гонконг Тайвань Чехи Болгария Белоруссия Китай 1,5 Ю.Корея 1,0 Россия –0,5 –1,0 –1,5 Венгрия Хорватия Македония 0,5 0,0 Словакия Молдавия Украина Сербия Ирак Румыния Норвегия Дани Финляндия Швейцария Нидерланды Словения Бельгия Франция Исландия Люксембург Италия Австралия Доход Испания выше среднего Вьетнам Индонезия Индия Эфиопия Польша Великобритания Уругвай Аргентина Доход ниже Таиланд Малайзия среднего и Замбия Турция Чили низкий Бангладеш Иран Уганда Бразилия Буркина Мали Руанда Нигерия Перу ЮАР Иордания Гватемала Зимбабве Алжир Венесуэла МароккоЕгипет Колумбия Танзания Гана Сальвадор –2.0 –1,7 Пакистан –1,2 –0,7 –0,2 0,3 Канада Сев.Ирландия Ирландия США Мексика ПуэртоРико 0,8 От выживания к самовыражению 1,3 График 3. Источник: данные исследований в рамках World Values Survey за 2007 год. 176 Н.Зеландия 1,8 2,3 Модернизация и демократия духовная жизнь принимает формы, все более отвечающие индивидуальному самовыражению. Оба эти основные измерения межстрановых различий тесно связаны с экономическим развитием: системы ценностей стран с высокими и низкими доходами сильно отличаются. Как показано на Графике 3, первые занимают высокое положение по обеим шкалам, а вторые имеют низкие показатели. Страны с доходами чуть выше среднего располагаются где-то посередине. Значит, ценности того или иного общества отражают уровень его экономического развития — как и учит теория модернизации. Тесная связь между системами ценностей и доходом на душу населения предполагает, что по мере экономического развития происходят явные изменения в общественных убеждениях и ценностных ориентациях — от исследования к исследованию эта гипотеза подтверждается. Если сравнить позиции конкретных стран в 1981 и 2007 годах, можно заметить, что все те, кто добился повышения подушевого дохода, продвинулись по ценностным шкалам в предсказуемых направлениях. На Графике 4 показаны изменения положения основных десяти групп стран на культорологической карте мира, произошедшие за данный период. За это время общества с высоким уровнем дохода сдвинулись в сторону секулярно-рационалистиче- От традиционалистских к секулярнорационалистическим ценностям 1,8 1,3 Япония Протестантская Европа Россия 0,8 0,3 –0,3 Китай Католическая Европа Бывшие комму нистические страны Европы Индия Латинская Америка –0,8 –1,3 –1,8 –1,7 Англоязычные страны Африка –1,2 –0,7 –0,2 0,3 0,8 1,3 1,8 От выживания к самовыражению График 4. 177 Рональд Инглхарт ских ценностных ориентаций и одновременно в сторону ценностей самовыражения; это же верно и для Индии. Страны Латинской Америки и Африки продемонстрировали некоторое движение в сторону самовыражения, при этом с небольшим уклоном в сторону традиционалистских ценностных ориентаций. Посткоммунистические страны — исключительный случай. Здесь не наблюдается тенденции укрепления ценностей самовыражения; Россия продемонстрировала движение вспять — усилилась роль традиционалистских ценностных ориентаций и ценности выживания. Это и неудивительно: если повышение уверенности и защищенности усиливает стремление к самореализации, то социальный коллапс — жажду выжить. Экономическое развитие и демократия Полвека назад Сеймур Мартин Липсет заметил, что богатые страны гораздо более склонны к демократии, чем бедные. Это утверждение упорно оспаривалось, но выдержало многократные испытания. Ставилась под вопрос и причинно-следственная связь: богатые страны склонны быть демократическими, потому что демократия делает их богатыми, или же наоборот, экономическое развитие ведет к демократии? Сегодня каузальная последовательность кажется очевидной: в основном именно экономическое развитие ведет к демократии. На ранней стадии индустриализации у авторитарных государств почти те же шансы достичь высокого уровня развития, что и у демократий. Но на определенном этапе шансы на продолжение развития остаются только у демократий. Так, среди стран, демократизировавшихся между 1985 и 1990 годами, большинство составляли страны со средним доходом. Более того, Адам Пшеворски* заметил, что среди государств, осуществивших демократический транзит с 1970-го по 1990 год, демократия выжила в тех странах, экономический уровень которых как минимум соответствовал аргентинскому или был выше; а вот в странах ниже этого уровня средняя продолжительность жизни демократии составила лишь восемь лет. Корреляция между экономическим развитием и демократией отражает тот факт, что экономическое развитие ведет к демократии. Вопрос, почему это происходит, обсуждался часто, но ответ начинает вырисовываться только сейчас. Экономическое развитие влечет за собой политические изменения лишь в той степени, в какой оно меняет поведение людей. Следовательно, экономическое развитие * См.: Przeworski, Adam. «Democracy as an Equilibrium» in: Public Choice, Issue 123, 2005, pp. 253–273. 178 Модернизация и демократия ведет к демократии в той мере, в какой оно, во-первых, ведет к появлению образованного среднего класса, состоящего из людей, привыкших мыслить самостоятельно, и, во-вторых, трансформирует ценности и мотивации людей. Сегодня как никогда ранее возможно определить, каковы основные изменения, и измерить их глубину в конкретных странах. Результат приводит к выводу: экономическое развитие ведет к демократии в той мере, в какой вызывает определенные структурные (в особенности рост сектора знаний) и культурные (прежде всего рост ценности самовыражения) изменения. Войны, затяжные кризисы, институциональные изменения, поведение элит и своеобразные лидеры также влияют на происходящее, но культурные изменения — основное условие появления и выживания демократии. Модернизация стимулирует повышение уровня образования и заставляет людей лучше разбираться в политике. Она делает людей более защищенными экономически, а ценности самовыражения распространяются по мере того, как значительная доля населения вырастает, не заботясь о выживании. Стремления к свободе и автономии универсальны и становятся приоритетными, как только выживание оказывается более или менее обеспечено. Основной мотив к развитию демократии — человеческое стремление к свободному выбору — начинает играть возрастающую роль, и люди начинают требовать политических свобод и демократических институтов. Эффективность демократии Во время «демократического бума», пришедшегося на 1987– 1995 годы, электоральная демократия быстро распространилась по миру. В этом процессе важную роль сыграло то, что элиты смогли договориться; содействовала процессу и международная ситуация — конец «холодной войны» открыл путь для демократизации. Вместе с тем возник соблазн считать демократической любую страну, в которой проходили свободные и честные выборы. Однако многие молодые демократии страдают от коррупции и не способны обеспечить верховенство закона. Поэтому позднее эксперты начали указывать на неполноценность «выборных», «гибридных», «нелиберальных» и прочих форм лжедемократии, при которых волеизъявление народа игнорируется политическими элитами, не оказывая значительного влияния на решения властей. Таким образом, следует различать эффективную и неэффективную демократии. Суть демократии в том, что она наделяет властью рядовых граждан. Эффективная демократия определяется не только объемом 179 Рональд Инглхарт гражданских и политических прав, закрепленных на бумаге, но степенью уважения этих прав властями. Первый из компонентов — существование прав на бумаге — измеряется ежегодными рейтингами «Фридом хаус»: если в стране проходят свободные выборы, эта организация считает ее «свободной», присваивая высокий балл по соответствующей шкале. В итоге новоявленные демократии Восточной Европы имеют тот же рейтинг, что и давно устоявшиеся демократии Западной, хотя анализ показывает, что широкое распространение коррупции делает их значительно менее эффективными в отражении выбора их граждан. Но существует еще и рейтинг эффективности управления, составляемый Всемирным банком, который отражает, насколько демократические институты в действительности эффективны. Перемножая показатели этих двух рейтингов, получаем индикатор эффективности демократии. Эффективная демократия — нечто более совершенное, чем электоральная. Последняя бесполезна, если не укоренена в инфраструктуру, обеспечивающую подотчетность элит гражданам. Эффективная демократия отражает эти условия, наиболее важное из которых — высокий уровень когнитивной мобилизации и широкая приверженность ценности самовыражения. Следовательно, корреляция между ценностями людей и политическими институтами очень сильна, как проиллюстрировано на Графике 5. Практически во всех стабильных демократиях ценности самовыражения весьма значимы: так, страны Северной Европы, Швейцария, Германия, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Канада, США, Австрия, Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Италия и Япония сконцентрированы в правой верхней зоне Графика 5, отражая тот факт, что в них высока ценность самовыражения и эффективность демократии. Почти все авторитарные режимы находятся на противоположных сторонах шкал: Зимбабве, Китай, Белоруссия, Россия, Руанда, Пакистан, Алжир и Египет сгруппированы у основания Графика 5 — показатели ценности самовыражения и эффективности демократии у них низкие. Большинство латиноамериканских стран «выступает» ниже своих возможностей: эффективность демократии там ниже, чем могла бы быть в странах с подобными ценностными ориентациями населения. Это значит, что такие страны могут достичь более высокого уровня эффективности демократии при усилении роли закона. Иран также находится ниже своего уровня — люди здесь заслуживают более демократичного режима, чем нынешняя теократия. Как ни странно это может показаться, народ Ирана выражает относительно сильную поддержку демократии. Эстония, Кипр, Венгрия, Польша, Латвия и Литва, наоборот, «прыгнули выше голо- 180 Модернизация и демократия 100 Финляндия Дания Новая Зеландия Исландия Швейцария Люксемб. Нидерланды Норвегия Швеция Австралия Великобритания Канада Австрия 95 90 Эффективные демократии, 2000–2006 годы 80 Чили 70 Венгрия Тайвань Польша Литва 60 55 Латвия 50 ЮАР 45 30 25 20 15 10 5 0 0,15 Кипр Эстония 65 35 Андорра Испания Мальта Франция Португалия Япония 75 40 Германия США Ирландия Бельгия 85 Словения Израиль Ю. Корея Уругвай Италия Греция Чехия Словакия Болгария Хорватия Сингапур Тринидад Индия Мали Бразилия Мексика Гана Сальвадор Перу Турция Аргентина БуркинаФасо Филиппины Албания Армения Малайзия Колумбия Босния Марокко Иордания Гватемала Замбия Уганда Венесуэла Танзания Нигерия Азербайджан Бангладеш Эфиопия Россия Иран Египет Алжир Руанда Пакистан Китай Вьетнам Ирак Зимбабве Белоруссия Сауд. Аравия 0,20 0,25 0,30 0,35 r = .85 0,40 0,45 0,50 0.55 0.60 0.65 0.70 Самовыражение, 1995–2005 годы График 5. вы», демонстрируя более высокие уровни эффективности демократии, чем это соответствовало бы ценностной шкале их граждан. Возможно, стимулом к демократизации послужило вступление в Европейский Союз. Но в целом существует сильная корреляция между тем, насколько народ привержен ценностям самовыражения, и тем, сколь эффективна в стране демократия. Но где причина, где следствие: ценности самовыражения предопределяют демократию или наоборот? Опыт говорит в пользу первостепенности ценностей самовыражения. Для их зарождения демократические институты не нужны. Обзоры показывают, что в период, предшествующий волне демократизации 1988–1992 годов, ценности самовыражения появились благодаря межпоколенческой смене ориентаций — и не только в западных демократиях, но и во многих авторитарных странах. К 1990 году ценность самовыражения выросла до очень высокого уровня в Восточной Германии и Чехословакии — двух самых авторитарных режимах мира. Ключевым фактором была не политическая система, а тот факт, что эти государства были самыми экономически развитыми среди стран коммунистического блока — 181 Рональд Инглхарт для них были характерны высокий уровень образования и развитая система социального обеспечения. Итак, модернизация ведет к всепроникающим изменениям в ценностных ориентациях людей, способствуя свободе выбора и самовыражению. В политической сфере это заставляет людей стремиться к установлению демократических институтов, а с развитием общества знания люди становятся все более грамотными, чтобы требовать эффективной демократии. Результат зависит от соотношения сил между элитой и обществом, но в общем и целом успешность модернизации повышает вероятность установления демократии. Перевод А. Шаховой и В. Иноземцева Источники Hamilton, Gary. «Civilizations and Organization of Economies» in: Smelser, Neil and Swedberg, Richard (eds.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton Univ. Press, 1994. Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1997. Inglehart, Ronald and Welzel, Christian. Modernization, Cultural Change and Democracy, New York, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. Inglehart, Ronald and Baker, Wayne. «Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values» in: American Sociological Review, 2000, February. Przeworski, Adam. «Democracy as an Equilibrium» in: Public Choice, Issue 123, 2005. Schwartz, Shalom. «A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications» in: Comparative Sociology, 2006, No 5, pp. 137–182. Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribner & Sons, 1958. Патнэм, Роберт. Чтобы демократия сработала, Москва: Ad Marginem, 1996. Фукуяма, Фрэнсис. Доверие, Москва: Издательство АСТ, 2008. Хантингтон, Самюэль. Столкновение цивилизаций, Москва: Издательство АСТ, 2007. 182 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций постсоветских стран Андрей Рябов, Член научного совета Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «МЭиМО» (Россия) Взаимоотношение демократизации и модернизации в обществах переходного типа — одна из важнейших теоретических проблем, напрямую затрагивающих и практическую политику. Остро стоит она и применительно к постсоветскому пространству, где трансформационные процессы последних двух десятилетий опровергли упрощенные представления о том, что демократизация неизбежно ведет к глубокой социальной модернизации. Постсоветский опыт: демократизация без модернизации В российском политическом лексиконе 1990-х годов термин «модернизация» применялся преимущественно к двум взаимосвязанным процессам того времени: демократизации политической системы и проведению либеральных экономических реформ. И хотя в научной литературе высказывались мнения о том, что модернизация — это гораздо более сложное и многоплановое явление и ее результативность не всегда напрямую обусловлена про* См., например: Красильщиков, Виктор. Вдогонку за ушедшим веком: развитие России в ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций, Москва: РОССПЭН, 1998. 183 Андрей Рябов цессами демократизации*, в сознании политического класса господствовали другие представления. Экономическое развитие, создание современной структуры народного хозяйства, рост благосостояния населения считались неизбежными, предопределенными и безальтернативными результатами той политики, которую вознамерилось проводить тогдашнее руководство России. Поскольку выбранный курс считался «единственно верным», для успеха модернизации требовались только решительность и последовательность власти в деле реализации намеченных демократических и либерально-рыночных реформ. Однако уже к середине 1990-х стало очевидно, что столь прямолинейное понимание модернизации не прошло проверку временем. Демократизация и создание рыночных основ хозяйственной системы сопровождались экономическим упадком, закреплением односторонней топливно-сырьевой направленности экономики, деградацией целых ее отраслей, социальной инфраструктуры и ухудшением качества человеческого капитала. В экономическом развитии стали отчетливо просматриваться черты регресса и деиндустриализации, применительно к которым в политическом лексиконе даже стал употребляться термин «демодернизация»*. Аналогичные процессы прослеживались и в других государствах постсоветского пространства — как в тех, что одновременно вместе с Россией попытались проводить демократические и рыночные реформы (Молдавия, Армения), так и в тех, которые максимально сохраняли каркас прежней общественной системы, по возможности приспособив его к изменившимся условиям новой исторической эпохи (государ ства Центральной Азии). Затронули они и страны, избравшие иные модели изменений, соединявшие довольно последовательные либерально-рыночные реформы с сохранением авторитарной системы правления (Казахстан), либо политическую плюрализацию с умеренными экономическими переменами (Украина, Грузия). Таким образом, очевидно, что демократизация постсоветского пространства не привела к его модернизации. Между тем данная констатация не дает объяснений происшедшего. Для понимания взаимосвязи демократизации и модернизации в ходе посткоммунистической трансформации на пространс* См.: Явлинский, Григорий. Демодернизация. Современная Россия: экономические оценки и политические выводы, Москва: ЭПИцентр, 2003. 184 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… тве бывшего СССР требуется последовательно рассмотреть три группы вопросов. Первая связана со спецификой процессов демократизации, которая, в отличие от государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), не была глубокой и последовательной. Более того, в ряде постсоветских стран* попытки демократизации впоследствии сменились возвратными авторитарными тенденциями (Азербайджан, Белоруссия, Россия, Армения). Вторая группа вопросов сводится к выяснению возможностей и границ демократизации в условиях той общественной модели, которая сложилась на постсоветском пространстве. Вполне вероятно, что она не сводима к «замороженному» демократическому транзиту, а представляет собой самостоятельный тип общественного устройства — устойчивый и прочный. И наконец, третья группа вопросов касается опций для модернизации обществ постсоветского типа в их нынешнем состоянии (возможно — и без осуществления демократизации). Ограниченная демократизация Сравнение государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, со странами ЦВЕ позволяет лучше понять непоследовательность и ограниченность результатов демократизации на постсоветском пространстве. Здесь, в отличие от государств ЦВЕ, политическим изменениям конца 1980-х — начала 1990-х годов не предшествовала веберовская «революция ценностей». В бывшей Чехословакии, Польше или Венгрии национальный консенсус вокруг целей развития — установления демократии и возвращения в семью европейских народов — сложился задолго до того, как «бархатные революции» 1989 года ниспровергли коммунистический общественный строй и его институты. Огромную роль в этом сыграли антисталинистское народное восстание в Венгрии в октябре 1956 года, многочисленные массовые антикоммунистические выступления в Польше в 1968, 1970 и 1980 годах, а также «Пражская весна» 1968 года. Все эти события окончательно подорвали легитимность прежнего общественного строя. В Советском Союзе начатая при Михаиле Горбачеве либерализация не воспринималась большинством общества * В понятие постсоветских стран мы не включаем государства Балтии, которые сразу же после распада СССР дистанцировались от других стран, образовавшихся на развалинах Советского Союза, отказавшись от участия в каких-либо проектах сотрудничества с ними. Поэтому, будучи связанными с постсоветскими странами общей историей, в политическом плане они сильно отличаются от них. Типология социально-экономических и политических систем стран Балтии иная, чем у государств СНГ. 185 Андрей Рябов как разрыв с прежней социальной системой, но предполагала утверждение новой шкалы ценностей и переход к созданию иных по своей природе институтов и отношений. Демократизация расценивалась преимущественно как процесс быстрого приобщения общества к высоким западным потребительским стандартам. Это объяснялось тем, что в СССР 1970–1980-х годов сложилось относительно развитое общество потребления, растущие интересы которого не могли быть удовлетворены в рамках советской системы, однако в отличие от стран ЦВЕ так и не возникло гражданского общества. Не случайно ниспровержение коммунистического порядка и начало трансформации связываются современными российскими экономистами и социологами с «потребительской революцией». Группы же, ориентированные на превращение общества в либеральную демократию западного типа и полагавшие, что главное — это восприятие населением новых ценностей и создание других институтов, были в СССР слабы и малочисленны, не пользовались широкой поддержкой населения. Заметим: подъем агрессивного национализма и консервативного популизма в некоторых странах ЦВЕ во второй половине 2000-х годов показал, что не стоит переоценивать уровень прогресса этих государств в освоении демократических ценностей. На поверку декларирование новых ценностей для многих граждан свелось лишь к стремлению передвигаться по Европе без границ и иных разделительных линий, повысив при этом свое материальное благополучие. И все же в сравнении с постсоветскими странами разница выглядит очень внушительно. Даже серьезные экономические трудности не спровоцировали здесь требований свертывания или ограничения демократических свобод. На постсоветском же пространстве первое столкновение с трудностями переходного периода в начале 1990-х годов способствовало тому, что инструментальная привлекательность демократических принципов и ценностей в массовом сознании поблекла. Важнейшим результатом этого стало терпимое отношение населения к нарушению демократических правил и процедур, к изъятию некоторых из них из законодательства и общественно-политической практики. Не менее значимым следствием разочарования в инструментальной эффективности демократии стал отказ от активного политического участия, которое в 1990-е годы постепенно стало ограничиваться голосованием на выборах. К таким изменениям социального поведения побуждала и тяжелая экономическая ситуация того периода, когда большинство граждан, не имея навыков жизни в условиях рынка, 186 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… были вынуждены сконцентрироваться на осуществлении индивидуальных стратегий выживания. Подобная ситуация оказалась выгодной новым правящим элитам, которые быстро научились манипулировать электоральными процедурами и создали механизмы, призванные обеспечить их бессменное сохранение у власти. Этим элитам, не чувствовавшим давления со стороны европейских структур, удалось отсечь от конкуренции за власть альтернативные политические силы. Монополизация власти и концентрация контроля над основными активами национальных экономик в руках привилегированных групп, связанных с правительством, стали основанием для возникновения новых общественных систем на постсоветском пространстве. В силу этих причин здесь оказалась затруднительной реализация принципов верховенства закона, а элиты получили неограниченную автономию от обществ, что затруднило внедрение в политическую практику ключевых принципов демократии — ответственности власти перед народом и публичного контроля над властными институтами со стороны общества. Иными словами, эти изменения создавали серьезные ограничители для продолжения демократизации. В таких условиях в ряде стран новые правящие элиты воспользовались кризисом доверия к демократии и начали постепенно восстанавливать авторитарные порядки. В других случаях этому помешали глубокие расколы и противоречия внутри правящих элит, препятствовавшие их консолидации на основе реставрации прежних авторитарных порядков. Но даже там, где прямого отката к авторитаризму не произошло, демократизация приостановилась в силу чрезмерной концентрации ресурсов в верхних социальных группах и снижения интереса к демократическому политическому участию среди массовых общественных слоев. Почти для всех постсоветских стран, за исключением, может быть, России, строительство национальной государственности в 1990-е годы было абсолютно новым делом. Одни из них и вовсе не имели опыта собственной национальной государственности (страны Центральной Азии и Казахстан); у других этот опыт в новейшую историю был кратким и ограничивался периодом гражданской войны на территории бывшей Российской империи в 1918–1921 годах (Украина, Молдавия, Белоруссия, государства Южного Кавказа). В условиях, когда большая часть населения постсоветских стран вела борьбу за выживание, политической платформой, на которой мог строиться национальный консенсус, стала идея стабильности, предполагавшая отказ от продолжения дальнейших системных пре- 187 Андрей Рябов образований, в том числе и в сфере политики. В общественном же мнении эта идея преимущественно воспринималась как антипод демократии, интерпретировавшейся в качестве синонима хаоса и несправедливости. Распад Советского Союза ознаменовался стремительным крахом прежних социальных и политических институтов. Но для понимания причин неудачной, ограниченной демократизации важно то, что и в последующие годы ни в новых элитах, ни в обществе так и не возникло запроса на создание новых устойчивых институтов. К сожалению, причина этого явления практически не изучена. В литературе лишь иногда высказываются отдельные предположения и догадки на сей счет. Так, согласно весьма обоснованной, на наш взгляд, версии, ответ нужно искать в корпоративной природе советского строя и особенностях его трансформации*. Функционирование советской системы обеспечивалось безраздельным доминированием Коммунистической партии, которая, по сути, играла роль института, интегрирующего интересы ведомственных, отраслевых и территориальных корпораций. Развал Советского Союза привел к ликвидации КПСС, и корпорации получили неограниченную свободу действий. Они стали захватывать ресурсы и приватизировать активы, стремясь одновременно к увеличению административной и бюджетной ренты. В условиях, когда перед новыми элитами встала задача перевода в частную собственность ведущих предприятий и компаний, система, где не действуют жесткие правила игры и, стало быть, не нужны обеспечивающие их институты, оказалась более привлекательной, чем регулируемая устойчивыми структурами и общепринятыми процедурами. Кроме того, новым правящим слоям поскорее хотелось избавиться от пережитка старой общественной системы — социальной ответственности, патерналистской опеки над обществом. Эти устремления играли заметную роль и впоследствии. Новые возможности открывались всякий раз, когда правящие элиты провозглашали очередную попытку либеральных хозяйственных реформ**. Слабые институты фактически выдавали «индульгенцию» на подобное «освобождение». Его результатом становился дальнейший рост неравенства между разными группами населения, что становилось еще одним препятствием для развития и углубления демократизации. * См.: Простаков, Игорь. «Корпоративизм как идеал и реальность» в: Свободная мысль, № 2, 1992. * См.: Делягин, Михаил. Россия после Путина: неизбежна ли в России «оранжево-зеленая» революция? Москва: Издательство «Вече», 2005, с. 39. 188 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… Как ни странно, но сдерживающее влияние на развитие демократизации сыграли и факторы внешнеполитического характера. Эпоха «торжества либеральной демократии в мировом масштабе», воспринимавшаяся как «конец истории», создавала уникальные возможности для демократических изменений. В мире не существовало глобальных и национальных проектов будущего, которые по привлекательности могли соперничать с западным общественнополитическим воплощением либерально-демократической идеи. В этих условиях апелляция к демократическим ценностям и процедурам стала для политиков постсоветских стран, в том числе и тех, кто не собирался отказываться от авторитарных порядков, чем-то вроде обязательного протокола*. Примерно так, как в начале ХХ века, накануне Первой мировой войны, в эру торжества национализма как доминирующей политической идеологии, лидеры великих и малых стран вынуждены были демонстрировать свою принадлежность националистической традиции, в начале 1990-х годов руководители новых независимых государств провозглашали себя «демократами» и вынуждены были как минимум имитировать институты и процедуры, характерные для демократических стран. Этот феномен и получил название «имитационной демократии». Но в то же время влияние на постсоветское пространство западных стран, являвшихся двигателями и лидерами демократического прогресса, было неоднозначным и противоречивым, что особенно заметно в сравнении с ролью международного фактора в трансформации государств ЦВЕ. Поскольку одной из главных целей их политики было стремление вступить в Европейский Союз, предъявляемые последним требования по осуществлению демократических и рыночных реформ стали для государств ЦВЕ мощным стимулом развития. Требования перед кандидатами на членство в ЕС, изложенные в acquis communautaire, играли роль мощного инструмента давления на новые посткоммунистические элиты. Но даже при всей значимости европейского влияния на страны ЦВЕ его результаты оказались неодинаковыми при их вступлении в ЕС. Позиции «транзитных» элит в государствах с более высоким уровнем экономического развития и длительными демократическими традициями (Чехия, Польша, Словения, в меньшей степени — Венгрия) оказались подорваны куда сильнее, чем в балканских государствах (Румынии, Болгарии), где сказывалось сильное влияние авторитарного наследия и традиционных обществ. * Фурман, Дмитрий. «Дивергенция политических систем на постсоветском пространстве» в: Свободная мысль-XXI, 2004, № 10. 189 Андрей Рябов Для постсоветских государств вступление в ЕС никогда не являлось задачей практической политики. Поэтому местные «транзитные элиты» были свободны от какого-либо внешнего давления в плане принуждения к экономическим реформам и демократизации. Что же касается США, то их отношение к трансформационным процессам на постсоветском пространстве носило более сложный характер. Американские правящие круги в 1990-е годы реально опасались возможности коммунистической реставрации в крупнейших и наиболее мощных странах региона — в России и на Украине. Поэтому они сделали однозначную ставку на поддержку находившихся у власти в этих государствах элит, провозгласивших антикоммунизм своей официальной политикой и поощрявших формирование частной собственности и рыночных отношений, успешное утверждение которых сделало бы реставрацию коммунизма невозможной. Ради достижения этой цели США были готовы в значительной мере поступиться задачами продолжения демократизации. Они никак не реагировали на развитие коррупции, полукриминальную приватизацию, появление финансовых олигархий и массовое попирание элементарных социальных прав. Американские правящие круги поддержали на президентских выборах в России в 1996 году Бориса Ельцина, а в 1999-м на Украине — Леонида Кучму, хотя к тому времени было очевидно, что оба эти политика полностью утратили реформаторский потенциал. Но поскольку в обоих случаях их главными соперниками были лидеры компартий, опасения коммунистического реванша перевесили заинтересованности в демократизации. Применительно к государствам Центральной Азии США сделали ставку на авторитарные режимы, созданные новыми постсоветскими лидерами — выходцами из верхушки бывшей коммунистической номенклатуры. В них они видели прежде всего реальное препятствие распространению радикального ислама в регионе, который в условиях глубокого социального кризиса и распада патерналистских структур советского типа получил благоприятную почву для развития. Словом, и в этом случае задачи поддержки демократизации отходили на второй план по сравнению с целями сохранения определенного, выгодного для США, миропорядка и поддержания балансов на глобальном уровне. Таким образом, в силу всех вышеперечисленных причин потенциал и реальные возможности демократизации в постсоветских странах изначально оказались ограниченными, в том числе и по сравнению с государствами ЦВЕ. В свою очередь и общественные 190 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… системы, сформировавшиеся к концу 1990-х годов на территории бывшего Советского Союза, были в значительной степени инерционными и не способными к дальнейшему внутреннему саморазвитию. Постсоветские страны как новая политэкономическая модель В современной литературе, как западной, так и российской, не существует доминирующего подхода к теоретическому описанию данных обществ. По-прежнему присутствует, но гораздо слабее, чем в 1990-е годы, стремление интерпретировать их как одно из проявлений «демократического транзита» — хотя в новейших трактовках число государств, которые можно расценивать в таких категориях, резко сокращено: в него не входят Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия. Согласно этой точке зрения «применительно к данным странам реалистическая повестка дня состоит не в демократизации, а в продолжении модернизационных процессов в целом и расширении плюрализма — в частности (курсив мой. — А. Р.)»*. Часто политические системы стран, возникших на пространстве бывшего СССР, характеризуются как гибридные, т. е. основанные на несовместимых принципах — «рынка и дирижизма, единовластия и выборов, патернализма и социального равнодушия, свободы и авторитаризма»**. Есть интерпретации, описывающие эти общества в категориях посттоталитарного развития, в ходе которых с ними происходят сложные и подчас разновекторные мутации***. Такое разнообразие указывает на то, что время для разработки новой всеобъемлющей концепции постсоветских трансформаций еще не пришло. Поэтому можно предположить, что в ближайшей перспективе широкое развитие получат полит-экономические исследования постсоветских обществ, открывающие возможности для их комплексного понимания. Пока же имеет смысл сосредоточиться на характеристике системообразующих признаков этих обществ. Фактически в постсоветских странах сложилась особая разновидность бюрократического капитализма, в которой правящее * Макаренко, Борис. «Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации» в: Полития, 2008, № 3 (50), с. 111. ** Шевцова, Лилия. «Россия – год 2006: логика политического страха» в: Независимая газета, 2005, 13 декабря. *** См.: Гудков, Лев и Дубин, Борис. «Посттоталитарный синдром: "управляемая демократия" и апатия масс» в: Липман, Мария и Рябов, Андрей (ред.) Пути российского посткоммунизма: очерки, Москва: Московский центр Карнеги, 2007, сс. 10–14. 191 Андрей Рябов государственное чиновничество не только монополизировало власть, но и с помощью различных организационно-правовых форм фактически сосредоточило в своих руках контроль над ключевыми активами национальных экономик. Извлечение административной, бюджетной и природной ренты является главным источником доминирования этой элиты в экономике. Прогноз Льва Троцкого и других политических мыслителей ХХ века о том, что в процессе трансформации сталинского социализма в капитализм номенклатура конвертирует монопольную власть в частную собственность, оказался неточным. Правящие слои сохранили власть и вдобавок получили собственность. Сменяемость различных групп во власти происходит управляемым образом, а парадигма развития остается неизменной. Если управляемость утрачивается, смена власти дает старт новому витку передела собственности, ибо контроль над властными институтами автоматически открывает доступ и к другим ресурсам. И чем меньше ресурсы (природные, финансовые, экономические), тем более жесткий характер приобретает эта борьба. В государствах, где элита не консолидирована, конфликты вокруг собственности выносятся в публичную политику, где стараниями профессиональных пропагандистов им порой придается искусственная идеологическая окраска. В странах, где элита консолидирована вокруг авторитарного лидера, борьба за собственность носит, как правило, деидеологизированный характер. В целом же в постсоветских государствах элиты ориентированы не на развитие, а на сохранение сложившихся общественно-политических систем, обеспечивающих им привилегии и доминирование. Доступ на «политический рынок» новых акторов ограничен. Влияние общества на власть незначительно. Концентрация власти и собственности в одних и тех же руках резко сокращает пространство для публичной конкуренции акторов и идей. В тех странах, где это пространство сохраняется, конкуренция становится формальной, не влияющей на содержание и качество политики. Но самое главное: концентрация ресурсов на одном полюсе делает невозможным появление мощных политических альтернатив, что затрудняет развитие процессов демократизации. Другая отличительная характеристика общественных систем постсоветских стран заключается в типичной для них слабой институционализации. Это утверждение касается не только политики, но также экономической и социальной среды. В процессе выхода из коммунизма прежние институты были сломаны, а за последующие двадцать лет устойчивые новые институты так и не сложились. 192 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… Как следствие, политические институты часто реформируются в угоду текущей конъюнктуре и быстро меняющимся балансам сил. Так, в России за минувшее двадцатилетие по три раза менялся порядок формирования верхней палаты парламента — Совета Федерации и избрания (назначения) губернаторов. Долгое время считалось, что на фоне общей слабости прочих институтов только президент является гарантом устойчивости всей политической системы. Однако возникновение после президентских выборов 2008 года новой конструкции исполнительной власти опровергло эти представления. Без изменений в Конституции реальная власть перетекла к премьер-министру, который в соответствии с Основным Законом является относительно слабым и зависимым от главы государства органом. Слабость политических институтов проявляется и в том, что в большинстве постсоветских стран сложились персоналистские политические режимы (Россия, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения, государства Центральной Азии), в большинстве которых существует резкий дисбаланс полномочий в пользу президентской власти, а функции парламентов ограничены или сведены лишь к законодательному оформлению решений исполнительной власти. В большинстве этих стран так и не сложились устойчивые нормы и процедуры передачи власти. Демократическая форма передачи власти, основанная на альтернативных выборах с непредсказуемым результатом, оказалась неприемлемой, но не сохранилась и прежняя, номенклатурная система (существующая поныне в Китае или Вьетнаме), основанная на жестких внутрипартийных правилах и инструкциях. Итогом отторжения этих моделей стало появление новой гибридной формы, при которой уходящий лидер определяет кандидатуру преемника, утверждаемого на выборах с заранее предсказуемым результатом. Неустойчивость этой формы (ее основанность не на праве и официальных процедурах, а на неформальных договоренностях) порождает ситуацию неопределенности задолго до выборов, в результате чего конкурирующие группы сосредоточиваются не на реализации целей общенациональной политики, а на проталкивании собственных групповых и корпоративных интересов. Слабость экономических институтов проявляется не только в их частой изменчивости, но и в том, что они не могут обеспечить права собственников и приостановить принявший перманентный харак* См.: Афанасьев, Михаил. Невыносимая слабость государства, Москва: РОССПЭН, 2006, сс. 35–37. 193 Андрей Рябов тер процесс передела собственности. У элит не возникает запроса на игру по правилам и готовности уважать закон, жить в соответствии с его требованиями. В таких условиях прогресс демократии становится трудно реализуемой целью. Третья особенность постсоветских общественных систем, тесно связанная с их институциональной слабостью, состоит в том, что властные отношения в этих государствах строятся на принципах личной зависимости, «клиентелизма»*, патримониализма. Разрушение институциональных связей внутри государственного аппарата привело к тому, что отношения между чиновниками стали строиться на личностной основе. Эта особенность была перенесена и на политическую элиту. И чем чаще политическая элита рекрутировалась из государственной бюрократии, тем существеннее становилось в политических кругах влияние клиентелистских отношений. В то же время в отсутствие идеологических основ консолидации элит, повсеместного распространения, говоря словами К. Маркса, «кулачного права» и «права привилегии» вместо формального равенства граждан перед законом* властные отношения описанного типа, как и способы доминирования новых элит, стали напоминать феодальные**. Главным критерием мощи и влияния групп интересов в такой системе стала способность их лидеров консолидировать и расширять объемы контролируемых бюрократических ресурсов. Правда, в этой особенности кроется и причина их неустойчивости: при утрате лидером бюрократической позиции группа обычно распадается***. В государствах Центральной Азии и Южного Кавказа гораздо большую роль, чем в России, в конструировании системы властных отношений и при формировании групп интересов играют клановые и земляческие общности. Но и в том, и в другом случаях подобные формы значительно сужают возможности демократизации. Пределы демократизации После такого описания системообразующих признаков постсоветских общественных систем уместно поставить вопрос: каковы реальные рамки и возможности демократизации в этих условиях? * См.: Маркс, Карл и Энгельс, Фридрих. Сочинения, изд. 2-е, т. 1, с. 346; т. 41, с. 358; т. 46, ч. 1, с. 24. ** См.: Шляпентох, Владимир. Современная Россия как феодальное общество. Новый взгляд на постсоветскую эру, Москва: Столица-Принт, 2008, сс. 233–265. *** См.: Нисневич, Юлий. Аудит политической системы посткоммунистической России, Москва: Издательство «Материк-Альфа», 2007, сс. 236–237. 194 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… Исходя из того, что политэкономическая основа подобных обществ предопределяет стремление правящих элит к ослаблению независимых от государства политических, социальных и экономических акторов, ограничению их деятельности, а также к вертикализации отношений власти и общества, развитие демократических процессов в постсоветских странах может затрагивать лишь определенные общественные сферы. В частности, как показывает опыт таких стран, как Украина и Молдавия, переживших в результате свободных выборов соответственно три и четыре смены власти, вполне реальным является создание эффективно действующих электоральных демократий. Их появление явилось результатом взаимодействия целого ряда факторов: глубокой политико-экономической дифференциации элит и отсуствия у них единого центра консолидации; политико-географических различий внутри страны (Украина); неодинакового видения правящими кругами перспектив развития государства (Молдавия), заметного влияния в национальных политических культурах идей толерантности и компромисса (Украина, Молдавия). Эти особенности обусловливают развитие открытой публичной конкуренции между разными группами элит, становление «верхушечного плюрализма» и определенных правил игры, предполагающих обязательность взаимного учета интересов, необходимость заручаться поддержкой населения через свободные выборы. Поскольку элиты в условиях конкуренции между собой стремятся в то же время ограничить участие граждан в политике лишь их голосованием на выборах, политические системы в этих странах ближе всего напоминают те, которые Р. Даль назвал «конкурирующими олигархиями»*. Появление таких систем, означающее определенный прогресс в демократизации, нельзя исключать и в других постсоветских государствах. Но для этого необходимы два условия: раскол в элитах по политико-идеологическим или кланово-субэтническим основаниям и их готовность играть по правилам. С данной точки зрения страны, имеющие традицию публичной конкуренции элит (Грузия, Армения, Киргизия, Таджикистан), имеют лучшие шансы для демократического прогресса — но камнем преткновения для них часто становится неспособность и неготовность элит выполнять определенные правила игры (Киргизия, Таджикистан, в меньшей степени Грузия). Что же касается России, то ее политическая система в 1990-е годы также напоминала «конкурирующие олигар* Dahl, Robert. Poliarchy: Participation and Opposition, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 1971, p. 7. 195 Андрей Рябов хии», хотя стремления к игре по правилам у элит не наблюдалось и в тот период. Однако в 2000-е годы, во многом под влиянием многолетней политической традиции авторитаризма, опасений излишней активизации населения, произошел откат системы к привычной «закрытой гегемонии» (по Роберту Далю), при которой политическое участие граждан находится на очень низком уровне, а конкуренция элит осуществляется в непубличном режиме. Пока нет серьезных признаков, которые указывали бы на желание российских элит отказаться от этого режима функционирования. Впрочем, в случае возникновения раскола в верхах, обусловленного, например, глубоким социальным кризисом и резким сокращением ресурсов, находящихся в распоряжении властных элит, возможна ситуация, когда часть правящего слоя в целях самосохранения вынуждена будет обратиться к идеям, объективно работающим на изменение системы, и апеллировать за массовой поддержкой к населению. Последствия такого сценария развития будут рассмотрены ниже. Возможности для модернизации и потребности в демократизации Признание ограниченности перспектив демократизации в условиях сохранения нынешней модели развития постсоветских государств актуализирует в политической повестке дня вопрос о возможности проведения модернизации без демократизации. Очевидно, что такая постановка проблемы имеет неодинаковый смысл применительно к разным группам государств. Так, для аграрных стран Центральной Азии и в какой-то мере Азербайджана повесткой дня модернизации должно создать создание современного индустриального общества (которое пока носит эксклавный характер), преодоление отсталости и традиционных укладов жизни. Опыт ХХ века наглядно показывает, что подобные изменения вполне могут быть эффективно осуществлены и в рамках авторитарной модернизации. Однако к настоящему времени ни одно из государств этого региона даже не приблизилось к реализации таких стратегий. Только в Казахстане предпринимаются активные шаги по формированию современной, образованной элиты, которая соответствовала бы уровню требований и вызовов ХХI столетия и воспринималась бы мировой элитой как «своя». Проводится также политика открытости к разным культурным влияниям с Запада и Востока. Тем не менее даже эти шаги пока не привели к серьезным структурным преобразованиям экономики и социальной сферы, 196 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… которые позволили бы говорить о реальном повороте в сторону политики модернизации. Возможности авторитарной модернизации индустриальных стран, расположенных в европейской части постсоветского пространства, включая находящиеся на Южном Кавказе Армению и Грузию, представляются еще менее реалистичными. Обычно в качестве аргумента в пользу этой точки зрения приводится утверждение, что в истории ХХ века нет примеров успешного осуществления авторитарных модернизаций, превращавших индустриальные общества в постиндустриальные. Главная проблема этого региона — как стран, перед которыми стоит задача создания современных индустриальных обществ, так и государств, где повесткой дня должно стать осуществление постиндустриальной модернизации, — состоит в том, что местные правящие элиты не заинтересованы в масштабных изменениях, а ориентированы на сохранение status quo, при том что консолидация влиятельных социальных и политических акторов, способных предложить и продвигать альтернативные стратегии действий в условиях существующих политических систем крайне затруднена. Но даже если у части правящей элиты возникает понимание необходимости модернизации (как в России), реализация подобной стратегии блокируется тем, что политическая элита фактически не отделена от бюрократической, не стоит над ней. В связи с этим уместно обратиться к опыту современного Китая. Одна из причин успешной авторитарной модернизации этой страны как раз и состоит в том, что она проводится под руководством самостоятельной в своих действиях политической элиты, а бюрократия выполняет роль исполнителя ее воли. На постсоветском пространстве все проекты авторитарной модернизации так или иначе связываются с надеждами на преобразовательную роль современного государства, представленного в первую очередь не институтами, а бюрократией, которая в период посткоммунистической трансформации превратилась в охранителя существующего политического порядка. Инстинктивно чувствуя свой интерес к проектам модернизации, в которых решающая роль отводится государству, бюрократия формально готова принять и поддержать такие проекты. Это не случайно, поскольку их реализация обещает значительное расширение возможностей для извлечения бюджетной и административной ренты. В результате на практике модернизационные программы неизбежно сводятся и будут сводиться к попыткам осуществления затратных и неэффективных инфраструктурных про- 197 Андрей Рябов ектов, имитации отдельных примеров достижений в сфере технических изобретений и разработок новых технологий. Высокий уровень коррупции станет неотъемлемым атрибутом этой деятельности. Все это будет еще одним подтверждением часто повторяемого в современной литературе тезиса о том, что при осуществлении постиндустриальных модернизаций системы, основанные на свободной конкуренции рыночных сил и максимальном задействовании индивидуальной инициативы, оказываются более успешными и эффективными, чем проекты, главным актором в которых остается государство. Поэтому для индустриальных постсоветских стран — таких, как Россия, Украина и Белоруссия, перспективы успешной модернизации могут связываться лишь с их поступательной демократизацией. Причем демократия в этом случае должна выступать не только в качестве электоральной модели, но сформироваться как политический порядок с устойчивыми институтами и общепринятыми правилами игры. Стимулом для подобных сценариев и, стало быть, к выходу за пределы нынешней постсоветской модели развития может стать осознанный (а не декларативный), основанный на общенациональном консенсусе выбор в пользу евроатлантической интеграции (для Украины и Белоруссии). В этом случае внешний фактор Евросоюза будет играть применительно к этим странам ту же роль, которую ранее выполнял по отношению к государствам ЦВЕ, причем даже к тем из них, где базовые условия для демократизации были не очень зрелыми (Болгария, Румыния). Но помимо внешнего фактора значимую роль в инициировании демократизации могут сыграть и внутренние возможности развития. Тот факт, что при нынешнем состоянии постсоветских обществ эти возможности пока не просматриваются, не означает, что исторический шанс для демократизации в перспективе отсутствует. Следуя логике сторонников функционального подхода в теориях демократических транзитов*, можно предположить, что такой шанс способен появиться в результате раскола элит, вынуждающего какуюто часть ее обратиться к новым идеям и за массовой публичной поддержкой. Но в любом случае перспективы и демократизации, и модернизации могут стать реальными, когда в общественном мнении и в сознании элит состоится так и не завершенная «веберовская» «революция ценностей», означающая переход к рационалисти* См.: Мельвиль, Андрей. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты), Москва: Московский общественный научный фонд, 1999, с. 37. 198 Демократизация и модернизация в контексте трансформаций… ческим моделям поведения. Именно эта мифологизация массового сознания, мистификация политических представлений были главным тормозом в выборе Россией оптимальных моделей развития в ХХ веке**. В значительной мере она поддерживается иллюзорными представлениями о неограниченности российских ресурсов (огромной территории, запасов полезных ископаемых, научно-технических достижений прошлого) — хотя рационализация сознания исходит из понимания ограничености любых ресурсов. Возможно, что изменения в глобальной экономике и политике, революция в производстве новых видов энергии, переход развитых стран к следующей стадии научно-технического прогресса заставят российские элиты убедиться в эфемерности их представлений о неизменной роли «континента Россия» в мировой цивилизации. Без избавления от этого идейного наследия и связанных с ним мифологизированных представлений о России и ее месте в мире модернизационные проекты, вне зависимости от их содержания, останутся утопиями. Источники Dahl, Robert. Poliarchy: Participation and Opposition, New Haven (Ct.): Yale Univ. Press, 1971. Афанасьев, Михаил. Невыносимая слабость государства, Москва: РОССПЭН, 2006. Гудков, Лев и Дубин, Борис. «Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс» в: Липман, Мария и Рябов, Андрей (ред.) Пути российского посткоммунизма: очерки, Москва: Московский центр Карнеги, 2007. Делягин, Михаил. Россия после Путина: неизбежна ли в России «оранжево-зеленая» революция? Москва: Издательство «Вече», 2005. Иноземцев, Владислав. «O невозможности модернизации России» в: Паин, Эмиль и Волкогонова, Ольга (ред.) Российская модернизация: споры о самобытности, Москва: Издательство «Три квадрата», 2008. Красильщиков, Виктор. Вдогонку за ушедшим веком: развитие России в ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций, Москва: РОССПЭН, 1998. Липман, Мария и Рябов, Андрей (ред.) Пути российского посткоммунизма: очерки, Москва: Московский центр Карнеги, 2007 * См.: Иноземцев, Владислав. «O невозможности модернизации России» в: Паин, Эмиль и Волкогонова, Ольга (ред.) Российская модернизация: споры о самобытности, Москва: Издательство «Три квадрата», 2008, с. 163. 199 Андрей Рябов Макаренко, Борис. «Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации» в: Полития, 2008, №3 (50). Маркс, Карл и Энгельс, Фридрих. Собрание сочинений, 2-е издание, Москва: Политиздат, 1964–1976. Мельвиль, Андрей. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты), Москва: Московский общественный научный фонд, 1999. Нисневич, Юлий. Аудит политической системы посткоммунистической России, Москва: Издательство «Материк-Альфа», 2007. Паин, Эмиль и Волкогонова, Ольга (ред.) Российская модернизация: споры о самобытности, Москва: Издательство «Три квадрата», 2008 Простаков, Игорь. «Корпоративизм как идеал и реальность» в: Свободная мысль, 1992, № 2. Фурман, Дмитрий. «Дивергенция политических систем на постсоветском пространстве» в: Свободная мысль-XXI, 2004, № 10. Шевцова, Лилия. «Россия – год 2006: логика политического страха» в: Независимая газета, 2005, 13 декабря. Шляпентох, Владимир. Современная Россия как феодальное общество. Новый взгляд на постсоветскую эру, Москва: Столица-Принт, 2008. Явлинский, Григорий. Демодернизация. Современная Россия: экономические оценки и политические выводы, Москва: ЭПИцентр, 2003. 200 Демократия или эффективность: вызов XXI века Параг Ханна, Директор программы глобальных исследований New America Foundation (США) Если кто-нибудь попытается представить себе перспективную повестку дня вполне свободной от внешних влияний политической науки, стоит подумать, какое место в этом будущем займет демократия. Всего лишь десять лет назад без особых усилий можно было воспринять «триумфальное шествие» демократии по миру как фактический «конец истории», как возникновение политической формы, приемлемой для всех народов и ее стремительное принятие большей частью человечества. Сегодня, однако, ее место в подобной повестке дня было бы, вероятно, гораздо более уязвимым — в том, что касается демократии и как формы «общественного договора» между народом и властью, и как способа структурирования ответственности между правителями и управляемыми. Демократию следует рассматривать не как «вещь в себе», но лишь в контексте других приоритетов публичной политики — таких, например, как эффективность обеспечения социальных услуг (в том числе их оперативность и цену для общества). Значит ли это, что после своего триумфа в ХХ веке демократия все больше рассматривается как система, не подходящая для оптимального баланса и достижения таких целей, как эффективность, подотчетность и легитимность? 201 Параг Ханна После того как так называемая третья волна демократизации сошла на нет в 1990-е годы, стало очевидно, что политические режимы отличаются бо´льшим разнообразием, чем этого ожидали в период увлеченности теориями «конца истории». Действительно, более трети населения мира (в частности, в Китае) все еще живет под властью авторитарных режимов, а около половины государств квалифицируется американской неправительственной организацией «Фридом хаус» как «несвободные». Таким образом, вопрос о том, сколь успешным окажется в будущем противостояние демократии другим политическим режимам, остается актуальным и значимым элементом международных отношений и геополитики XXI столетия. Хорошим исходным пунктом дискуссии о нравственном и дискурсивном месте демократии в XXI веке является взгляд на нее отдельного индивида. Не существует лучшей теории мотивации человеческой деятельности, чем изложенная в «Иерархии потребностей» Абрахама Маслоу. В этой иерархии базовые нужды (физиологические потребности в утолении голода и жажды) выступают приоритетными по отношению к потребностям обеспечения безопасности (к которым относятся наличие жилья и стабильность), а замыкают этот ряд потребности в самореализации (ощущение принадлежности к сообществу, потребность в уважении, любви и признании со стороны других)*. Демократический образ правления относится к этой последней категории — ведь удовлетворение базовых материальных и экономических потребностей как раз и порождает у людей возможности и желания активного участия в демократической политике. В такой парадигме управление выглядит средством обеспечения максимально возможных благ наибольшему числу людей — т. е. выступает утилитарным процессом, лишенным находящегося за пределами относительно нейтрального понимания человеческих запросов, по Маслоу, идеологического содержания. При таком подходе «чистая» демократия не столько выступает телеологическим идеалом, сколько становится похожей на «высокую моду»: ею можно восторгаться, но она не имеет практического значения в повседневной жизни. Многие восприняли идеи А. Сена (изложенные, в частности, в его книге «Развитие как свобода»**) и начали утверждать, что демократия — это основополагающий компонент развития, который не может отодвигаться на второй план или подчиняться каким-то иным факторам и обстоятельствам; но и противопо* См.: Maslow, Abraham. «A Theory of Human Motivation» in: Psychological Review, No. 50, 1943, pp. 370–396. ** См.: Sen, Amartya. Development As Freedom, New York, Oxford: Oxford Univ. Press, 1999 (рус. пер.: Сен, Амартия. Развитие как свобода, Москва: Новое издательство, 2004). 202 Демократия или эффективность: вызов XXI века ложное утверждение является не менее истинным. Или, к примеру, авторы Доклада о человеческом развитии за 2002 год «Углубляя демократию в фрагментированном мире» утверждают, что демократия как таковая является важнейшим фактором устойчивого политического и социально-экономического здоровья общества. Два основополагающих довода сторонников такой точки зрения состоят в том, что демократические формы включения граждан в политические процессы предотвращают чрезмерную маргинализацию, а также исключение из них лиц, лишенных права голоса, и что демократическое обсуждение проблем ведет к принятию более продуманных и основательных политических решений. Однако насколько демократии обеспечивают участие в политическом процессе всех членов общества? Действительно ли демократия и только она одна обеспечивает такое участие? Да и очевидна ли связь между демократией и действенными и эффективными политическими решениями? Сегодня существуют и иные формы подотчетности, которые в лучшем случае имеют отдаленное отношение к демократии, но которые демонстрируют отнюдь не меньшую (если не большую) эффективность. Учитывая, что такими примерами изобилует все политическое пространство от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии, следовало бы не прикрываться рассужденяими об «азиатских ценностях», популярными в 1990-е годы, а анализировать каждый случай в отдельности и тщательно его исследовать, а заодно внимательно изучать то, в какой мере пример успешных недемократических стран влияет на другие государства. В то же время и сами демократии заслуживают более критического к ним отношения, поскольку во многих случаях вопреки конституционно закрепленному равенству имеет место исключение граждан из процесса принятия решений, а предсказуемость и эффективность политического процесса заметно снижаются. По мере того как посткоммунистические, поставторитарные общества и вновь возникающие демократии становятся особо нетерпеливыми в ожидании результатов, обещания, на которые начинают реагировать избиратели, смещаются от демократической риторики к ощутимым проявлениям успеха в любой его форме. В итоге, безотносительно к различию подходов, подразумеваемых понятием «подотчетность», все чаще «хорошее управление» становится лозунгом, замещающим демократию как предмет вожделения. Политические лидеры во всем мире сталкиваются с нарастающими требованиями обеспечить экономические свободы, социальное равенство и политическую прозрачность, но совсем не обязательно демократию; и они предпочитают иметь дело с призы- 203 Параг Ханна вами к повышению эффективности, а не с перспективами той неопределенности, которая всегда связана с демократией. «Хорошее управление» может предполагать не менее эффективную защиту прав личности, чем демократия; однако цель предоставления этих прав акцентируется куда менее явственно, чем это делается при демократическом режиме. В Африке недавно созданный, но активно используемый «Индекс Ибрагима», составленный первым африканским миллиардером, с нуля создавшим свое состояние, — суданским телекоммуникационным магнатом Мо Ибрагимом, определяет «хорошее управление» четырьмя столпами, или измерениями: безопасность и защищенность; власть закона, прозрачность и отсутствие коррупции; участие в политическом процессе и соблюдение прав человека; устойчивое экономическое развитие и умножение человеческого капитала. Означенный перечень показателей наиболее интересен тем, чего в нем нет — а нет в нем демократии. Не исключено, что в будущей повестке дня для политической науки демократия будет полностью подчинена идее «хорошего управления» или другого конструкта, который будет исходить из более сторого научного подхода к феномену общественного блага. Наследие: связана ли демократия с эффективностью? На протяжении ХХ столетия силы демократизации и индустриализации действовали в унисон в самых разных ситуациях — от стран западного мира до Японии и Южной Кореи, в результате чего демократические государства прочно заняли лидирующие строки в самых разных рейтингах экономической успешности и национального благосостояния. Но сходство результатов не обязательно предполагает причинно-следственную связь — и более тщательный анализ выявляет различие путей, которыми разные государства пришли к схожему экономическому успеху. Например, для Японии период «реставрации Мейдзи» в конце XIX столетия был временем модернизации и индустриализации — но он был отмечен «просвещенным правлением» монарха, не имевшим ничего общего с демократией. Южная Корея после переворота 1961 года, приведшего к власти армейский истеблишмент, также пошла по пути быстрой и продолжительной, но авторитарной модернизации. Игнорировать распространение технологических инноваций и их адаптацию к разным политическим системам в течение ХХ века, и не в последнюю очередь к коммунистическоавторитарному строю Советского Союза, — значит исторически неточным и неуместным образом искусственно связывать политическую демократию с промышленным и экономическим прогрессом. 204 Демократия или эффективность: вызов XXI века Кроме того, в конце ХХ столетия ярким примером промышленной модернизации и эффективного государства стал Китай, который, однако, даже сегодня, продолжая свою быструю модернизацию, прошел путь только от коммунизма до авторитарного капитализма. На примерах Китая, Сингапура, Малайзии и Вьетнама четко видно, что эффективное промышленное развитие может происходить без всяких предварительно созданных демократических институтов. Этот аргумент был впоследствии подтвержден высокими темпами экономического роста и в других недемократических странах — таких, как Россия и государства арабского мира. То, что все эти государства зависят от экспорта природных ресурсов, не устраняет необходимости понять, способны ли они поддерживать свой экономический рост и повышать благосостояние граждан без потребности в демократизации, и в частности, насколько долго будет их население удовлетворено сохранением подобного status quo. Традиционно сила нормативной теории демократии базируется на допущении последовательности и непреодолимости демократической эволюции. Достаточно привести в качестве примера распространенный тезис журналистов и политических комментаторов типа Томаса Фридмана, согласно которому, хотя китайская экономика и превосходит индийскую, авторитарная политическая модель КНР делает ее будущее туманным, а стабильную ситуацию в стране — неочевидной. В противовес этому хаотичную Индию рассматривают как образцовую и действенную модель долговременной стабильности, которой страна обязана демократической природе своего режима. На самом деле демократия также развивается неравномерно: она подвержена резким прорывам и долгим застоям — откаты и срывы неоднократно наблюдались в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии на протяжении многих десятилетий. Ливан, Индонезия и Венесуэла сегодня являют собой лишь некоторые из примеров неудавшихся демократий. Демократический процесс может годами совершенствовать внешние формы режима, нимало не меняя его содержания. Многие демократии «ходят кругами», возглавляемые старыми лидерами (а иногда — их женами и детьми), которые перекрашиваются под демократов во имя сохранения своей власти. Примеры Бангладеш, Филиппин, Индонезии, Мексики и других стран напоминают нам, сколь разрушительной и даже контрпродуктивной может быть демократия. Таиланд всего за три года пережил смену шести правительств и государственный переворот, его граждане регулярно перекрывают дороги, захватывают аэропорты и правительственные здания. Даже спустя пять лет после демократических революций под- 205 Параг Ханна линная демократия на Украине и в Грузии остается малозаметной на фоне перманентного внутриэлитного конфликта. В Пакистане парламент в значительной степени остается лишь ширмой, прикрывающей механизм реализации феодальных интересов. А в Ираке демократия превратилась в орудие, которым религиозное большинство подавляет меньшинства. И даже в героической (по Фридману) Индии политические кампании используются для восхваления идеи службы народу, в то время как главной целью участия в политике становится обеспечение иммунитета и ненаказуемости. В Америке демократия выглядит все менее и менее эффективной даже для достижения целей, в отношении которых имеется общественный консенсус. Так, компании военно-промышленного комплекса создают сеть отрицательно влияющих на их эффективность подрядчиков и дочерних фирм, распределяя их по сотням избирательных округов, чтобы удовлетворить как самих конгрессменов, так и их избирателей, требующих создания большего числа рабочих мест на соответствующих территориях. Законодатели, желающие переизбрания, голосуют за увеличение расходных статей, вместо того чтобы сосредоточить усилия на балансировании бюджета и укреплении финансовой дисциплины. Последние исследования показывают, что несмотря на устранение расовой дискриминации, афроамериканцы все еще ощутимо отстают по успехам в сфере образования, в качестве рабочих мест и своем социальном статусе, не говоря уже о средних доходах. В век непредсказуемых событий и быстро меняющихся обстоятельств ситуационное мышление и быстрая реакция на новые условия может считаться достоинством. Однако, к сожалению, в американской демократической системе политики скорее поклоняются простым и поверхностным подходам, чем умело реагируют на новые и доселе неизвестные вызовы, — зато гибкость и изобретательность можно с куда большей степенью вероятности обнаружить в менее озабоченных принципами демократизма политических моделях, чем американская. Сказанное не означает, что все недемократические государства живут идеалами, установленными их политическими лидерами, или ежечасно оправдывают ожидания своих народов. Многие не устают повторять, что коррупция в форме преимущественного доступа к власти имманентно присуща монархиям, авторитарным режимам и однопартийным государствам. Главным вопросом остается то, как недемократические системы подотчетности достигают эффективности и обеспечивают рост благосостояния на их собственных условиях. А ведь не подлежит сомнению, что недемократии все больше выглядят устойчивыми, если не самодостаточными. 206 Демократия или эффективность: вызов XXI века Гонка за (пост)индустриальный успех: позиции участников Демократии на Западе показали себя успешными модернизаторами, но ими круг таковых не ограничивается. Показательно, что эффективность новых недемократических индустриальных систем стран Восточной Азии и региона Персидского залива не стала поводом для очередной идеологической «холодной войны» между полярными системами, обобщенно называемыми «Востоком» и «Западом». Вместо этого связь между модернити и технологиями вытесняет в интеллектуальном дискурсе ранее считавшуюся не менее значимой связь между ней и определенной политической системой — а именно, демократией. В 1970-х годах некоторые ученые выдвинули тезис о том, что Запад и Советский Союз являются двумя формами единой по своей сути индустриальной цивилизации*. Сегодня, похоже, как и в тот период, доступность капитала и технологий вновь является более интегральным показателем прогресса, чем политические модели. Таким образом, капитализм становится необходимым первоначальным условием индустриальной эффективности и материального прогресса. На практике, когда экономики «спотыкаются», демократия несет потери, но когда экономика переживает бум, авторитаризм нередко чувствует себя благополучно. Другими словами, для успеха демократии необходим капитализм, но капитализм сам по себе не требует демократии. В противовес Бразилии и Индии многие арабские и африканские страны, демонстрирующие высокие темпы экономического роста, не желают рисковать, дестабилизируя его основы, что неизбежно произошло бы, перейди они к демократическому типу правления. Правительства сегодня во все большей мере оцениваются по их способности гарантировать, что глобализация не увеличит неравенства больше, чем это уже имеет место, а не по тому, является ли режим подлинно демократическим или нет. Впечатляющие экономические и социальные достижения многих недемократических режимов не свергают демократию с пьедестала, но являются суровым напоминанием о том, что демократия — это не некая магическая формула, а лишь один из способов организации политической власти. Россия и Китай — лишь некоторые, хотя и весьма показательные примеры новой государственно-капиталистической модели «открытого миру авторитаризма», сочетающего экономический и социальный либерализм с политической централизацией. В современной России большинство молодежи предпочитает путин* Так, Раймон Арон был убежден, что «Европа состоит не из двух коренным образом отличных миров: советского и западного, а представляет собой единую реальность – индустриальную цивилизацию» (Aron, Raymond. 18 Lectures on Industrial Society, London: Weidenfeld and Nicolson, 1967, p. 42). – Прим. ред. 207 Параг Ханна ско-медведевский дуумвират «хаосу» 1990-х годов. Интересы народа в обоих обществах в большей мере связаны с сохранением доступа к последним материальным и технологическим плодам глобализации, нежели с обретением большего права голоса и возможности влиять на политические решения. Является ли в таком случае критически важным рубежом в соревновании между демократиями и недемократиями возможность «прорыва» в постиндустриальное общество? Известно, что именно западные нации значительно дальше продвинулись к экономике знаний, в которой успех определяется квалифицированным человеческим капиталом в большей степени, чем трудом. Было бы, однако, явным упрощением утверждать, что лишь демократии способны производить и использовать человеческий капитал нового типа. Завтрашний мир не будет «чисто» постиндустриальным и управляемым одними только знаниями. Доля промышленности в мировой экономике останется весьма значительной, как и доля населения, занятого в традиционном промышленном секторе. Все более заметной становится [новая] система разделения труда, в которой промышленные гиганты — такие, как Китай или Вьетнам, но также и демократическая Индия, занимают все большую долю в мировом индустриальном производстве. Есть, разумеется, и важные исключения — например Германия, остающаяся одним из крупнейших в мире экспортеров промышленной продукции, одновременно занимая лидирующие позиции и в «экономике знаний». Государствам не обязательно сегодня быть отстающими или малоразвитыми, чтобы сосредоточиваться на промышленном развитии и экспортноориентированном экономическом росте (как это в прошлом делали и продолжают делать большинство государств Азии) или же сырья (как это свойственно странам—экспортерам нефти). Тем не менее будущий экономический ландшафт скорее будет определяться взаимозависимостью между экономиками, основанными на знаниях и на индустриальном секторе, чем ожидавшимся в свое время доминированием первых над вторыми. Более того, глобализация устраняет преимущества, которых изолированные системы могли требовать для себя от соперничавших политических блоков, как это происходило в годы «холодной войны». Вместо этого способом, напоминающим постколониальную «мимикрию», посредством которой новые независимые государства арабского мира, Африки и Азии заимствовали парламентские системы и формальные признаки институтов гражданского общества у своих бывших метрополий, сегодня недемократические государства используют глобализацию для ускоренного решения экономичес- 208 Демократия или эффективность: вызов XXI века ких задач. Например, Сингапур стал одним из мировых лидеров в науках о жизни и биотехнологических исследованиях, не участвуя в ожесточенных дискуссиях по этическим вопросам, которые замедлили инновации в этой сфере в Соединенных Штатах в период президентства Джорджа Буша-мл. Задействовав глобальную финансовую инфраструктуру Гонконга, Шанхай также сумел быстро превратиться в один из мировых финансовых центров. Посредством покупки доли акций Нью-Йоркской фондовой биржи эмират Дубай также зарекомендовал себя как одна из глобальных финансовых столиц, хотя его собственная рабочая сила лишена адекватной подготовки и компетентности, чтобы достичь подобной цели без посторонней помощи. Вместо того чтобы думать, как связать экономические стратегии с политическими системами, мы должны оценить те разные пути, которыми, с использованием достижений технического прогресса, различные политические системы способны достигать экономического роста и диверсификации экономики. Выше подотчетности: какое правление можно считать легитимным? Считается, что демократия является одним из способов утверждения подотчетности власти народу, — однако и другие системы правления также имеют соответствующие механизмы, которые выглядят конкурентными в плане эффективности. Более того, системы непропорциональной ответственности и избирательной подотчетности порой основываются не только на эффективности, но и на культурных и исторических особенностях. Что же означает это разнообразие для будущего дискуссии о политической легитимности? В Северной Америке прочной основой политической легитимности остается национальный суверенитет, не предполагающий отказа от элементов суверенитета Канады, Соединенных Штатов или Мексики, несмотря на развивающиеся между ними экономические связи в рамках Североамериканской ассоциации свободной торговли. Не просто демократия, но традиционная суверенная национальная демократия задает параметры политической легитимности. В противоположность этому Европа выглядит совсем иначе. Послевоенный проект строительства общеевропейских институтов достиг кульминации в наднациональном Европейском Союзе, структуры которого ныне инициируют около 80% национальных законов и нормативных актов 27 стран—членов ЕС. Хотя Европейский парламент и избирается прямым голосованием граждан, члены Европейской Комиссии, которая является реальным местом сосредоточения власти в Союзе, 209 Параг Ханна назначаются согласованными решениями глав государств, а не электоратом. Как уже говорилось выше, официальная идеология Коммунистической партии Китая прошла путь от революционного коммунизма к «авторитарному капитализму». При этом основы ее политической легитимности похожим образом выводятся не только из необходимости обеспечения экономического роста и политической стабильности, но и из приверженности комплексу традиционных ценностей. Как доходчиво объясняет Даниел А. Белл, канадский политический теоретик и профессор университета Синьхуа в Пекине, эта идеология скорее представляет собой неоконфуцианство, на которое опирается новое поколение китайских лидеров, чем какую-либо версию западного понимания демократии*. Кроме того, в Китае банальная коррупция представляет большую опасность для легитимности власти, чем ее антидемократическая природа. Именно поэтому в последние годы коррумпированных бюрократов увольняли тысячами, а высокопоставленных чиновников нередко приговаривали к смертной казни за поставку в магазины содержащего химические примеси молока, фальшивых лекарств от незарегистрированных фармацевтических компаний или за слишком медленную реакцию на последствия землетрясения в Сычуане в 2008 году. Таким образом, между важнейшими мировыми центрами формирования норм и принципов существуют значительные различия в том, как, кем и на какой основе утверждается в них политическая легитимность. Существуют и особые формы легитимности, выпадающие из описанных парадигм. В монархиях Персидского залива — таких, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания, массовая лояльность населения правителям по-прежнему порождается верой подданных в то, что их властители ведут свою родословную от Пророка и являются преданными слугами ислама, а также утверждавшимися на протяжении поколений межклановыми связями, которые сохранились и при неоднократной смене статусов этих территорий: сначала с положения анклавов Османской империи на положение британских колоний, а позднее — и независимых государств. Следует подчеркнуть, что в настоящее время все политические системы предполагают наличие тех или иных механизмов учета мнения народа. В этом смысле существует стремление к учету взглядов граждан как важных барометров, указывающих направления совершенствования публичной политики; однако эта цель может быть достигнута мерами, отличными от прямой представительной демократии. Так, Китай, Сингапур и многие арабские монархии про* См.: Bell, Daniel A. China’s New Confucianism, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2009. 210 Демократия или эффективность: вызов XXI века водят эксперименты с введением «низовой» демократии на уровне селений или небольших городов, причем иногда напористо и с большим энтузиазмом, но не распространяют их на более высокий уровень, что было бы привычно для западного мира. В этих местах люди довольствуются обменом части своих представительных прав на ответственность власти перед ними и, если это удается, считают такой результат большим успехом. По мере быстрого возрастания подушевого дохода Вьетнам эволюционирует в сторону большей прозрачности механизмов власти, сокращения коррупции и расширения экономических свобод, но все, чего он пытается достичь, — это утверждение власти закона, а не демократии. Премьер-министр Малайзии Бадави подал в отставку в 2009 году по причине своей непопулярности в народе и неэффективности предпринимавшихся им мер, четко показав, что ответственность не обязательно требует традиционно понимаемой демократии. В Малайзии и Сингапуре консультативные советы отслеживают настроения граждан и принимают во внимание их желания. В Дубае шейх Мухаммед пользовался сервисом Facebook, опрашивая граждан, не следует ли перенести начало учебного года на время после окончания Рамадана (они согласились.) При наличии достойного лидера урна для жалоб и предложений может играть столь же значимую роль, как и урна для голосования. Экспортируя конкурентные модели? Глобализация сделала многие страны способными успешно конкурировать на международных рынках, активно встраиваться в цепочки поставщиков, пробиваться на мировые рынки со своими товарами, выстраивать внешнеполитические стратегии. В Латинской Америке и Африке — традиционных «задних дворах», соответственно, Соединенных Штатов и Европы нарастают китайская торговая и стратегическая активность. От Венесуэлы до Судана каждая страна, получающая ярлык «государства-изгоя» от американского Государственного департамента, может рассчитывать на значительную финансовую, военную и дипломатическую помощь со стороны КНР. Политика многостороннего сотрудничества, которую Китай начал проводить еще в 1950-е годы с целью ограничить число государств, признающих независимость Тайваня, десятилетия спустя трансформировалась в стратегию обеспечения страны природными ресурсами, получаемыми из богатой сырьем мировой периферии. Вопрос сегодня уже можно поставить следующим образом: не экспортирует ли Китай свою политическую модель в другие страны, импортируя их сырьевые товары? 211 Параг Ханна Разговоры о «китайской модели» экономического роста без политических реформ активно ведутся по крайней мере в течение последних пяти лет. Но эта модель обсуждается и дебатируется гораздо чаще, нежели успешно воспроизводится за рубежом. Ни одна другая крупная страна не обладает чем-либо сопоставимым с возможностью мобилизации масс и/или относительно единым восприятием настоящего и будущего, что характерно для китайского опыта. Намного чаще разговор об этой модели становится полемическим оправданием для поиска альтернатив западным политическим и экономическим стратегим, в частности в странах Африки и Ближнего Востока. Однако нет прямых подтверждений того, что сам Китай поощряет подобную риторику, и гораздо чаще политические лидеры развивающихся государств видят в ней подходящее средство легитимации своего бесконечного пребывания у власти, не пренебрегая при этом выражением восхищения китайскими экономическими успехами. Не следует преуменьшать потенциальную долговечность этой подспудной напряженности в отношениях между Востоком и Западом. Ведь большая часть населения мира все еще живет в состоянии относительной бедности, в том числе свыше 50 государств Африки с их миллиардным населением. Проблемные постсоветские республики Центральной Азии и хрупкие густонаселенные страны Юго-Восточной Азии остаются плодородной почвой для конкуренции между западной и восточной моделями экономического и политического развития, а также лабораториями форм взаимодействия между демократией и модернизацией. Особенно остро стоит эта проблема в африканских странах, богатых природными ресурсами, где в последние годы неограниченный спрос на них со стороны Китая породил впечатляющий экономический рост, а их экспорт приносит значительные средства для строительства инфраструктуры, что в свою очередь создает потенциал для устойчивого развития и региональной интеграции. Поэтому Китай все громче отвечает (в частности в рамках обсуждений будущего «помощи развитию») на обвинения в том, что его деятельность подрывает усилия по проведению в этих странах хозяйственных реформ, которые осуществляются под эгидой таких прозападных международных институтов, как МВФ и Всемирный банк. Китай открыто оспаривает утверждение, что такая «помощь» способствует улучшению ситуации в Африке больше, чем китайские программы сотрудничества со странами континента, основанные на развитии торговых отношений. В настоящее время Запад скорее реагирует на эти тренды, чем определяет их. Провал «продемократической» риторики Джорджа Буша-мл., достигшей апогея накануне вторжения в Ирак, и его пара- 212 Демократия или эффективность: вызов XXI века доксальная поддержка авторитарных арабских режимов наложили отпечаток на политику сдержанной администрации Барака Обамы, который хотя упоминает о демократии, но больше использует терминологию «хорошего управления» и «невмешательства», прибегая к тону, исключительно почтительному по отношению к духу развивающегося мира, который Китай понимает лучше, чем кто бы то ни было. Что же касается программ помощи развитию, то сегодня Запад явно находится не в лучшей форме из-за своих продолжающихся экономических трудностей, и потому сложно предположить, что ему удастся эффективно противостоять Китаю как на африканском континенте, так и в других частях развивающегося мира. В такой ситуации весьма вероятно, что новая архитектура соперничества между Востоком и Западом за «третий мир» станет скорее не повторением соперничества эпохи «холодной войны» между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а «гонкой за лидером», что окажет благоприятное влияние на ситуацию в Африке. Некоторые страны — такие, как Замбия, оказывают жесткое давление на Китай, требуя нанимать местных работников, увеличивать зарплаты, соблюдать правила добычи природных ресурсов, и даже угрожают возможностью экспроприации месторождений, разрабатываемых китайцами, в случае невыполнения этих требований. В этом смысле рождающиеся африканские демократии способны превратить экономическое присутствие Китая в рычаг для более активной модернизации, не подрывая основ своих демократических институтов. Сфера приложения «мягкой силы» также остается важным полем для исследования того, как становящиеся все более различными модели управления проявляют себя в мире. Здесь Запад все еще является значительной, если не доминирующей, силой. Западные научные и промышленные инновации пока еще определяют мировые стандарты в сфере высоких технологий. Английский язык остается основным средством взаимодействия в области внешней политики и бизнеса. А структуры и практики западного образования выступают примером для подражания. Характерно, что во внутри- и внешнеполитических дискуссиях последнего десятилетия мало затронуто влияние американских и британских университетов, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление арабского мира, широко утвердились на Ближнем Востоке посредством межуниверситетского партнерства. Однако совершенно очевидно, что арабские политические лидеры, лавируя между Востоком и Западом, продолжают рассматривать Запад как интеллектуальный стимул — и это значит, что их курс на модернизацию может в перспективе включить либерализацию, «импортированную» из Америки и Европы. 213 Параг Ханна Совершенно очевидно как в теории, так и на практике, что ответственность и подотчетность могут иметь разные формы, отличающиеся от прямой демократии. Учитывая, что структуры управления сильно перемешаны на международном уровне, нам следует понимать те роли, которые играют контролирующая, фискальная, рыночная, экспертная, репутационная и другие формы ответственности политических систем и на национальном уровне*. Это имеет важное значение для межгосударственных дискуссий по таким вопросам, как улучшение управляемости в постколониальных обществах и странах «третьего мира», а также для дебатов о правах человека. Однако одно обстоятельство становится все более ясным: в мире конкурирующих политических и экономических моделей привлекательность одной из них по сравнению с другой в значительной мере определяется возможностью предоставления гражданам материальных благ и обеспечения их благосостояния, а не степенью демократичности. Запад должен в полной мере уважать политическую автономию множества разнородных систем, которые будут существовать в мире до тех пор, пока они способствуют распространению прогресса, а не жестокости. Перевод Н. Ревенко Источники Aron, Raymond. 18 Lectures on Industrial Society, London: Weidenfeld and Nicolson, 1967. Bell, Daniel А. China’s New Confucianism, Princeton: Princeton Univ. Press, 2009. Grant, Ruth and Keohane, Robert. «Accountability and Abuses of Power in World Politics» in: American Political Science Review, Vol. 99, No. 1, 2005. Keohane, Robert. «The Concept of Accountability in World Politics and the Use of Force» in: Michigan Journal of Internbational Law, Vol. 24, No. 4, 2003. Maslow, Abraham. «A Theory of Human Motivation» in: Psychological Review, No. 50, 1943. Sen, Amartya. Development As Freedom, New York, Oxford: Oxford Univ. Press, 1999. * См.: Keohane, Robert. «The Concept of Accountability in World Politics and the Use of Force» in: Michigan Journal of Internbational Law, Vol. 24, No. 4, 2003, pp. 1–21; Grant, Ruth and Keohane, Robert. «Accountability and Abuses of Power in World Politics» in: American Political Science Review, Vol. 99, No. 1, 2005, pp. 29–43. 214 От авторитаризма к демократии на путях модернизации: общее и особенное Виктор Красильщиков, Доктор экономических наук, заведующий сектором ИМЭМО РАН (Россия) Оценивая современные процессы общественного развития, следует различать политическую модернизацию как формирование современной политической системы при переходе от традиционного общества к индустриальному и «политическое сопровождение» перемен в социально-экономической сфере, происходящих в процессе модернизации общества в целом*. Политическая модернизация совпадала с этими переменами лишь в странах, которые исторически принадлежали к первому эшелону модернизации, да и то отчасти. Там модернизация вытекала из потребностей повседневной жизни и имела собственные, «встроенные» в ткань общества, импульсы (так обстояло дело в странах Западной Европы, особенно в Голландии, Северной Германии, Англии, а затем и в Северной Америке). Иначе шло политическое развитие стран, которые составили второй (Россия, страны Восточной и Центральной Европы, Япония, Турция) и третий (почти все государства Азии, Африки и многие страны Латинской Америки) эшелоны модернизации. Здесь внутренние импульсы к обновлению были * См.: Хантингтон, Самюэль. Политический порядок в меняющихся обществах, Москва: Прогресс-Традиция, 2004, с. 53. 215 Виктор Красильщиков слабы или отсутствовали вовсе, а модернизация начиналась под внешним влиянием. Политическая аранжировка преобразований не только не совпадала с политической модернизацией, но порой прямо противоречила ей. И сегодня, рассуждая о перспективах развития демократии, необходимо иметь в виду это историческое обстоятельство, которое до сих пор накладывает отпечаток на ход развития большинства стран. Обновление и традиции: консервативная модернизация Одна из особенностей стран второго и третьего эшелонов модернизации состояла в том, что необходимость в преобразованиях возникала раньше, чем в обществе созревали для них достаточные внутренние предпосылки, — и такая диктуемая внешними обстоятельствами необходимость делала модернизацию консервативной. На первый взгляд термин «консервативная модернизация» представляет собой бессмыслицу — ведь модернизация означает отказ от традиций, слом и полную перестройку устаревшей структуры экономики, общественных отношений и порядков, создание новых институтов и т. д. Казалось бы, консервативная модернизация — это попытка идти вперед с головой, повернутой назад. На самом деле любая модернизация осуществляется в конкретной социальной и культурной среде, причем людьми, у которых есть собственные привычки и взгляды, во многом унаследованные от прошлого. Значение этой среды и этих взглядов особенно велико, если страна в целом еще не готова к переменам. Консервативную модернизацию можно определить как взаимодействие (одновременно конфликтное и компромиссное) тенденций к радикальному обновлению общества со старыми социальными структурами, традициями и привычками. Причем можно выделить два типа консервативных модернизаций. Первый имел место тогда, когда старые классы были вынуждены приспосабливаться к новым веяниям, чтобы сохранить свою власть и привилегии. В этом случае обновление затевалось ради сохранения прежних порядков настолько, насколько их вообще можно было сохранить: новое допускалось сколь необходимо, старое сохранялось сколь возможно. Именно так обстояло дело в Японии и России в ХIХ веке, когда преобразования были инициированы частью самой правящей элиты, в Бразилии в 1930–1960-х годах, в Испании в 1950-е годы, когда Франко приступал к своей «перестройке», преодолевая сопротивление наиболее реакционной части правящего класса. 216 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… Заметим также, что любая модернизационная политика, затрагивая интересы и повседневную жизнь низов, модифицируется под влиянием их культуры и даже предрассудков. Самый яркий и крупномасштабный пример тому — перипетии большевистской модернизации конца 1920-х — середины 1950-х годов в Советском Союзе. Эта модернизация стала историческим компромиссом между современностью и тенденциями индустриального капиталистического общества первой половины ХХ столетия, с одной стороны, и российским традиционным мiромъ, с другой. Осуществляемая представителями «низшего класса», она несла на себе отпечаток архаичного сознания: традиций общинности и уравнительности, антиинтеллектуализма, привычки во всех неудачах усматривать козни врагов и т. д. На первых порах это позволяло примирять модернизацию с русской архаикой и внедрять элементы западной современной культуры в традиционное крестьянское общество, как бы примиряя их с вековыми архетипами сознания, но впоследствии это пагубно сказалось на ходе модернизации. Второй тип консервативной модернизации был в большей мере присущ «новым индустриальным странам» (НИС) Восточной и Юго-Восточной Азии. Там модернизаторские элиты, прежде всего государственная бюрократия, были в целом ориентированы в будущее. При этом они понимали, что разрыв с прошлым должен был быть по возможности наименее болезненным и в то же время понятным широким массам, а самым трудным в процессе модернизации являлся, по их мнению, отказ от привычек и традиций. В связи с этим Махатхир Мохамад, премьер-министр Малайзии в 1981–2003 годах, писал: «Самые важные и труднопреодолимые вызовы, с которыми сталкивается модернизация, лежат в сфере культуры, … реальная проблема заключена в установлении новых ценностей таким образом, чтобы оно не порождало отчуждения и антагонизма со стороны людей»*. В условиях, когда население не было готово к модернизации, отсылки к конфуцианским ценностям — как в Сингапуре или на Тайване, или к исламу — как в Малайзии, должны были оправдать нововведения, нарушающие привычный уклад жизни. Более того, ряд традиций, связанных с конфуцианским учением, а также с буддизмом и даосизмом, сыграл на первых порах очень важную роль в * Mahathir, Mohamad. The New Deal for Asia, Selangor: Pelanduk Publications, 1999, pp. 36–37. 217 Виктор Красильщиков модернизации НИСов Восточной и Юго-Восточной Азии — вопреки известной идее Макса Вебера о несовместимости восточных культур с «духом капитализма»*. Разумеется, частный бизнес в Корее или Сингапуре руководствовался отнюдь не конфуцианской доктриной, ожидая получить прибыль от своих вложений и расширить рынок сбыта для своих товаров. Конфуцианство с его оправданием чиновничьей иерархии, послушания начальникам, моральными принципами служения народу и патернализмом по-прежнему оставалось несовместимым с принципами свободного предпринимательства и рыночной конкуренции. Но со времен Макса Вебера изменился сам капитализм, став таким, который не может обойтись без «видимой руки» государства, особенно когда ему нужно решать задачи ускоренного развития. А «видимая рука» — это экономическая бюрократия государства развития (developmental state), которое выбирало приоритеты и направляло частную инициативу в нужное русло. Очевидно, что без дисциплины чиновников и четкой организации аппарата государство развития не могло бы эффективно выполнять свои функции, как, впрочем, и крупные корпорации не могли бы завоевывать рынки и осваивать новые технологии без четкой системы управления. Однако те традиции, которые сначала обеспечили успех модернизации НИС Азии, со временем стали препятствовать ее дальнейшему прогрессу. В частности, конфуцианские традиции пришли в противоречие с необходимостью постоянно нарушать приниципы иерархии и подчинения авторитетам, без чего невозможен переход к постиндустриальной экономике. Но не будем забегать вперед и остановимся пока лишь на том, что консервативная модернизация как сосуществование и конфликт современности и традиций в процессе преобразований связана с политическим авторитаризмом. Авторитаризм против модернизации Является ли авторитаризм условием модернизации в экономике, особенно на первых порах?** Это зависит от характера авторитаризма. С формальной точки зрения для любого авторитаризма характер* Подробнее см.: Krasilshchikov, Victor. The Rise and Decline of Catching-Up Development: The Experience of Russia and Latin America with Implications for the Asian «Tigers», M laga: Eumed/ Entelequia, 2008, pp. 197–216 (http://www.eumed.net/entelequia/en.lib.php?a=b008). ** Мы не рассматриваем здесь особый случай Индии, где модернизация неотделима от парламентской, вестминстерской демократии, которая в значительной степени до сих пор опирается на реликты кастовой системы –важного института традиционного общества. 218 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… но преобладание исполнительной власти над законодательной и подавление (или ограничение) оппозиционной деятельности. Однако при этом нужно четко выделять различные типы авторитарных режимов. Критериями для этого служат: — социально-классовая база режимов и их соответствие интересам тех или иных классов и групп; — цели и функции режима: как те, что провозглашаются его лидерами или идеологами, так и те, которые он объективно выполняет; — и наконец, объективные результаты его деятельности. Это дает основание выделить, с одной стороны, охранительные, или традиционалистские, и, с другой, модернизаторские авторитарные режимы. В свою очередь охранительные авторитаризмы можно подразделить на «первозданные», коренящиеся в ранне- или докапиталистической аграрно-сырьевой экономике с присущими ей патримониальными отношениями, и режимы, которые возникли в результате реакции старых классов на процесс разложения такой экономики. Последние можно назвать неотрадиционалистскими, поскольку они воспроизводят все основные черты «классических» авторитарных режимов, но в новых, изменившихся условиях. Это персоналистский («султанистский»)* характер власти: во главе режима стоит правитель, обычно самозванный диктатор, близость к которому является важнейшим «экономическим ресурсом». Он опирается на репрессивный аппарат армии, полиции и спецслужб. Все свободы и оппозиционная деятельность подавлены. Выборы не проводятся или носят бутафорский характер. Государственная казна и личные карманы правителя и его ближайших присных образуют единое целое, причем денежные потоки в основном направлены из казны в карманы. И если «классические» авторитаризмы существовали в латиноамериканских странах в ХIX и начале ХХ века (таковым, в частности, был режим Порфирио Диаса в Мексике, который правил с 1876-го по 1911 год и своей политикой вызвал свергнувшую его революцию), то охранительные авторитаризмы второго типа — «испорченные дети» ХХ столетия. На «исторической родине» таких режимов, в Латинской Америке, их сегодня не осталось, зато они встречаются в Азии и Африке (идеальным примером такого рода режимов является, в частности, военная хунта в Мьянме, боящаяся как огня даже самой убогой индустриализации). Неотрадиционалистские авторитаризмы выражают интересы аграрно-сырьевых олигархий и связанных с ними чиновников. Они * Подробнее см.: Ворожейкина, Татьяна. «Авторитарные режимы ХХ века и современная Россия: сходства и отличия» в: Вестник общественного мнения, № 4(102), 2009, сс. 51–55. 219 Виктор Красильщиков подавляют любые попытки ограничить их ненасытные аппетиты — будь то устремления владельцев немногочисленных промышленных предприятий, заинтересованных в поддержании покупательной способности населения, или выступления крестьян, которых сгоняют с земли, чтобы расширить площади для добычи сырья. Смертные казни или в лучшем случае тюремное заключение, сопровождаемое пытками, заказные убийства неугодных лиц, исчезновения людей, осмелившихся неодобрительно высказаться о царящих порядках, — вот средства контроля и управления, которые применяются неотрадиционалистскими авторитарными режимами. При этом сознательно ограничивается доступ народа к знаниям и информации, а образование сводится в лучшем случае к изучению простых действий арифметики, элементарной грамоты и разновидности «закона божьего». В немногочисленных, помимо начальных школ, учебных заведениях обучаются дети правящей «элиты», озабоченной лишь тем, как бы продлить существование режима и вырастить себе смену. Очевидно, что какая-либо серьезная модернизация при неотрадиционалистском авторитаризме исключена. В лучшем случае — как это имело место, например, в Сальвадоре, Гватемале или Парагвае в 1960–1970-х годах — модернизация начиналась стихийно, путем создания местной промышленности, которая поначалу представляется правящей олигархии и чиновникам не заслуживающей внимания. Впрочем, как только то или иное предприятие оказывалось слишком прибыльным, на него накладывалась «лапа» кого-нибудь из правящего клана — институт защиты прав собственности при авторитарных режимах подобного рода существовал лишь на бумаге. Допуская стихийную и крайне ограниченную модернизацию в экономике — и не в силу сознательной политики, а по причине собственного «недогляда», — неотрадиционалистские авторитарные режимы восстанавливали против себя широкие слои населения и в городах, и в деревне. Недовольство ими либо перерастало в вооруженную борьбу (Никарагуа, Сальвадор, Гватемала в 1970–1980-е годы), либо приводило к массовым выступлениям в городах (свержение Переса Хименеса в Венесуэле в 1958 году или Фердинанда Маркоса на Филиппинах в 1986-м). Иногда режим, как и олицетворявший его правитель, свергался путем дворцового переворота, перераставшего в массовые выступления (которые могли быть результатом сознательной «дисфункции режиссуры», чтобы придать дополнительную легитимность свершившемуся событию). Однако падение неотрадиционалистского авторитарного режима отнюдь не обязательно обеспечивало переход к политике модерни- 220 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… зации. Дело в том, что такой режим препятствовал формированию субъектов модернизации — будь то государственная бюрократия, нацеленная на развитие страны, современный предпринимательский класс или новые средние слои в союзе с промышленным рабочим классом и его организациями. Даже если эти социальные группы и начинали формироваться в недрах режима — «по недосмотру» свергнутых правителей или под влиянием «эффекта демонстрации» со стороны более развитых стран, они были недостаточно сильны, чтобы инициировать процесс модернизации. Неотрадиционалистский авторитаризм практически исключает и создание политико-правовых институтов, способных выполнять модернизационные функции. Если такие институты и создаются (в основном, чтобы прилично выглядеть в мире), они представляют лишь имитацию своих аналогов в развитых странах. Фактически такой режим сознательно осуществляет деинституционализацию общества и сферы управления. Насилие является единственным инструментом регулирования, используемым им. Неудивительно, что установившиеся после краха режима демократии не отличаются стабильностью и несут в себе угрозу срыва либо в новый авторитаризм (Корея в 1960–1961 годах), либо в «нелиберальную демократию», что, впрочем, порой оказывается одним и тем же. В частности, установление двухпартийной демократии в Венесуэле после падения диктатуры Переса Хименеса так и не позволило завершить модернизацию, хотя еще в середине 1970-х годов Венесуэла рассматривалась как образец успешной социал-реформистской политики в развивающемся мире. Достаточно сказать, что, достигнув максимума по ВВП на душу населения и другим показателям социально-экономического развития в 1975–1977 годах, Венесуэла с тех пор так и не вернулась к этому уровню, оказавшись одной из самых кризисных стран на латиноамериканском континенте. Обострение социальных проблем, включая рост маргинальных слоев и массовой бедности, подготовило почву для пришествия защитника «отверженных земли» подполковника Уго Чавеса в 1998 году, т. е. через сорок лет после свержения Переса Хименеса. Другим наглядным примером страны, оказавшейся неспособной провести модернизацию после краха диктатуры, являются Филиппины. Там падение режима Фердинанда Маркоса в феврале 1986 года позволило на первый взгляд установить демократию с * См.: Bello, Walden; Docena, Herbert; de Guzman, Marissa and Malig, Mary Lou. The AntiDevelopment State: The Political Economy of Permanent Crisis in the Philippines, Quezon City: Philippines Univ. Press and Bangkok: Chulalongkorn Univ. Press, 2004. 221 Виктор Красильщиков регулярными выборами, свободой слова, собраний и шествий — но не привело к решению основных социально-экономических проблем «страны тысячи островов», а филиппинское государство оказалось «государством антиразвития»*. Демократия не устранила господства старых олигархических групп и единства власти и собственности в их руках. Она оказалась инструментом, который позволяет разрешать конфликты между этими группами, обеспечивая сохранение старых социально-экономических структур и власть олигархии в целом. В этом отношении можно провести параллели между Филиппинами и Украиной, где после «оранжевой революции» вроде бы восторжествовала демократия. На деле же такая демократия опирается на фрагментированность власти-собственности и ее распыленность среди разных бизнес-групп и связанных с ними чиновников. От модернизации такая демократия отстоит столь же далеко, как и филиппинская. Авторитаризм развития Реальную модернизацию проводили авторитаризмы развития, которые использовали мощь государства для принуждения к обновлению страны, опираясь на заинтересованное в модернизации активное меньшинство. Впрочем, политический режим, инициировавший процесс модернизации вопреки предпочтениям большинства, не мог не быть авторитарным. Примеры авторитарных модернизаций дают нам Япония («революция Мейдзи») и царская Россия конца XIX — начала ХХ века, франкистская Испания, ряд стран Латинской Америки (в частности, Мексика начиная с правления Лазаро Карденаса и далее, Бразилия при первом правлении Жетулио Варгаса (1937–1945) и при военно-бюрократическом авторитаризме (1964– 1985), Аргентина при Хуане Доминго Пероне (1946–1955), Чили при диктатуре Аугусто Пиночета. И конечно, авторитарные модернизации осуществлялись в НИС Восточной и Юго-Восточной Азии. Приступая к модернизации, такой режим фактически противостоял обществу, поэтому перед ним возникала проблема легитимации: в отличие от неотрадиционалистских авторитаризмов он не мог держаться только за счет насилия и должен был заручиться поддержкой тех общественных групп, которые могли в первую очередь выиграть от модернизации. Так, военно-бюрократические авторитарные режимы 1960– 1980-х годов в странах Южного конуса Латинской Америки (Аргентине, Бразилии, Уругвае и Чили) для оправдания своего сущест- 222 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… вования и репрессий в отношении тех, кто, по их мнению, мешал процессу перемен, использовали доктрину национальной безопасности. Ключевой элемент этой доктрины — бином «безопасность и развитие»: подлинная безопасность страны обеспечивается успешной модернизацией, тогда как сам процесс развития должен быть надежно защищен от происков тех, кто противится переменам*. В каждой стране толкование этой доктрины имело свои особенности, хотя в любом случае основная миссия по защите модернизации от врагов возлагалась на вооруженные силы. В частности, после переворота 1973 года в Чили особая роль армии и ее участие в репрессиях против сторонников Народного единства оправдывались тем, что покровительницей чилийских вооруженных сил всегда была пресвятая Дева Кармен. Та, в свою очередь, являлась ипостасью пресвятой Девы Марии, которая была воплощением Чистоты и Непорочности. Отсюда делался вывод о моральной чистоте вооруженных сил, переданной им от Марии через их покровительницу, и о том, что те самим Небом призваны очистить страну от «марксистской скверны» и прочих «темных сил». Подобная мифологизация армии и полицейского аппарата имела место и в Аргентине, где военная хунта, правившая с 1976 по 1983 год, по степени свирепости и идеологического обскурантизма превзошла даже режим Пиночета. Однако легитимация авторитаризма, основанная только на мифотворчестве и страхе перед врагами — чаще всего мнимыми, не могла быть прочной. Куда более надежным способом мог быть успех политики модернизации**, что было характерно для НИС Восточной и Юго-Восточной Азии. Важным аспектом деятельности авторитаризма развития было взращивание субъектов модернизации — тех социальных групп, которые реально могли и были заинтересованы продвигать страну по пути обновления. Даже там, где авторитарная модернизация инициировалась частью старых элит ради своего социально-политического самосохранения (случай Бразилии в 1930-е и 1960-е годы), она выдвигала на первый план и опиралась на социально-профессиональные группы, связанные с самыми передовыми на тот момент отраслями промышленности и сферы услуг. Напомним, что ухудшение положения средних слоев из-за начавшихся экономических неурядиц в * См.: Rivas Nieto, Pedro. Doctrina de seguridad nacional y r gimenes militares en Iberoam rica, San Vicente: Club Universitario, 2008, pp. 35–130. ** Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. III. End of Millennium, Oxford (U.K.); Malden (Ma): Blackwell Publishers, 1998, pp. 270–272. 223 Виктор Красильщиков конце 1970-х годов заметно ослабило военно-бюрократический режим в Бразилии, столкнувшийся с недовольством со стороны тех, кто поначалу немало выиграл от проводимой им политики. Модернизаторский авторитаризм, стимулируя масштабные капиталовложения (и даже принуждая к ним) в развитие промышленности и инфраструктуры, в образование и науку, устанавливал жесткую дисциплину не только для низов, ограничивая или запрещая забастовки, регулируя заработную плату и приучая, как в Сингапуре, соблюдать чистоту и порядок на улицах. Он существенно и жестко ограничивал также аппетиты верхов. В частности, в ходе ускоренной индустриализации в Южной Корее и на Тайване либо вообще запрещался, либо ограничивался умопомрачительными таможенными пошлинами ввоз предметов роскоши. По мере продвижения модернизации усложнялась структура экономики, увеличивались численность и доля социальных групп, связанных с передовыми отраслями индустрии. И, наоборот, сокращалась доля тех, кто был носителем традиционных ценностей. Повышался уровень образования населения. Это вело к появлению новых потребностей более высокого порядка, чем насущные потребности в пище, одежде и жилье. Возникала и необходимость в более гибкой системе управления, которая учитывала бы разнообразные интересы, сформировавшиеся в ходе преобразований у разных слоев. Причем больше всего в этом были заинтересованы те, кто выиграл от перемен: новая буржуазия, новый средний класс и трудящиеся передовых отраслей экономики. И чем успешнее оказывалась инициированная режимом экономическая модернизация, чем более дифференцированным (в смысле разнообразия) становилось общество, тем многограннее и сложнее были возникающие в нем связи между людьми и социальными группами, тем сложнее должна была быть система формальных и неформальных институтов, которые регулировали бы эти связи. Сам успех авторитарной модернизации затруднял управление экономикой и обществом чисто авторитарными методами. Таким образом, авторитарная модернизация закладывает предпосылки для отхода от политического авторитаризма. В том случае, когда она оказывается успешной (Испания в первой половине 1970-х годов, Южная Корея и Тайвань в 1987–1989 годах), эти предпосылки оказываются достаточно зрелыми. В случае «недоуспеха» / ограниченного успеха) (Бразилия в 1967–1974 годах, Чили к концу пиночетовского правления, т. е. к 1988–1990 годам), эрозия авторитаризма во многом обусловлена разочарованием в нем тех, кто изначально 224 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… составлял социальную опору режима. Наконец, в случае провала модернизации (Аргентина в 1976–1983 годах), авторитаризм утрачивает какую-либо поддержку и устраняется как вследствие своих же просчетов (провал авантюры аргентинской хунты с походом на Мальвинские/Фолклендские острова в 1982 году), так и в результате массовых выступлений, поддержанных некоторыми недавними сторонниками режима (Индонезия в 1998 году)*. Разумеется, помимо экономического успеха или неудачи авторитарной модернизации есть и неэкономические факторы, способствующие или, наоборот, препятствующие эрозии авторитаризма развития. Это, в частности, ослабление или полное исчезновение страхов, связанных с угрозами безопасности. Фактическое окончание «холодной войны» и отказ китайского руководства от ультрареволюционной риторики времен Мао способствовали либерализации политических систем Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. Уверенность бразильской и чилийской буржуазии в том, что никакие левые партизаны, засланные Фиделем Кастро, не страшны, сыграла немалую роль в том, что существовавшие в Бразилии и Чили военные режимы стали выглядеть по меньшей мере ненужными в глазах предпринимательского класса и средних слоев. Наконец (по порядку, но не по важности), многое зависит от активности и сплоченности общества. Сознательно проводившаяся военно-бюрократическим авторитаризмом в странах Латинской Америки политика атомизации индивидов и разрушения старых социальных связей объективно затрудняла переход от авторитаризма к демократии. Наоборот, сплоченность социума — особенно части вчерашних субъектов авторитарной модернизации в Южной Корее и на Тайване — облегчила такой переход. Однако вызревание социально-экономических предпосылок преодоления авторитаризма в ходе самой авторитарной модернизации отнюдь не означает, что политическая модернизация автоматически следует за модернизацией в экономике. Напротив, при определенных условиях — если продолжается рост благосостояния, сохраняются и даже расширяются каналы социальной мобильности — политическая модернизация может оказаться отложенной или выборочной, как в Сингапуре, затрагивая лишь некоторые аспекты политической жизни и государственного управления. * Проведенную режимом Сухарто в Индонезии авторитарную модернизацию трудно назвать провальной, но ее успехи все же не позволили стране выстроить достаточно мощную «линию обороны» от бурь и атак финансовых спекулянтов в 1997–1998 годах. 225 Виктор Красильщиков Политическая модернизация и переход от авторитаризма к демократии Политическая модернизация представляет собой длительный процесс, и падение или постепенная эрозия авторитарного режима знаменует лишь начало этого процесса, хотя оно, безусловно, важно само по себе. Несомненно, что успешность и глубина политической модернизации зависят от типа авторитаризма, который существовал в стране. Неотрадиционалистский авторитаризм, способный допустить лишь ограниченную стихийную модернизацию в экономике, создает только одну предпосылку демократии — негативный консенсус в обществе по поводу нежелания жить при репрессивном режиме. Очевидно, эта предпосылка относится к числу социально-психологических факторов общественной жизни и не может быть прочной. Соответственно в этом случае не может быть прочной и установленная в стране демократия, особенно если она не решает никаких социальных проблем — да у нее, как правило, и нет возможностей для этого. Иначе обстоит дело, когда переход совершается от модернизаторского авторитаризма к демократии. В этом случае успешность и темп такого перехода зависят как от широты коалиции демократических сил, так и от гибкости и дальновидности тех, кто находится в данный момент у власти. Причем созданные в ходе авторитарной модернизации политические и правовые институты не разрушаются — как это происходит в результате краха неотрадиционалистского авторитаризма. Они либо целенаправленно демонтируются, как происходило в 1976–1977 годах в Испании, либо трансформируются в новые институты, выполняющие иные функции, отличные от тех, которые они несли при старом режиме. Это позволяет избежать институционально-правового вакуума и придает стабильность переходному процессу. В том же случае, когда демократическое правление (или его видимость) устанавливается после краха неотрадиционалистского авторитаризма, такой вакуум практически неизбежен, что снижает степень легитимности новой власти, закладывая «мины» под фундамент выстраиваемой на обломках режима демократии. Разумеется, нельзя забывать и о значении политических традиций и правовой культуры страны, которая переходит от авторитарного правления к демократическому. Так, формирование институтов представительной демократии и правовых норм в рамках «олигархической республики» в Аргентине до 1930 года играло некото- 226 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… рую роль в восстановлении этих институтов после того, как авторитарные режимы уходили со сцены. Демократические традиции, существовавшие в Чили и Уругвае до переворотов 1973 года, облегчили переход к демократии в этих странах после репрессивных диктатур. Кроме того, рассматривая перспективы перехода от авторитарных режимов к демократии, необходимо учитывать мировой контекст, в котором протекают эти процессы. Так, установление авторитарно-популистских модернизаторских режимов в ряде стран Латинской Америки в 1930–1940-е годы было связано с кризисом прежней модели мировой экономики и переходом к фордистскокейнсианской парадигме развития в «ядре» мир-системы и к импортозамещающей индустриализации в самих латиноамериканских странах. Соответственно в менее развитых странах Латинской Америки, а потом и на других континентах установились неотрадиционалистские авторитарные режимы, которые обеспечивали «привязку» аграрно-сырьевых экономик этих стран к машине фордистско-кейнсианской экономики развитых держав. Недаром эти режимы поддерживались Западом, а в обстановке «холодной войны» их вожди порой и вовсе почитались за «чистопородных демократов». Исчерпанность импортозамещающей индустриализации в Латинской Америке (да и в Азии тоже, хотя там она была выражена слабее) в конце 1950-х — начале 1960-х годов совпала с началом подъема промышленных транснациональных корпораций. Чуть позже на него наложился также и кризис фордистско-кейнсианской модели в странах Запада. Возникли и возможность, и необходимость перенести ряд промышленных отраслей в Латинскую Америку и Азию, где сложились условия для промышленного рывка, который сопровождался бы наращиванием экспорта не сырья, а готовых промышленных товаров на западные рынки. Вместе с комплексом социальных и политических проблем это обусловило установление новых, модернизаторских авторитаризмов в ряде латиноамериканских и восточноазиатских стран с 1960-х годов. В 1980-е годы на фоне обозначившихся постиндустриальных сдвигов в ведущих странах начинается отступление авторитаризма в тогдашнем «третьем» мире. Оно совпадает с началом перемен в Советском Союзе и странах Восточной Европы, первыми успехами модернизации в Китае и Вьетнаме. Означает ли это, что именно глобализация и постиндустриальные тренды благоприятствуют размыванию авторитаризма и переходу к демократии? 227 Виктор Красильщиков Потенциально да, благоприятствуют. Но лишь благоприятствуют и только в некоторых странах, но отнюдь не предопределяют такой переход. Дело в том, что по мере развития постиндустриальных тенденций усиливается внутренняя социальная дифференциация и в развитых странах Запада, и в ряде стран индустриальной полупериферии. Размывается —хотя, конечно, не исчезает совсем — промышленный рабочий класс (в этом отношении Россия и ряд других стран СНГ оказались мировыми лидерами). Ухудшается положение и части среднего класса, причем той, которая как раз и олицетворяет собой постиндустриальные тренды — школьных учителей, рядовых преподавателей университетов, инженеров на производстве и т. д. Одновременно растет слой людей, занятых случайной работой, полумаргиналов, склонных к «простым решениям» сложных задач. Обостряется также проблема иммиграции, а вместе с ней — и проблема преступности. И как реакция на разрушение старых социально-экономических структур под напором глобализации возникает запрос на авторитаризм — запрос, который может исходить от социальных групп, находящихся как наверху, так и внизу социальной лестницы. Примечательно, что такое разрушение может быть результатом не только низкой конкурентоспособности страны в мире, но и стремления правящих верхов приобщиться к «благам цивилизованного мира» ценой отказа от модернизации собственной экономики и каких-либо социальных обязательств. Это и произошло в большинстве государств, возникших на пространстве бывшего Советского Союза. Учитывая привычку советских людей к патернализму, заинтересованность верхов в установлении «порядка» вполне перекликается с настроениями низов, которым нужна «твердая рука», якобы не позволяющая новоявленным олигархам окончательно разорить народ. Результатом является формирование авторитарных режимов, напоминающих в некоторых отношениях неотрадиционалистские режимы середины минувшего столетия, но все же отличающихся от них. Правда, в Белоруссии и Казахстане действуют режимы, которые по своим функциям и некоторым результатам подобны авторитаризмам развития. Но в основном политические режимы в странах СНГ явно тяготеют к модели авторитаризма неотрадиционалистского толка (Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения). Их отличие от диктатур Анастасио Сомосы в Никарагуа или Альфредо Стреснера в Парагвае состоит в иной политико-экономи- 228 От авторитаризма к демократии на путях модернизации… ческой основе. Те диктатуры возникали в ходе разложения докапиталистических, традиционных общественных и хозяйственных систем и их приспосабливания к чужой модернизации (через торговлю сырьем или аграрной продукцией). Эти режимы оказались продуктом разложения структур модерна, причем не сформировавшихся до конца, и паразитируют на унаследованном от СССР промышленном потенциале. Однако и те и другие авторитарные режимы жили и живут за счет экспорта ресурсов, а основные доходы от этого экспорта присваивались и присваиваются узкой группой лиц, приближенных к власти. Нынешние «нео-неотрадиционалистские» авторитарные режимы на постсоветском пространстве, в свою очередь, опираются на возникшие в ходе разложения советской системы неопатримониальные отношения*. Эти отношения сложились в результате приватизации органов власти и их функций частью бывшей советской номенклатуры и примкнувшими к ней деятелями теневой экономики. Подобная «приватизация власти» понадобилась, чтобы не допустить «посторонних» к присвоению и эксплуатации доставшихся от советской системы ресурсов. Она оказалась главным условием приватизации собственности, которая, таким образом, сохраняет свое единство с властью. При этом делается все возможное, чтобы не допустить появления новых игроков как в экономике, так и в политике, претендующих на часть «пирога». Самый верный способ добиться этого — подавление любых интенций к модернизации, даже самой ограниченной. В связи с этим является абсолютно логичным то, что делал покойный президент Туркмении Сапармурат Ниязов: не разрешал пользоваться интернетом, закрыл все библиотеки, упростил систему образования и приказал изучать сочиненную им книгу наставлений «Рухнаме», запрещая ввоз каких-либо других книг в страну. Любые же попытки режима подобного типа провести хотя бы ограниченную, верхушечную модернизацию смертельно опасны для него, ибо способствуют дифференциации внутри правящей верхушки и приближают его разложение. Однако разложению таких режимов может способствовать и ухудшение конъюнктуры на рынках сырьевых товаров, из-за чего сокращается приток необходимых для их выживания ресурсов. Результатом этого разложения может стать, в лучшем случае, установление модернизаторского авторитарного режима, а отнюдь не * См.: Фисун, Александр. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации, Харьков: Константа, 2006, сс. 150 и далее, особенно сс. 168–178. 229 Виктор Красильщиков демократии. Более же вероятно погружение стран с такими режимами в хаос, на смену которому может прийти авторитаризм уже традиционного, архаичного типа, основанный на неопатримониальных отношениях. Торжество демократии, таким образом, не только не является предопределенным — оно может и не быть желаемым народами многих стран. Источники Bello, Walden; Docena, Herbert; de Guzman, Marissa and Malig, Mary Lou. The Anti-Development State: The Political Economy of Permanent Crisis in the Philippines, Quezon City: Univ. of the Philippines Press and Bangkok: Chulalongkorn Univ. Press, 2004. Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. III. End of Millennium, Oxford (U.K.), Malden (Ma): Blackwell Publishers, 1998. Krasilshchikov, Victor. The Rise and Decline of Catching-Up Development: The Experience of Russia and Latin America with Implications for the Asian ‘Tigers’, M laga: Eumed/Entelequia, 2008. Mahathir, Mohamad. The New Deal for Asia, Selangor: Pelanduk Publications, 1999. Rivas Nieto, Pedro. Doctrina de seguridad nacional y r gimenes militares en Iberoam rica, San Vicente: Club Universitario, 2008. Ворожейкина, Татьяна. «Авторитарные режимы ХХ века и современная Россия: сходства и отличия» в: Вестник общественного мнения, № 4(102), 2009. Фисун, Александр. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации, Харьков: Константа, 2006. Хантингтон, Самюэль. Политический порядок в меняющихся обществах, Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 230 Рыночное государство и постдемократия Эдриан Пабст, Профессор отделения политических наук Универстета Кента (Великобритания) Ознаменовалась ли неолиберальная эра, восходящая к середине 1970-х годов, «корпоративным захватом» государства и переходом к постдемократии? И если да, то предвещает ли коллапс неолиберализма возврат к доминированию демократических практик над свободной рыночной экономикой, характерному для послевоенного периода? Попробуем рассмотреть отношения между государством и рынком с двух точек зрения. В концептуальной и исторической перспективе рассмотрим подчинение большинства общественных институтов централизованному государству и «свободному» рынку, который определял и западный капитализм, и западную демократию начиная с 1870-х годов. С более эмпирической и современной точки зрения сфокусируемся на становлении постдемократических «рыночных государств», абсорбирующих понятие «гражданского общества», считающегося порой альтернативой нынешнему порядку. В своей книге «Постдемократия» Колин Крауч указывает, что с 1970-х годов демократия и модернизация в развитых странах двигаются не линейно или циклично, а «выписывают параболы»*. Формально продолжается демократизация политики через расширение избирательных прав и обеспечивающую смену правительств * См.: Crouch, Colin. Post-Democracy, Cambridge: Polity Press, 2004. 231 Эдриан Пабст систему выборов; демократические нормы соблюдаются, даже если они на деле ослабевают и власть прибирают к рукам узкие группы. Постдемократические тенденции подтверждаются многочисленными данными о падении уровня явки избирателей, снижении участия в политических и общественных организациях и о распространении «фиглярной политики», заменяющей общественно-политические дебаты бесконечными избирательными кампаниями, телевизионными шоу и пиар-кампаниями. Как следствие — формальное расширение демократии наблюдается в условиях социальной апатии и концентрации власти в руках старых элит, а также новых классов, ставящих интересы корпораций выше общественного блага. Выражаясь словами Шелдона Волина, это знаменует «политическое наступление века власти корпораций и политическую демобилизацию граждан», когда демократия становится в высшей степени управляемой, уподобляясь «перевернутому тоталитаризму»*. Возможно, это является частью более широких и глубоких изменений в геополитике и геоэкономике. Доминирующий современный концептуальный дуализм и идеологические парадигмы вступили в ту зону, где границы между государством и рынком, «левыми» и «правыми», демократией и авторитаризмом начинают стираться. Борьба идей заменяется постидеологическим управленчеством**, за которым скрывается приверженность status quo, выраженному в неолиберальной доктрине, крах которой сегодня очевиден. Здесь важно не путать неолиберализм с рыночной экономикой, основанной на принципе laissez-faire. Новая эра, начавшаяся в 1980-е годы, на самом деле не уменьшила влияния государства на экономику. Доля государственного сектора осталась неизменной (около 35–40% * См.: Wolin, Sheldon S. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2008. ** Истоки теории управленчества могут быть обнаружены в целом ряде интеллектуальных традиций. Во-первых, следует отметить работу Джеймса Бёрнхема «Революция управляющих» (см. Burnham, James. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York: John Day & Co., 1941), где сделано важное замечание о том, что частная собственность сама по себе не является достаточной защитой от контроля за средствами производства со стороны новой элиты, состоящей из исполнителей и менеджеров, бюрократов и функционеров. Во-вторых, свой вклад внесла и Франкфуртская школа с ее «тотально администрируемым обществом» и «одномерным человеком». В-третьих, оставили свой след и труды Даниела Белла о «конце идеологии» и «наступающем постинустриальном обществе» (см.: Bell, Daniel. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, New York: Basic Books, 1960; Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1976 [рус. пер.: Белл, Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования, Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Academia, 1999]), описывающие мутацию политики от идеологической пассионарности к управленческой процедурности и появление нового бюрократического и технократического класса. 232 Рыночное государство и постдемократия ВВП) или, как в Великобритании, даже несколько выросла (до 45% ВВП). Вместо того чтобы отодвинуть рамки государственного регулирования, неолиберализм расширил их на свежеприватизированные предприятия и прочие сферы. Более того, экономическая либерализация и финансовое дерегулирование были неотделимы от государственного вмешательства, имевшего целью распространить рыночные принципы на сектора, которые доселе были государственными. Иначе говоря, свободная экономика и сильное государство с самого начала шли рука об руку. Мировая гегемония неолиберализма позволила «экспортировать» эту модель из англо-саксонского мира в остальные страны Запада, а также и за его пределы. Так же, как в 1980-е годы Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган соединили государство с либеральной экономикой, в середине и конце 1990-х Билл Клинтон и Тони Блэр превратили бывшие рабочие движения в ориентированные на нужды бизнеса организации, которые стали исповедовать «свободный рынок» в целях финансирования инфраструктуры и модернизации «государства благосостояния». Их центристская идеология «третьего пути» вобрала в себя наихудшие черты левой и правой идеологий: бюрократическое государство стало верховным гарантом неконтролируемого свободного рынка, а свободный рынок был воспет как основной механизм достижения стандартов и целей, установленных государством, чьи услуги оплачиваются из кармана налогоплательщиков. Добавим к этому невероятное расширение полномочий властей в рамках «глобальной войны с терроризмом», начавшейся после 11 сентября 2001 года, — и вот авторитарное и постдемократическое «рыночное государство» появилось на свет. Попытаемся проследить возникновение постдемократического рыночного государства через анализ меняющихся отношений между государством и рынком. Рассмотрим сначала «длинные волны», характеризовавшие становление государств и рынков в эпоху модернити; затем оценим специфику взаимоотношений демократии и капитализма начиная с середины XIX века и вплоть до второй мировой войны; в заключение сфокусируем внимание на постдемократическом рыночном государстве и других новых феноменах. «Длинные волны» формирования государств и рынков Если слияние рынка с государством в политике и экономике — это черта постмодернити, то централизованный фискально-военный аппарат, лежащий в основе ориентированного на войну государства, может считаться типичным элементом для обществ, составивших 700летний период модернити, как определяет его Джованни Арриги*. Но * См.: Арриги, Джованни. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени, Москва: ИД «Территория будущего», 2006. 233 Эдриан Пабст можно пойти и дальше. Фундаментально различными являются не модели отношений государства и рынка, свойственные модернити и постмодернити, а те, которые существовали до формирования модернити, и те, которые затем оказались ей присущими. Государственный закон и рыночный обмен правили обществами более двух тысячелетий, но именно современная политическая мысль и политическая экономия, истоки которых восходят к позднесредневековому номинализму и волюнтаризму, сместили акцент с реальных отношений между людьми и группами в сторону отношений между номиналистическими полюсами — «индивидуальным» и «коллективным». И либерализм, и марксизм берут свое начало в традициях ранней модернити — в трудах Уильяма Оккама, Томаса Гоббса, Давида Юма и Адама Смита, которые предшествуют эпохе Просвещения, а в случае с Оккамом — и эпохе Возрождения. И хотя Джон Грей верно различает «два лица либерализма» (плюрализм Гоббса—Юма и монизм Локка— Канта*), стоит отметить, что укрепление модернистской протолиберальной традиции связано, во-первых, с теорией и практикой общественного договора и, во-вторых, с приматом нематериальных общих ценностей над универсальными добродетелями, выраженными в конкретных традициях и практиках. Все это усиливается разрастанием централизованного бюрократического государства и расширением собственнических рыночных отношений на все большие области общественной жизни. Как следствие — несовершенный государственный порядок обществ средневековья и эпохи Возрождения и «нравственная экономика», основанная на общих традициях и составлявшая народную культуру вплоть до XVIII века, постепенно сменились более современным типом государственного устройства. С этого момента индивиды стали подчиняться абсолютной суверенной власти централизованного территориального государства и децентрализованного, не привязанного к территории, рынка. Вместе задавали единые правила поведения для членов общества — как утверждал в своих знаменитых лекциях о рождении биополитики и либеральной концепции политической экономии Мишель Фуко**. С началом эпохи модернити общественные отношения более не ассоциировались напрямую с культурными, религиозными и даже мировыми реалиями, а рассматривались все больше в теоретических договорных рамках. Собственность стала теперь в большинстве случаев частной, а коммерческий интерес лег в основу функционирования как монархических, так и республиканских режимов. Поскольку * См.: Gray, John. Two Faces of Liberalism, Cambridge: Polity Press, 2000. ** См.: Foucault, Michel. Naissance de la biopolitique: Cours au Coll ge de France, 1978–1979, Paris: Editions du Seuil, 2004. 234 Рыночное государство и постдемократия государство и рынок заключили тайный союз за счет интересов местных сообществ и саморегулирующихся институтов, гражданское общество стало постепенно распадаться на отдельных индивидов, преследующих собственные интересы в ущерб общему благу. Так свойственный модернити дух «собственнического индивидуализма» начал порождать «стяжательские общества»*. В долгом и непростом процессе модернизации и демократизации формализация политики шла рука об руку с расширением финансового сектора экономики. Итогом становился разрыв живых человеческих и естественных связей. Фернан Бродель и Карл Поланьи идут дальше Карла Маркса (и частично наперекор ему), демонстрируя, как «автономная» торговля, основанная на расчете стоимости, — что отличает современный капитализм от традиционных рыночных экономик — превращает в товар не только труд и социальные отношения, но даже природу и саму жизнь. Капитализм как таковой отрицает и подчиняет священную сферу человеческой жизни псевдосакральному государству и рынку. Это объясняет, почему определение «псевдорелигии», данное капитализму Уолтером Бенджамином*, настолько точно. Все это указывает на то, что, как рыночный капитализм является воплощением абстрактных, фетишизируемых и идеализируемых товаров, так и либеральная представительная демократия предъявляет массам характерные для большинства взгляды и чаяния. И если это так, то значит, демократия и капитализм неразрывно переплетены и имеют тенденцию ко все большему обособлению от граждан, концентрации и централизации. К этому мы вернемся несколько позже. Современное европейское государство имеет средневековые корни. Оно узурпировало универсальный характер христианских институтов, ускорив — если не спровоцировав — их упадок. Как на Востоке, так и на Западе со времен Константина всепроникающие идеи церкви и империи разграничивали разные типы власти и легитимности, создавая горизонтальную модель децентрализованного и распределенного суверенитета. Длинный и отнюдь не гладкий процесс перехода от средневековья к ранней модернити ознаменовался постепенной заменой системы горизонтальных пересекающихся отношений «вертикалью власти» абсолютных монархов. Государство модернити родилось в ожесточенных конфликтах, противопоставивших монархов и их вороватых баронов папам и императорам. * См.: Tawney, Richard Henry. The Acquisitive Society, London: Bell, 1921; MacPherson, Crawford Brough. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford: Clarendon Press, 1962. ** См.: Benjamin, Walter. «Capitalism as Religion» in: Benjamin, Walter. Selected Writings, Vol. 1 (1913–1926), Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1996, pp. 288–291. 235 Эдриан Пабст Как заметил Чарльз Тилли, «война породила государство, а государство породило войну»*. Отличительной чертой этого устройства было создание мощного фискально-военного аппарата, при котором налогообложение и масштабные военные расходы обусловливали друг друга. Постепенно всеобъемлющий суверенитет, который до того, хоть и не без споров, делили между собой императоры и папы, разрушался. Акцент при государственном строительстве сдвигался с наднационального разделения властей в сторону монополизации легитимной власти национальными монархами. Изменение характера войны поспособствовало дальнейшему сближению королей и олигархов: последние обеспечивали доход первым в обмен на защиту и безопасность. В этом процессе родилась новая идея, ставшая квинтэссенцией эпохи модернити, — идея вечного территориального деперсонализированного государства. Прежде государство воспринималось как временное королевство, управляемое смертным королем, чья власть считалась подарком Господа (доктрина о божественном праве королей в действительности относится к ранней модернити**). Война стала первостепенным средством расширения государственной власти и умножения богатства, распределяемого между правителями и их спонсорами. Так родилось военное государство. Парадоксальным образом государство оказалось отделено от сообществ, которые оно должно было воплощать. Аналогичным образом и рынок сдвинулся в сторону международных финансовых операций и невзаимной заморской торговли. Появившаяся капиталистическая система поощряла открытые рынки и свободное движение капиталов. В то же время государство модернити могло утвердиться среди конкурирующих форм государственной организации только за счет финансовой экспансии и новых методов экономического накопления, включая жестко контролируемую систему сбора налогов. Новые отношения централизованной власти и территориальной юрисдикции произвели целый ряд различных, но коррелирующих моделей суверенного национального государства и суверенного транснационального рынка. Несмотря на значительные различия, и абсолютистский суверенитет Франции, и протокапиталистический суверенитет Англии были одинаково рождены в условиях перехода от более рассеянной к более унитарной форме власти, при которой формальные права и собственнические отношения находились под защитой монарха, но регулировались рыночными силами. Национальное государство и капиталистическая экономика были связаны изначально. * Tilly, Charles. «Reflections on the History of European State-Making» in: Tilly, Charles (ed.) The Formation of National States in Western Europe, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1975, p. 42. ** См.: Kantorowicz, Ernst. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1957. 236 Рыночное государство и постдемократия В этом процессе, однако, нет ничего предопределенного или естественного. Он не был линеен и не шел по восходящей, как утверждает либеральная теория. Наоборот, он носил экспоненциальный и «параболический» характер. Транснациональный фактор почти всегда играл в пользу подчинения локального глобальному, а не наоборот. И так же, как в Новое время территориальные государства и экстерриториальный финансовый сектор поглотили местные сообщества, сегодня национальные государства и мультинациональные корпорации поддерживают глобальную экономику, которая все больше удаляется от местных сообществ и групп. Всеобщее подчинение локального глобальному не является феноменом последней трети ХIX века с его принципом laissez-faire. Как демонстрирует Роберт Бреннер, наличие сельскохозяйственных излишков вкупе с невзаимной океанской торговлей в Англии XVI века произвели на свет первую капиталистическую экономику и превратили финансовый сектор в ключевую силу международной экономики. Не удивительно, что Томас Гоббс, Джон Локк и другие мыслители эпохи модернити переформулировали концепцию природы человека и общества — уже у Гоббса «политическое тело» поддерживается абсолютистской властью Левиафана, а человек рассматривается лишь как хозяин самого себя, не связанный существенными взаимоотношениями с другими индивидами. В результате Гоббс определяет общественные отношения в терминах собственности, в значительной степени свободных от общинных связей, регулируемых добродетелью; такие отношения диктуются, наоборот, «собственническим индивидуализмом», концепцию которого мы находим затем у Локка и Юма. И хотя Смит и некоторые другие политэкономы того времени отвергали онтологический атомизм Гоббса, Локка и Юма, апеллируя к предрациональным моральным чувствам — таким, как симпатия, доброта и «помощь ближнему», это не сломило собственнических и коммерческих основ общества модернити. Наоборот, идея общественного договора и протополитические экономические чувства дополняли и в значительной мере усиливали друг друга. В «долгом восемнадцатом веке» (c 1688-го по 1815 год) Англия окончательно консолидировала свое фискально-военное государство и коммерциализировала общество. «Финансовая революция», состоявшая в выдаче государственных займов, стимулировавших все разрастающийся денежный рынок, в сочетании с военно-морскими интервенциями по всему миру позволили британскому государству объединить интересы землевладельцев, промышленников, торговцев и финансистов. Подобным же образом и американская республика основывалась на коммерческих ценностях, а не на граж- 237 Эдриан Пабст данских добродетелях, которые характеризовали Италию и другие страны европейского континента со времен эпохи Возрождения. Распространение рыночных обществ дало повод либеральным и консервативным мыслителям XIX века — таким, как Алексис де Токвиль и Томас Карлайл, критиковать возникновение «фиглярной политики» и денежных отношений в качестве основ общественных связей в эпоху модернити. И демократия в данном случае не способна предотвратить ни концентрацию богатства, ни централизацию власти. По возвращении из Америки в 1830 году Токвиль заметил: «Всеобщее избирательное право всего лишь легитимизирует использование власти теми, кто и так ею обладает»*. Начавшееся в XIX веке сращивание политики и экономики предрекло глубинный кофликт между демократией и капитализмом, ставший отличительной чертой «долгого ХХ века» (1870–2008 годы). Распространение представительной демократии в европейских странах исправило дисбаланс распределения власти между различными социальными группами и породило современное государство благосостояния (к нему мы еще вернемся), но оно не могло ограничить или уменьшить власть рыночного государства. Как отмечал Рудольф Гильфердинг, принцип laissez-faire вкупе с разрастанием государства превратил соревновательный и плюралистический «либеральный капитализм» в монополистический и картельный «финансовый капитализм». Финансовый капитал устранил прежнюю либеральную оппозицию «централизованной и распределяющей блага государственной власти»** и использовал государство для обеспечения расширения торговли и передвижения капитала, что в значительной степени стало причиной финансовых кризисов, подобных кризису 1873 года. Как показал тот кризис и последовавшая за ним первая «Великая депрессия», крах фондового рынка в Австрии и Германии распространился на Америку, спровоцировав спад в торговле и экспорте капиталов и таким образом вызвав волну дефолтов. В свою очередь отказ платить по долговым обязательствам в Центральной Америке обрушил цены облигаций, и кризис вернулся в Европу, захлестнув Англию, Францию и Россию. К 1876 году ряд стран объявили дефолт, и мировая экономика впала в продолжительную рецессию, которая в некоторых странах затянулась вплоть до 1896 года. Так, уже в конце XIX века была * Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке, Москва: Прогресс, 1992; примечательно, что Токвиль был также одним из первых, кто описал появление «фиглярных обществ». Позже данные идеи дорабатывались Торнстейном Вебленом (см.: Веблен, Торнстейн. Теория праздного класса, Москва: Прогресс, 1984) и нашли наивысшее выражение пока в работах Ги Дебора (см.: Debord, Guy. La soci t du spectacle, Paris: Edition Buchet-Chastel, 1967; Debord, Guy. Le d clin et la chute de l’ conomie spectaculaire-marchande, Paris: Belles Lettres, 1993). ** Hilferding, Rudolf. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge & Kegan Paul, 1981, p. 301. 238 Рыночное государство и постдемократия подчеркнута зависимость большинства аспектов экономической деятельности от мировых финансов. Теоретически прослеживается параллель между финансовым капитализмом и представительной демократией. Подобно тому, как финансы проникли во все сферы жизни, демократия склонна распространять договорные отношения и централизованный контроль власти над обществом на весь спектр социальных отношений. Но вместо того чтобы привести к большей демократизации в интересах большинства, демократическое правление на протяжении XIX и XX столетий прежде всего характеризовалось узурпацией суверенитета исполнительной властью*. Наиболее свежий, но не единственный, пример — ответ на атаки террористов. Начав «глобальную войну с террором», многие демократии на Западе, и не только, объявили об «особом положении» и приостановили действие основных конституционных положений ради защиты от того, что им казалось крайне опасной угрозой. Однако, когда исполнительная власть объявляет об «особом положении», концептуальная разница между демократией и авторитаризмом стирается: формально демократические структуры остаются на месте, но исполнительная власть скатывается к методам, которые могут быть описаны как форма «перевернутого тоталитаризма». Более того, жизнь разных людей оценивается по-разному, а человеческое достоинство более не защищено должным образом. Поэтому, как я указывал в других работах**, современная либеральная представительная демократия сочетает в себе юридически-конституционную модель государственного суверенитета «по Карлу Шмитту и Максу Веберу» с «биополитической» концепцией власти в смысле доминирования над самой жизнью «по Уолтеру Бенджамину и Мишелю Фуко». Таким образом, и над финансовым капитализмом, и над представительской демократией довлеет диалектическое противоречие. Капитализм колеблется между накоплением/экспансией и перенакоплением/рецессией, а демократия — между конституционно декларируемым суверенитетом граждан и конституционно обеспеченной абсолютной суверенной властью, осуществляемой ее исполнительной ветвью. Можно пойти еще дальше. И демократия, и капитализм исходят из того, что единство рождается естественным путем из множества. Множество соперничающих индивидов так или иначе производит единый искусственно установленный порядок, основанный либо на общественном договоре, либо на естественных нравственных чувствах. Насилие, присущее естественному состоянию борьбы эгоистических * См.: Agamben, Giorgio. State of Exception, Chicago: Chicago Univ. Press, 2005. ** См.: Pabst, Adrian. «Modern Sovereignty in Question: Religion, Democracy and Capitalism» in: Telos, No. 151, Summer 2010. 239 Эдриан Пабст интересов, требует усмирения законом и нуждается в централизованной государственной власти, которая имела бы монополию на легитимное применение силы. Современная «биополитика», легитимизирующая и демократию, и капитализм, не только распространила политическую власть на все сферы бытия, но подчинила человеческое достоинство и святость человеческой жизни государству и рынку. Рассмотрим теперь, как постдемократическое рыночное государство усиливает слияние политики и экономики, абсорбирует «гражданское общество», вытесняя и низвергая предыдущие формы государственной организации, при этом не замещая их полностью. Постдемократическое рыночное государство Мы начали с констатации возникновения «постдемократического рыночного государства», при котором суверенитет народа и политическое представительство сохраняются, но повседневный демократический процесс (например, участие граждан в выборах и партийной деятельности) переживают упадок, а власть уходит от народа к «глобальному классу». Сегодня многие оптимисты склонны считать, что если этот процесс и имеет место, то почти исключительно в США, Великобритании и ряде стран, принявших неолиберальную модель капитализма. Большинство же государств, утверждается, сохранили свой политический и экономический суверенитет — тем более что «кредитное сжатие» 2007–2008 годов, спровоцировавшее глобальную рецессию, похоже, сдвинуло чашу весов в пользу национально избранных правительств и государственных институтов. Маятник, ранее сдвинувшийся к монетаризму и неолиберализму, якобы качнулся обратно в сторону неокейнсианства, способствующего укреплению парламентаризма и возникновению «государства благосостояния» даже в таких молодых рыночных экономиках, как Китай и Индия. Однако эти аргументы легко развеять. Во-первых, в отличие от ушедшей в прошлое эпохи модернити, демократия времен постмодернити уже не определяется на основе территориальности, национальной принадлежности или самоопределения народов, состоящих из конкретных граждан. Вместо этого основным назначением демократии отныне и впредь будет регулирование рисков и максимизация индивидуального выбора и экономических возможностей потребителей материальных благ. Слияние политики и экономики, очевидное на протяжении всей эпохи модернити, сегодня перешагивает через границы, по мере того как национальные государства все больше интегрируются в транснациональную систему власти, состоящую из многонациональных корпораций 240 Рыночное государство и постдемократия и наднациональных институтов — таких, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Современная модель глобализации поощряет создание и распространение рыночных государств*. Во-вторых, даже страны, обретшие независимость после деколонизации в Африке или с завершением «холодной войны» в Европе и Евразии, в той или иной степени стали частью этой новой системы глобализированного капитала и наднационального разделения власти. Действительно, государства «второго» и «третьего» мира каждодневно объединяют свой суверенитет с суверенитетом развитых стран, участвуя в глобальном движении капиталов, свободной торговле, а также подчиняясь решениям глобальных регулятивных структур и нормам международного права. Подобным же образом и демократия на местном уровне во все большей степени поглощается глобальным, управляемым средствами массовой информации круговоротом бесконечных избирательных кампаний, перераспределяющих власть между старой бюрократией и новыми экономическими элитами. При этом во многих демократических, по формальным признакам, странах армия и другие ключевые государственные институты неподконтрольны обществу, а являют собой полуприватизированные корпорации, находящиеся в руках влиятельных кланов. В большинстве этих стран имеется значительный теневой сектор экономики — и «теневое государство» с неформальной моделью управления, невыборной и никому не подотчетной. Поскольку эти структуры выходят за пределы национальных границ и связаны с наднациональными сетями, старая, дуалистическая государственная теория не способна учесть важности глобальной экономики в формировании и развитии новых независимых государств в Латинской Америке, Африке и Азии. В-третьих, такие страны, как Россия и Китай, выглядят задержавшимися в модернити, поскольку ревностно оберегают свою территориальную целостность и неприкосновенность границ. Они не в полной мере открыли свои рынки для глобальной конкуренции и стремятся интегрироваться в мировую экономику постепенно, особенно после неудачного опыта «шоковой терапии» в России. И Россия, и Китай представляют собой разновидности государственно- или партийно-олигархического капитализма, основанного на патримониальном слиянии политической власти и материальных богатств, когда интересы государства и бизнеса намертво переплетены. Поскольку для успешного функционирования капитализму снова и снова необходимо «первоначальное накопление» — посредством экспроприации и перераспределения, он процветает в условиях политического * Подробнее см.: Robison, Richard (ed.) The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State, Basingstoke: PalgraveMacmillan, 2006. 241 Эдриан Пабст авторитаризма. В результате степень политической либерализации отнюдь не следует за либерализацией экономической. В России демократизация переживает откат — как минимум со времени начала строительства Владимиром Путиным «вертикали власти» после теракта в Беслане в 2004 году. В Китае прогресс в области демократизации ограничивается почти исключительно местным уровнем власти. И хотя коррупция в Китае наказуема более жестко, чем в России, а экономика его более диверсифицирована, он не менее зависим от мировых финансов и торговли, чем Российская Федерация. В-четвертых, по перечисленным причинам государство сохраняет за собой ключевую роль в реализации суверенных прав. Государства, как и во времена Макса Вебера, сохраняют монополию на законное применение насилия, что являлось характеристикой государства эпохи модернити; при этом за ними остается прерогатива вводить в действие международные соглашения, законы и нормы в рамках номинально разделенных юрисдикций*. Национальные парламенты и, в меньшей мере, судебные органы власти лишились многих из своих полномочий, которые сосредоточились в руках нового управленческого класса, состоящего из представителей государственной исполнительной власти, все более политизированной бюрократии и руководителей транснациональных корпораций — все они действуют заодно и в ущерб интересам местных органов власти, общин и групп. Сегодняшняя модель глобализации делает капитализм даже более вездесущим, чем это предполагается идеологией laissez-faire, а демократию — более авторитарной, чем это допускается теорией либерального представительства. В-пятых, попытки борьбы с мировым экономическим кризисом пока не изменили баланса сил между глобальными финансами и регионализированным реальным сектором экономики. Беспрецедентные государственные вливания в 9 триллионов долларов, кредитные гарантии и поддержка банков не улучшили существенным образом положения столкнувшихся с трудностями промышленных компаний и частных лиц. Не возобновилось и борьбы идей между партиями. Вместо этого «левые» «взяли на поруки» мировую финансовую систему, не реформируя ее, в то время как «правые» печатают деньги и готовятся сократить социальные расходы. И те, и другие поддерживают систему, которая приватизирует прибыли и национализирует убытки. Никто пока не инициировал действительного перераспределения власти и благ в пользу граждан, общин, местных сообществ и малого бизнеса. * Подробнее см.: Sassen, Saskia. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York: Columbia Univ. Press, 1996; Gray, John. False Dawn. The Delusions of Global Capitalism, London: Granta, 1998. 242 Рыночное государство и постдемократия В-шестых, «государство благосостояния» в Европе и ряде других регионов смягчило влияние рецессии на безработных и малоимущих посредством перераспределения бюджетных средств. Но здесь важно помнить, что со времен Бисмарка развитие «государства благосостояния» сопровождалось расширением государственной власти. На первый взгляд, это казалось положительным явлением, способным сгладить поляризацию в обществе, возникавшую в результате промышленной революции. Но на самом деле военное государство было просто-напросто дополнено «государством благосостояния» — как показал печальный опыт двух мировых войн. А после Второй мировой войны целью «государства благосостояния» стало заместить традиционные сети социального обеспечения единой системой, производящей «рефлексирующего и рискующего индивида, располагающего свободой выбора и свободного от ограничений, налагаемых природой, семьей и традицией; кажется, “государство благосостояния” порождено капитализмом и лишь прислуживает ему»*. И даже запуск социальных программ в новых рыночных странах — таких, как Китай и Индия, может отвечать внутренним потребностям и способно смягчить глобальный дисбаланс, но вряд ли это обуздает капитализм или трансформирует рыночное государство. Наоборот, это лишь легитимизирует существующий порядок. И наконец, возможно, самый главный аргумент: постдемократическое рыночное государство уже заключает в себе «гражданское общество», которое иногда считают его альтернативой. «Гражданское общество» было либо поглощено государством, либо приватизировано и передано в частную сферу — но в любом случае гражданские институты и гражданская культура подчинены государству и, во все возрастающей степени, рынку. Это не значит, что все участники и структуры гражданского общества находятся под контролем рыночного государства — некоторые местные и транснациональные сети ускользают от регламентирующей власти государства и рынка. Однако базовое разделение на частную и общественную сферы никуда не исчезает, — так же, как и разделение на частную и коллективную собственность и прочие подобные разграничения, которыми мы обязаны современному либерализму. Фундаментальная основа политических, общественных и культурных отношений современного нам общества — это сочетание контролируемых государством узаконенных контрактов и обеспечиваемого рынком обмена. Тщетные воззвания к «общественному порядку» и открытой для всех «ценностно-нейтральной» политической сфере не способству* Milbank, John. «The Real Third Way: For a New Metanarrative of Capitalism» in: Pabst, Adrian (ed.) The Crisis of Global Capitalism, Eugene (Or.): Cascade Books, 2010, р. 8. 243 Эдриан Пабст ют осознанию того, что [политическое] участие обусловлено абсолютным приматом государства и рынка над социальными группами — что еще сорок лет назад показал Роберт Нисбет*. Более того, даже умеренный по американским меркам Совет по гражданскому обществу признает, что автономия «гражданского общества» снизилась, и мы должны противостоять дезинтеграции общественной культуры**. Последние тридцать лет или около того, которые совпали с экономической либерализацией «правых» и социально-культурной либерализацией «левых—, были временем упадка этой культуры — как на Западе, так и в остальном мире. Это заставляет усомниться в состоятельности идеологии, проповедующей беспорядочную модернизацию во имя представительной демократии. Заключительные ремарки Описывая появление постдемократического рыночного государства, я утверждал, что либеральная претензия на почти линейный, универсальный прогресс так же сомнительна, как и марксистская идея о повторении циклов накопления основного капитала. В основе обеих концепций лежит вера в возможность усовершенствования мира, а прогресс ставится выше традиций. В то же время постулируется примат индивидуального либо коллективного и занижается значение исторической вероятности. В результате либеральная и марксистская теории отвергают альтернативные модели, которые не вмещаются в эту бинарную, концептуально устаревшую карту. Парадоксальным образом крах марксистско-ленинского эксперимента и появившейся в эпоху Возрождения утопии о вечном, всеобщем прогрессе уничтожил возможность полномасштабной системной трансформации, сводя все к ничтожной бюрократической реформе, пока мир размышляет над перспективой «безальтернативности»** *. По этим и другим причинам представительная демократия как таковая, возможно, необходима, но, наверняка, не достаточна для противостояния объединенной силе современного территориального государства и внетерриториального рынка. Пришла пора «рассеять» суверенитет, плюрализовать власть и привнести в политэкономию понимание человека и окружающей среды. Для этого рынки должны быть помещены в комплексную сеть общественных отношений, а всеобщая добродетель справедливости объединена с конкретными традициями взаимовыгоды ассоциаций, так чтобы индивиду* См.: Nisbet, Robert. The Quest for Community, Oxford: Oxford Univ. Press, 1969. ** См.: A Call to Civil Society, Chicago: Institute for American Values, 1998. *** См.: Bauman, Zygmunt. Intimation of Postmodernity, London: Routledge, 1992, рр. 175– 244 Рыночное государство и постдемократия альная свобода и социальное благосостояние обеспечивались исходя не из утилитарной калькуляции, а в соответствии с политико-этическими целями людей. Безрассудная модернизация куда менее плодотворна, чем формирование нового социального устройства, при котором и централизованное бюрократическое государство, и свободный глобальный рынок трансформировались бы с целью служения интересам людей, групп и окружающей среды. Для достижения этого государство и рынок должны быть встроены в более широкую сеть социальных отношений и подчиняться таким добродетелям, как справедливость, солидарность и ответственность. Этого можно достичь только сочетанием принципа солидарности с принципом субсидиарности, в соответствии с которым принятие решений в политике и экономике должно происходить на наиболее соответствующем уровне, чтобы отвечать индивидуальным и общественным нуждам, т. е. насколько возможно близко к низовому уровню — и только в случае необходимости на региональном, национальном или глобальном уровнях. Учитывая нынешнюю конфигурацию сил, это требует полномасштабной политической и экономической децентрализации в сочетании с созданием опосредующих структур в лице межрегиональных и наднациональных органов. Мировая экономика должна основываться на новых, позитивных мотивах в сочетании с более жесткими карательными нормами и восстановленными общественными табу; ей необходимо переключиться с краткосрочных финансовых спекуляций на долгосрочные инвестиции в реальный сектор, социальное развитие и поддержание окружающей среды. Демократия и модернизация смогут обеспечить прогресс, если они прекратят дальнейший отрыв от местных сообществ и групп и будут поддерживать «достойную жизнь» и «общее благо». Перевод А. Шаховой Источники Agamben, Giorgio. State of Exception, Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2005. Вell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1976. Bell, Daniel. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, New York: Basic Books, 1960. Benjamin, Walter. «Capitalism as Religion» in: Benjamin, Walter. Selected Writings, vol. 1 (1913–1926), Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1996. 245 Эдриан Пабст Burnham, James. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York: John Day & Co., 1941. A Call to Civil Society, Chicago: Institute for American Values, 1998. Crouch, Colin. Post-Democracy, Cambridge: Polity Press, 2004. Debord, Guy. Le d clin et la chute de l’ conomie spectaculaire-marchande, Paris: Belles Lettres, 1993. Debord, Guy. La soci t du spectacle, Paris: Edition Buchet-Chastel, 1967. Foucault, Michel. Naissance de la biopolitique: Cours au Coll ge de France, 1978–1979, Paris: Editions du Seuil, 2004. Gray, John. False Dawn. The Delusions of Global Capitalism, London: Granta, 1998. Gray, John. Two Faces of Liberalism, Cambridge: Polity Press, 2000. Hilferding, Rudolf. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge & Kegan Paul, 1981. Kantorowicz, Ernst. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1957. MacPherson, Crawford Brough. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford: Clarendon Press, 1962. Milbank, John. «The Real Third Way: For a New Metanarrative of Capitalism» in: Pabst, Adrian (ed.) The Crisis of Global Capitalism, Eugene (Or.): Cascade Books, 2010. Nisbet, Robert. The Quest for Community, Oxford: Oxford Univ. Press, 1969. Pabst, Adrian. «Modern Sovereignty in Question: Religion, Democracy and Capitalism» in: Telos, No. 151, Summer 2010. Pabst, Adrian (ed.) The Crisis of Global Capitalism, Eugene (Or.): Cascade Books, 2010. Robison, Richard (ed.) The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State, Basingstoke: PalgraveMacmillan, 2006. Sassen, Saskia. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York: Columbia Univ. Press, 1996. Tawney, Richard Henry. The Acquisitive Society, London: Bell, 1921. Tilly, Charles. «Reflections on the History of European State-Making» in: Tilly, Charles (ed.) The Formation of National States in Western Europe, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1975. Wolin, Sheldon S. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2008. Арриги, Джованни. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и история нашего времени, Москва: ИД «Территория будущего», 2006. Веблен, Торнстейн. Теория праздного класса, Москва: Прогресс, 1984. Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке, Москва: Прогресс, 1992. 246 Часть четвертая Демократия в мире 247 Меньше – значит больше: нравственные достоинства политического минимализма Амитаи Этциони, Директор Института коммунитарных политических исследований, профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Коммунистическая и либерально-демократическая идеологии, определявшие политику столь разных государств, как СССР и США, имеют общий недостаток: они заметно преувеличивают способность правительств менять и перестраивать социальные системы. Это особенно очевидно, если движущая сила перемен приходит извне, когда великие державы вовлекаются в «дистанционный общественный инжиниринг». В таких случаях легко убеждаешься, что возможности строительства социализма (или демократии) в других странах намного более ограничены, чем это допускали ведущие идеологии ХХ века. Я, разумеется, не утверждаю, что никаких перемен вообще не происходит, но подчеркиваю, что очень часто они отличаются от тех, на которые надеялись и которых ждали их инициаторы. Современная Россия — это совершенно другое общество и другая страна, чем тридцать лет назад, — но вряд ли такая, какой ее видела Коммунистическая партия, начиная реформы 1980-х годов. И хотя никто не знает, чем закончатся попытки Соединенных Штатов преобразовать афганское и иракское государства, можно уверенно утверждать, что в них не сложатся режимы, о которых мечтал Джордж Буш-мл., направляя войска в эти страны. Можно по-разно- 249 Амитаи Этциони му относиться и к Организации Объединенных Наций, но нельзя не видеть, насколько сегодня она отличается от того идеала, о котором мечтали ее основатели. Многие исторические идеи порождали чувство гипероптимизма. К примеру, Просвещение основывалось на мысли, что наука, или, в более общем смысле, разум, отринет традиции и религию, позволив человеку построить рациональный мир. И социализм, и либерализм восприняли идею прогресса и поверили в возможность серьезно исправить — если не довести до совершенства — общество, человека и мир. Распространение образования и средств массовой информации вовлекло население в политику и потребовало от власть имущих попытаться легитимизировать свой статус, обещая гражданам построить идеальные государства будущего. Забавно, что жертвой подобного чрезмерного оптимизма стали и неоконсерваторы, обязанные своему возвышению тем, что они придерживались более реалистичного взгляда на человеческие природу и общество. Консерваторы всегда были склонны к скепсису в отношении перемен, так как недопущение таковых соответствовало интересам их сторонников. В значительной мере их идеи обрели последователей в Соединенных Штатах после того, как разнообразные «освободительные» движения 1960-х годов разрушили прежний режим. Семейные связи, отношения к меньшинствам, сексуальные табу, объекты национальной гордости, а также авторитет военных и священников, профсоюзных людеров и отцов семейств — все пошло прахом. Одновременно американское общество испытало и прилив либерального оптимизма, отраженный в идеях Великого общества, породивших десятки программ, многие из которых ставили задачей преодолеть бедность, расовую дискриминацию и гендерные различия, сократить неравенство и экспортировать либерализм во многие страны мира. Неоконсерватизм в 1970-е годы стал реакцией на все это; его основатели указывали, что правительству удалось достичь намного меньше того, что оно обещало. В последующие годы отрицание необходимости государственного вмешательства в общественную жизнь стало намного более агрессивным, как и требования отказаться от втягивания страны в операции за рубежом — от военных интервенций до оказания гуманитарной помощи. По неочевидным причинам те же неоконсерваторы в начале 1990-х годов выдвинули новую супероптимистичную идеологию, позволившую Джорджу Бушу-мл. счесть, что Соединенные Штаты могут реализовывать за рубежом такие масштабные социальные перемены, которые не способны провести даже у себя дома. Ее пос- 250 Меньше – значит больше… ледователи поверили, что США смогут превратить Афганистан и Ирак в образцовые капиталистические демократии вопреки тому, что народы этих стран почти не имели необходимых для этой трансформации образовательных, культурных, экономических и политических оснований. Администрация Джорджа Буша-мл. полагала также, что ей удастся заставить Россию, Иран и даже КНДР воспринять демократические практики и что в результате на всей Земле воцарится мир — ведь считалось, что демократии не воюют друг с другом. Печальным, но несомненным фактом, однако, является то, что общества в целом и международное сообщество в частности крайне невосприимчивы к навязываемым изменениям — и потому власть имущие должны умерить амбиции как дома, так и за рубежом. Согласиться с тем, что наши возможности социального инжиниринга ограничены — не значить сдаться или стать фаталистами. Напротив, ограничение амбиций и фокусирование усилий закладывают предпосылки перемен, тогда как гипероптимизм ведет к разбазариванию редких ресурсов, и особенно — нравственного и политического «капитала». «Редкость» — термин, применяемый экономистами для обозначения того, что желания превышают имеющиеся возможности, и ситуация эта практически универсальна. С ней сталкиваются и те, кто хочет социальных перемен. Такие перемены могут быть осуществлены с использованием образовательных программ, нравственного примера, разнообразных инициатив и в последнюю очередь принуждения — средств, каждое из которых обходится недешево. Учитывая, что ресурсы, которые могут быть использованы для продвижения реформ, ограничены, реформаторы почти всегда сталкиваются с их дефицитом (это касается финансовых средств, а также нравственного и политического «капитала»). Нравственный капитал — это способность убеждать. Но даже люди, обладающие высоким моральным авторитетом, имеют ограниченные шансы заручаться поддержкой своих сторонников в отдельных частных вопросах. Концентрирование на одной из важных нравственных проблем почти наверняка означает, что многие более конкретные темы останутся «за кадром» или будут затронуты вскользь. Политический капитал — это умение заручаться поддержкой законодателей, избирателей и лоббистов, и он тоже ограничен. Я подчеркиваю это потому, что адепты «немедленного прогресса» часто убеждены, будто стоит правительству твердо захотеть чего-либо, добиться перемен не составит труда. В то время, когда я работал в Белом доме, политические и бизнес-лидеры по 251 Амитаи Этциони нескольку раз в месяц добивались приема у президента и призывали его к реализации тех или иных инициатив. Они были искренне уверены: стоит главе государства довести до сведения граждан, что необходимо сделать, — и все остальное окажется делом техники. В подтверждение этому часто указывают на рузвельтовские «беседы у камина». К сожалению, такие подходы не только иллюзорны, но и контрпродуктивны. И чем более ограничены ресурсы, тем важнее становятся самоконтроль и тщательный выбор целей и средств, тем дороже обходятся ошибки. Печально, но нравственный и политический капитал, требующийся для инциирования социальных перемен, особенно в иных обществах, очень ограничен. Этот факт, на мой взгляд, требует, чтобы задачи социального инжиниринга отбирались таким же образом, как идет сортировка раненых на поле боя или пострадавших в зоне стихийных бедствий. Многие благие цели не могут быть достигнуты; не нужно и пытаться этого делать. Некоторые задачи будут решены даже без посторонней помощи, и от нее можно воздержаться, даже если таковая несомненно была бы полезной. И наконец, некоторые, тщательно отобранные, цели — особенно те, где небольшими вложениями можно достичь существенных результатов, — и должны привлекать первоочередное внимание. По мере того, как в их достижении наблюдается прогресс, ресурсы могут быть переориентированы на другие направления. Я утверждаю, что этот минималистский подход, столь контрастирующий с гипероптимизмом, не является аморальным. Напротив, безнравственно не заниматься сортировкой задач и четким определением приоритетов, поскольку это приведет к необоснованному умножению человеческих страданий и бессмысленной трате сил и средств. Безопасность превыше всего Как я указывал в своих недавних работах, первейшим приоритетом — как на национальном, так и на международном уровне — должно являться обеспечение элементарной безопасности*. Под таковой я понимаю условия, в которых люди могут не беспокоиться за собственную жизнь — как на публике, так и в их жилищах, свободно ходить на работу и посылать детей в школу, реализовывать право участвовать в религиозных и общественных собраниях, — но не ситуацию, в которой полностью исключены любые риски. Я считаю * См.: Etzioni, Amitai. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2008. 252 Меньше – значит больше… это обстоятельство очень важным: во-первых, потому что полное устранение риска не нужно для реализации большинства иных прав человека; во-вторых, потому что снижение риска до минимальных значений влечет за собой ущемление ряда прав, и в первую очередь права на частную жизнь; и в-третьих, потому что «безрисковое» общество попросту недостижимо. Ничего этого не следует пытаться достичь, если мы хотим всего лишь установить режим элементарной безопасности. Она была восстановлена в американских мегаполисах после массового насилия 1970-х годов, в Москве — после криминального разгула 1990-х и даже в некоторых иракских городах после принятых в 2005–2006 годах антитеррористических мер. Важнейшая причина, по которой я считаю обеспечение безопасности (в широком смысле понимаемой как отсутствие практики пыток, насилия или возможности масштабного голода) первоочередной задачей, — это то, что реализация всех остальных потребностей человека зависит от него, в то время как безопасность может быть обеспечена и вне данного контекста. Мертвецы не могут работать, воспитывать детей или голосовать на выборах; поэтому там, где не обеспечена безопасность, дезориентируются все прочие виды деятельности — но не наоборот (это, разумеется, относится к реальной угрозе жизни, а не к «политике навязанного страха»). Центральное значение безопасности определяется еще и тем, что, когда она обеспечена, возрастает общественная поддержка не связанных с проблемой безопасности прав — гражданских и политических, но не наоборот. Это противоречит предположению о том, что «смена режимов» (т. е. насильственная демократизация, включающая в себя создание институциональных рамок, гарантирующих гражданские и политические права) принципиально важна для превращения тех или иных стран в миролюбивых членов международного сообщества — иначе говоря, для обеспечения глобальной безопасности. Только демократии, считают сторонники вмешательства, не ведут войн с другими демократиями*. Однако последние события * Подробные аргументы в пользу тезиса о том, что демократии не воюют друг с другом, см.: Rummel, R. J. «Democracies Don’t Fight Democracies» in: Peace Magazine, No. 3, Vol. 15, May– June 1999, p. 10; Mintz, Alex and Geva, Nehemia. «Why Don’t Democracies Fight Each Other?» in: The Journal of Conflict Resolution, Vol. 37, No. 3, September 1993, pp. 484–503; Polachek, Solomon W. «Why Democracies Cooperate More and Fight Less: The Relationship Between International Trade and Cooperation» in: Review of International Economics, Vol. 5, Issue 3, December 2002, pp. 295–309. Cерьезные возражения против данного утверждения см.: Schwartz, Thomas and Skinner, Kiron K. «The Myth of Democratic Pacifism» in: Hoover Digest, No. 2, 1999, а также: Zakaria, Fareed. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York, London: W.W.Norton & Co., 2003 (рус. пер.: Закария, Фарид. Будущее свободы, перевод с англ. под редакцией и со вступ. ст. В. Л. Иноземцева, Москва: Логос, 2004) и Kaplan, Robert D. The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War, New York: Random House, 2000. 253 Амитаи Этциони показывают, что демократизация не гарантирует безопасности*, и крайне сложно привить народам демократию насильственными методами**. Выводы для политиков Применительно к внутристрановым проблемам проведенный анализ оставляет приоритет за политикой того типа, которая применялась в Нью-Йорке в годы, когда город захлестнули насильственные преступления. Она включала в себя мобилизацию различных местных сообществ, с тем чтобы они боролись с незначительными правонарушениями как с серьезными преступлениями (в лексиконе того времени даже появился термин «разбитое окно», введенный в 1982 году Джорджем Келлингом и Джеймсом Уилсоном)***. Хотя эта политика и подвергалась критике****, считается, что она принесла желаемые результаты: восстановила элементарный порядок и открыла путь продвижению иных гражданских прав*****. Что касается внешней политики, то нужно иметь в виду, что она проводится в отношении ситуаций, которые бывают отягощены запущенными проблемами, и поэтому ранжирование задач тут особенно важно. Я уже отмечал, что элементарная безопасность должна быть обеспечена до «демократизации» и утверждения остальных прав человека — что находится в прямом противоречии с гипотезой о смене режимов. Президент Б. Обама выразил эту позицию, заявив: «Те, кто держится у власти при помощи коррупции, обмана и подавления голосов несогласных, знайте, что история не на вашей стороне, но мы протянем вам руку, если вы готовы разжать кулак»******. * «Во многих регионах мира мы видим подтверждения того, что… такие "реформы", как внедрение "многопартийной демократии" на деле усугубляют, а иногда даже провоцируют этнические, религиозные или межплеменные различия, которые затем порождают конфликты» (Rengger, N. J. «Toward a Culture of Democracy? Democratic Theory and Democratization in Eastern and Central Europe» in: Pridham, Geoffrey, Herring, Eric and Sanford, George (eds). Building Democracy? The International Dimension of Democratization in Eastern Europe, London: Continuum, 1997, p. 63). ** Cм.: Etzioni, Amitai. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, р. 44. *** См.: Kelling, George and Wilson, James Q. «Broken Windows» in: Atlantic Monthly, March 1982; Kelling, George. Fixing Broken Windows, New York: The Free Press, 1996. **** См.: Harcourt, Bernard E. Illusion of Order: The False Promises of Broken Windows Policing, Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 2001. ***** См.: Chesluk, Benjamin. «Community Policing in New York City» in: Cultural Anthropology, Vol. 19, Issue 2, 2004, pp. 250–274. ****** Слова из инаугурационной речи Барака Обамы 20 января 2009 года (см.: http://www. whitehouse. gov/blog/inaugural-address); русский перевод приведен по тексту интервью Барака Обамы «Новой газете» (см.: Новая газета, № 71, 6 июля 2009 года) – Прим. перев. 254 Меньше – значит больше… Среди различных целей, связанных с проблемами безопасности, в свете приоритета безопасности человеческой жизни самое важное значение должно придаваться нераспространению оружия массового поражения. Это кажется очевидным, но на деле во многих случаях эта проблема отодвигалась на второй план; так, например, в отношениях с Россией вопросы демократизации и обеспечения прав человека годами затмевали применение Программы совместного сокращения рисков (Cooperative Threat Reduction Initiative), требующей большей безопасности при хранении ядерных и радиоактивных веществ*. Приоритет сохранения жизни требует максимальных усилий, направленных на то, чтобы положить конец геноциду, гражданским войнам, эпидемиям и массовому голоду. При этом принцип «приоритета жизни» нельзя считать основным нормативным принципом, регулирующим внешнюю политику той или иной страны или группы стран, если жизнями, заслуживающими защиты, считаются только жизни граждан этой страны или этих стран. Даже минимальная последовательность — а она необходима для того, чтобы считать решения этически выверенными, — требует одинакового уважения к любой жизни. Конечно, любые человеческие усилия не могут полностью свести на нет убийства, унижения, пытки и голод. Но совершенно очевидно, что массовые их случаи могут быть искоренены (тем, кто утверждает, что термин «массовый» в данном случае носит субъективный харатер, можно посоветовать обратиться к документам ООН, в которых выработаны четкое понятие геноцида и список критериев, по которым можно определить, имеет он место или нет)**. И наконец, принцип приоритета права на жизнь предполагает, что усилия по утверждению демократии и прав человека гражданами одной страны во благо тех, кто живет при иных режимах, должны ограничиваться ненасильственными методами, в первую очередь образовательными и информационными. Никакие военные интервенции не согласуются с приоритетом права на жизнь. Может возникнуть вопрос: означает ли это, что все организации, которые непосредственно не ставят своей главной целью обеспечение безопасности — например «Врачи без границ», должны пересмотреть свои ориентиры и как одна обратиться именно к данной проблеме? Возможно, в более совершенном мире большинство организаций, борющихся за общее благо, будет руководствоваться единым набором приоритетов. Но сейчас, когда у них разные источники * Cм.: Etzioni, Amitai. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, рр. 15–19. ** Ibid., р. 31. 255 Амитаи Этциони финансирования, структуры и уставные задачи, они не могут и не должны концентрироваться лишь на вопросах безопасности — хотя им следует четче ранжировать собственные приоритеты. К примеру, «Врачи без границ» могли бы сосредоточиться на спасении жизней, а не лечении эффекта «заячьей губы»; а гуманитарные организации, борющиеся с голодом — на поставках продовольствия особо нуждающимся, а не на производстве диетических добавок. Такая избирательность кажется бессердечной, но лишь до той поры, пока мы не осознаем, что наши ресурсы ограничены, и что, не расставив приоритеты, мы, по сути, предадим те принципы, которым вознамерились служить. Следующий шаг Но если элементарная безопасность установлена, что делать дальше? На мой взгляд, дифференцированное отношение к задачам должно сохраняться и тут, хотя возможности выбора — как на местном и национальном, так и на международном уровне — оказываются куда более широкими. В начале 1990-х годов американские интеллектуалы демонстрировали оптимистический триумфализм в связи с крахом коммунистического режима в СССР. Движение возглавлялось Фрэнсисом Фукуямой, провозглашавшим, что в недалеком будущем все народы достигут финальной стадии истории — демократического капитализма. По его мнению, они не просто естественным образом шли к этой цели, но и должны были стремиться достичь ее как можно скорее (отсюда и идея неоконсерваторов о том, что Америке следует протягивать руку — или давать пинка — тем, кто недостаточно решителен или сомневается). Однако за прошедшие годы мы узнали, что: во-первых, народы по-разному видят свои перспективы и пути их достижения (достаточно, например, сравнить траектории развития Китая и Индии); во-вторых, некоторые страны, поначалу двигавшиеся в направлении демократии американского типа, резко сменили курс (как Россия и ряд латиноамериканских государств); в-третьих, США и их союзники неспособны направить народы, особенно в исламском мире, в сторону демократии (если только не вкладывать в это понятие такой расплывчатый смысл, что оно становится совершенно пустым); и в-четвертых, пока те или иные государства не нападают на соседей, не поддерживают террористов, не распространяют оружие массового поражения и не осуществляют геноцид собственного народа — иначе говоря, пока они не посягают на право на жизнь собственных и чужих граждан, лучше предоставить им 256 Меньше – значит больше… самим разбираться в своих проблемах. Мы можем предлагать варианты развития, оказывать культурную, информационную и технологическую помощь, но только не пытаться военными методами изменить системы власти — будь то в Мьянме или Саудовской Аравии, в Венесуэле, на Кубе или в Ливии. В международной политике минимализм предполагает, что если элементарная безопасность обеспечена и утверждена — что имеет место, например, в странах—членах ЕС, — то можно экспериментировать со следующими «уровнями» сотрудничества и строить новые институты. Но и тут спешка и суета могут быть контрпродуктивными. Европейский Союз находится сейчас в тяжелой ситуации, так как его лидеры пытались одновременно и расширять его пределы, и углублять интеграцию — вплоть до введения мажоритарного голосования, что предполагает отказ от существенной части суверенитета стран-членов. Будущее покажет, удастся ли этот смелый проект по созданию целого уровня наднациональных институтов поверх существующих государственных; остальные региональные объединения куда менее впечатляющи. Все великие прожекты по организации «скачка» из известного нам состояния мира в должное ждет провал — и потому следует уделять больше внимания частным мерам, которые отражают новые подходы к международным отношениями и в совокупности могли бы вести к их постепенным изменениям. Некоторые из таких шагов имеют институциональный характер — развитие ВТО, реформирование МВФ и Всемирного банка (которым следует существенно измениться, чтобы в будущем успешнее справляться с финансовыми кризисами типа того, что потряс мир в 2008–2009 годах) и даже создание Международного уголовного суда. Иные воплощены в международных общественных организациях, возникших после 1990 года. Необходимо создавать сети взаимодействия между организациями, посвятившими свою деятельность одним и тем же задачам и целям. Следует повышать роль единого языка общения (каким в современном мире может быть только английский), выстраивать новые средства коммуникации, ломать барьеры, мешающие личному общению людей друг с другом. Каждое из таких направлений, быть может, и не имеет тех перспектив, о которых мечтают мегареформаторы, но все вместе они могут привести нас к новым горизонтам. И разумеется, крайне важно, чтобы эти движения и дела не отвлекали людей от главного и не ослабяли усилий по предотвращению массовых убийств, насилия, пыток, голода и болезней. 257 Амитаи Этциони Средства достижения целей В последние годы много внимания уделяется формированию сообществ государств или их региональных объединений, среди которых самым развитым является Европейский Союз. Некоторые эксперты задумываются, не подорвет ли этот процесс образование мирового сообщества — в частности, например, опасаясь того, что активизация торговли в рамках отдельных регионов понизит приверженность свободе торговли в целом*. Возникает также ощущение, что регионы хотят быть более самодостаточными: так, в 2003 году, в период противостояния Германии и Франции Соединенным Штатам, европейские власти делали множество заявлений о желательности создания собственных вооруженных сил для преодоления зависимости от Америки. Однако такие ощущения — скорее исключения из правила. Они практически исчезли после избрания Барака Обамы и учреждения в ЕС постов постоянного президента и представителя по внешней политике. Нет оснований сомневаться в том, что регионы могут сосуществовать столь же цивилизованно, как и отдельные государства. Хотя расширение ЕС и вызвало частные противоречия в отношениях с членами НАФТА, оно ничем не осложнило взаимодействие европейских стран с остальными международными организациями. То же самое можно сказать о МЕРКОСУР или АСЕАН. Скорее даже наоборот — большинству государств удобнее иметь дело с одним европейским представителем, чем с 27 различными правительствами. Характер, с которым Соединенные Штаты, Россия и Китай относятся к региональным объединениям в целом и к Европейскому Союзу в частности, отражает их представление о желаемой ими глобальной архитектуре. Если они намерены сохранять сферы влияния, оставляя прочих игроков возможно более слабыми, вполне естественно проводить политику «разделяй и властвуй», которую осуществляло большинство имперских держав. Однако, если эти государства достаточно дальновидны, чтобы способствовать формированию глобального сообщества, осознавая, что в обозримом будущем они не смогут указывать путь более чем 200 странам, им бы следовало всячески приветствовать тенденции к образованию региональных блоков. Множество проблем — от борьбы с терроризмом до предотвращения геноцида — легче решать, работая с несколькими региональными организациями, чем с бессчетным числом государств. Региональные организации делают куда более простым «пережевывание» глобальных проблем, и после этого международному сообществу становится легче их «проглотить». * См., например: «Responsible Regionalism» in: The Economist, December 22, 2000, p. 19. 258 Меньше – значит больше… Мир, организованный в виде десятка регионов, сулит очевидные выгоды. Для того чтобы осознать основную, вспомним известную истину: для успешного общения с большой массой людей бывает полезно разделить ее на группы. Делая так, мы позволяем каждой группе достичь внутреннего согласия и выдвинуть представителя на более высокий уровень, где может быть найден консенсус среди таких же представителей. Сложно предположить, чтобы глобальное сообщество выросло из связывания воедино более 200 государств. Даже после многих лет сложных переговоров такое количество стран способно достичь лишь наиболее общих, плохо прописанных и тяжело поддающихся воплощению на практике соглашений. Но если они сначала создадут некоторое число региональных объединений — Соединенные Штаты (или Государства) Европы, Союз Юго-Восточной Азии и т. д., — для таких региональных сообществ будет легче проводить согласованную политику, что сделает возможным формирование глобального сообщества сообществ. В конце концов феномен Европейского Союза основан на сближении двух ранее существовавших региональных объединений (включавших в себя соответственно шесть и семь государств). Организация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также возникла на базе государств, объединенных историческими связями, и позже приняла в свои ряды еще три страны*. В Латинской Америке МЕРКОСУР продвигает экономическое сотрудничество, как и ЭКОВАС в Западной Африке; всем этим организациям, однако, еще далеко до ЕС. Элементы подобной двухуровневой консолидации уже имеют место и во Всемирном банке. По многим вопросам вместо заслушивания 200 представителей проводится диалог между представителями отдельных групп государств. В руководстве банка некоторые страны имеют собственных директоров, но многие представляют регионы — например Ближний Восток или Центральную Африку. В результате директоров оказывается 24, а не 200**. Если принять подход к созиданию глобального сообщества из региональных «строительных блоков», можно представить формирование дополнительного регионального уровня, одним из элементов которого могло бы стать объединение бывших советских республик. Таким образом, путь к глобальной политии мог бы оказаться значительно более простым. * В октябре 2003 года члены АСЕАН подписали Соглашение Бали-II, целью которого является превратить организацию в «экономическое сообщество европейского образца менее чем за два десятилетия» (см.: «South-East Asian Leaders Sign Landmark Accord» in: Associated Press, October 7, 2003, Lexis/Nexis). ** См. список исполнительных директоров МБРР, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и Международной ассоциации развития по состоянию на 1 февраля 2003 года (http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/b-eds.pdf, сайт посещен 20 марта 2003 года). 259 Амитаи Этциони Возможно ли глобальное гражданское общество? Некоторые исследователи полагают, что важнейшими «кирпичиками» новой глобальной архитектуры могут стать негосударственные акторы, и прежде всего международные неправительственные организации, транснациональные неформальные сети и социальные движения*. Утверждается, что такие группы обеспечивают «управление без правительства» — т. е. осуществляют функции, обычно реализуемые властями, но используя для этого иные организационные формы, в основном добровольные ассоциации**. Понятием «глобальное гражданское общество» порой обозначается растущая социальная ткань, формируемая данными сообществами, а также пронизывающие ее транснациональные нормы — в противоположность глобальному государству или мировому правительству, которое опиралось бы на законы***. В особых случаях фраза «управление без правительства» ассоциируется со старой мечтой об устранении всех государств и замене их коммунитарными структурами и связями. Однако в большинстве случаев, когда управление требует участия как организаций глобального гражданского общества, так и правительств, негосударственные акторы могут выполнять важные функции, но не способны заменить собой Старый порядок****. Значительный всплеск оптимизма в отношении негосударственных акторов***** заставляет спросить: в какой мере они реально участвуют в управлении? Пытаясь ответить на этот вопрос, я фокусируюсь на транснациональных коммунитарных структурах — группах, связанных общим пониманием ситуации и устойчивыми связями между лидерами, работниками и значительным числом членов, раз* Дискуссию о природе международных неправительственных организаций см.: Josselin, Daphne and Wallace, William. «Non-state Actors in World Politics: A Framework» in: Josselin, Daphne and Wallace, William (eds). Non-State Actors in World Politics, New York: Palgrave, 2001, pp. 1–20; Josselin, Daphne and Wallace, William. «Non-state Actors in World Politics: The Lessons» in: ibid., pp. 251–260. ** См., в частности: Rosenau, James N. and Czempiel, Ernst-Otto (eds). Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992; Young, Oran R. Governance in World Affairs, Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1999; Weiss, Thomas G. and Gordenker, Leon (eds). NGOs, the UN, and Global Governance, Boulder (Co.): Lynne Rienner Publishers, 1996. *** См.: Keane, John. Global Civil Society? Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003, а также: Anheier, Helmut; Glasius, Marlies and Kaldor, Mary (eds). Global Civil Society 2001, Oxford: Oxford Univ. Press, 2001. **** Иногда управление определяется так, что, по сути, включает в себя лишь деятельность правительства (см., например: Reinicke, Wolfgang. Global Public Policy: Governing without Government? Washington (DC): Brookings Institution Press, 1998, p. 4). ***** См.: Halliday, Fred. «The Romance of Non-state Actors» in: Josselin, Daphne and Wallace, William (eds). Non-State Actors in World Politics, pp. 21–37. 260 Меньше – значит больше… деленных национальными границами. Это группы, имеющие некоторые атрибуты реальных или хотя бы воображаемых сообществ. И хотя я не хочу вдаваться в терминологические дефиниции, некое специальное понятие, отделяющее эти организации (к числу которых относятся международные негосударственные организации, транснациональные сети и социальные движения) от узких международных лоббистских групп, транснациональных корпораций и торговых ассоциаций, представляется весьма желательным. Со времени окончания «холодной войны» число таких транснациональных коммунитарных структур радикально увеличилось. Они оказались весьма эффективны в формировании международных повесток дня; в мобилизации общественного мнения в целом и фокусных групп в частности; в лоббистской деятельности в отношении правительств и международных организаций, направленной на повышение собственной значимости; а также в качестве активных противовесов международным корпорациям*. Кроме того, такие структуры играют ключевую роль в развитии транснациональных ценностей и норм посредством организации диалогов поверх национальных границ. Эти нормы помогают глобальному нормативному синтезу и закладывают общие для всех нравственные основы (используемые, например, в борьбе с детской порнографией). Эффект от их деятельности заметен в сферах, связанных с защитой окружающей среды (в частности, в давлении на США и Китай с целью заставить их власти озаботиться проблемой глобального потепления), борьбой за запрещение противопехотных мин или продвижением прав женщин. В некоторых областях работа транснациональных коммунитарных структур так хорошо известна, что достаточно перечислить их названия и все станет понятно. Кто не знает «Международную амнистию», «Друзей Земли», Гринпис или Международный Красный Крест? Транснациональные коммунитарные структуры способны решать некоторые проблемы без посторонней помощи, или серьезно способствовать их разрешению. Так, например, в случае стихийных бедствий международные неправительственные организации — такие, как CARE International и Международный Красный Крест — помогают пострадавшим и членам их семей. «Врачи без границ» имеют 2500 добровольцев, которые помогают попавшим в беду людям более чем в 80 странах. Habitat for Humanity построила в мире свыше 150 тысяч домов для нуждающихся в жилье. * См.: Reinicke, Wolfgang and Deng, Francis. Critical Choices: The United Nations, Networks, and the Future of Global Governance, Ottawa: International Development Research Centre, 2000, p. 27. 261 Амитаи Этциони Транснациональные коммунитарные структуры — эффективное средство созидания общностей. Порождая миллионы межличностных связей, формируя не принимающую в расчет государственные границы лояльность структурам, по сути являющимся региональными или глобальными, и провоцируя появление идей, поощряющих ограничение суверенитета ради продвижения глобальных повесток дня, они вносят важный вклад в дело создания глобального сообщества. Шаг за шагом интеллектуалы, эксперты, политические активисты и лидеры разного рода движений создают неформальные международные сети взаимодействия. Они общаются на конференциях, читают друг друга в интернете, обмениваются электронными письмами и общаются в чатах. Простота и доступность современных средств коммуникации позволяют им стать намного богаче, чем они были бы, оставаясь прочно скрытыми за своими государственными границами. Таким образом, ответ на вопрос, способны ли транснациональные коммунитарные структуры помочь разрешению накопившихся сверх всякой меры международных проблем, выглядит определенно положительным. Но возникает и другой: какую часть этих проблем они могут взять на себя и насколько самостоятельны они в своих действиях? Внутри отдельных стран институты гражданского общества играют важную роль в защите граждан от излишнего вмешательства государства в их частную жизнь, не позволяя власти «перехватывать» функции местных сообществ, добровольных организаций или семьи. В результате гражданское общество, важным элементом которого выступают коммунитарные структуры, зачастую воспринимается как противовес потенциально всевластному государству. Куда меньше внимания уделяется тому, что получает гражданское общество от государства. Прежде всего, государство создает условия его нормального функционирования, предотвращая межгрупповое и индивидуальное насилие. Гражданское общество полагается на государство и в случаях, когда недостаточность неформальных норм требует жесткого насаждения законности. И даже если государство порой не зовут на помощь, осознание того, что оно всегда может ее оказать, укрепляет позиции гражданского общества. Однако, учитывая ужасы авторитаризма и тоталитаризма прошлых веков, основное внимание все же сосредоточивается именно на том, как защитить общество от государства, а не на том, как государство формирует гражданское общество. В условиях, когда в последние годы фокус смещается в сторону дебатов о транснациональном гражданском обществе, нужно посто- 262 Меньше – значит больше… янно иметь в виду меру, в какой национальные гражданские общества находят поддержку в своих государствах. Это дает основание полагать, что имеются существенные ограничения того, в какой степени глобальное гражданское общество может сформироваться без хотя бы некоторых элементов глобальной государственности. Хотя транснациональные коммунитарные структуры могут помочь и помогают решению ряда международных проблем, они нередко опираются на поддержку своих национальных правительств, которая во многом определяет лимиты их возможностей. Часто объектами влияния этих структур являются правительства отдельных стран или международные организации. И наконец, в большинстве случаев эффективность деятельности транснациональных коммунитарных структур определяется возможностями и дееспособностью тех государств, на которые они оказывают давление. Так, структуры, занимающиеся защитой окружающей среды, акцентируют внимание на том, что должны и чего не должны делать государства (например, вводить новые ограничения и не нарушать прежние) — но не на том, как следует поступать гражданам (к примеру, сортировать выбрасываемый мусор). Они настаивают на ограничениях в использовании автомашин или финансировании властями программ производства дешевых велосипедов, а не организуют кампании по пропаганде ходьбы пешком. Другие добровольные ассоциации призывают списывать долги бедных стран и наращивать объемы помощи по программам развития — но разве этим они не пытаются взвалить дополнительную нагрузку на и так уже трещащую по швам систему государств — вместо того чтобы выстраивать качественно новую глобальную архитектуру? То же самое относится и к организациям, цель которых — изменять сложившиеся в обществе нормы поведения (в чем они могут быть весьма успешны). Обновление таких норм крайне важно для формирования глобального гражданского общества — однако и данный процесс идет куда активнее, если он институционализируется через соответствующие законы и судебные решения, а также действия правительств. Именно такая институционализация на национальном уровне стала залогом успеха многих экологических движений, а также борцов за соблюдение гражданских прав. Однако, так как не существует наднациональных институтов, которые могли бы принимать действующие во всем мире законы и правила, деятельность подобных неправительственных организаций на глобальном уровне нередко оказывается намного менее эффективной. Ничто из сказанного не умаляет значения социального 263 Амитаи Этциони действия и борьбы за установление глобальных норм и принципов — но в той же степени, в какой общественные организации внутри отдельных стран не смогут достичь успеха, если государства не будут выполнять свою часть работы, возможности глобального гражданского общества останутся небольшими, если не будут созданы новые институты глобального управления. Свидетельство тому — масштаб не привлекающих внимания и нерешаемых проблем общемирового значения. Если считать спасение хотя бы одного ребенка от голода или насилия задачей неоценимой важности, а излечение хотя бы одного человека в забытом Богом уголке Земли — благим делом, нельзя не восхищаться тем, что делают CARE или «Врачи без границ». Но если оценивать масштаб предоставляемых этими организациями услуг, окажется, что он был бы весьма ограниченным без финансовой, транспортной или коммуникационной поддержки, оказываемой им государствами, — и тем более если бы власти не обеспечивали их безопасность и не создавали правовых условий для их деятельности. Степень успешности, разумеется, может различаться в зависимости от ставящихся задач; однако глобальное гражданское общество не может обеспечить управления без правительства. Повторю: я не пытаюсь принизить роль деятельности международных неправительственных организаций, сетей и общественных инициатив. Спасение человеческих жизней — пусть и в количестве, лишь подчеркивающем число тех, кому не удастся дождаться помощи, — благородное и достойное дело. Но, воздавая должное подвижникам, не следует забывать, сколько проблем так и не привлекают к себе внимания, и сколько людей остаются без поддержки. И вопрос о том, как подступиться ко всему этому, не теряет своей актуальности. Обществоведы часто повторяют, что не нужно отталкиваться от нужд, и что потребности сами по себе не генерируют средств их удовлетворения. Поэтому все, что я могу, — это подчеркнуть, что если мы хотим сделать мир более безопасным и, как следствие, более восприимчивым и к прочим человеческим нуждам, то необходим определенный вид правительства, та или иная форма глобальной власти. Не следует надеяться, что проблемы решат отдельные национальные государства, региональные организации или трансграничные коммунитарные структуры. Но это — задача будущего дня, а скорее всего — даже будущих поколений. Перевод В. Иноземцева 264 Меньше – значит больше… Источники Anheier, Helmut; Glasius, Marlies and Kaldor, Mary (eds). Global Civil Society 2001, Oxford: Oxford Univ. Press, 2001. Chesluk, Benjamin. «Community Policing in New York City» in: Cultural Anthropology, Vol. 19, Issue 2, 2004. Etzioni, Amitai. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2008. Halliday, Fred. «The Romance of Non-state Actors» in: Josselin, Daphne and Wallace, William (eds). Non-State Actors in World Politics, New York: Palgrave, 2001. Harcourt, Bernard E. Illusion of Order: The False Promises of Broken Windows Policing, Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 2001. Josselin, Daphne and Wallace, William. «Non-state Actors in World Politics: A Framework» in: Josselin, Daphne and Wallace, William (eds). Non-State Actors in World Politics, New York: Palgrave, 2001. Josselin, Daphne and Wallace, William. «Non-state Actors in World Politics: The Lessons» in: Josselin, Daphne and Wallace, William (eds). NonState Actors in World Politics, New York: Palgrave, 2001. Kaplan, Robert D. The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War, New York: Random House, 2000. Keane, John. Global Civil Society? Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. Kelling, George. Fixing Broken Windows, New York: The Free Press, 1996. Kelling, George and Wilson, James Q. «Broken Windows» in: Atlantic Monthly, March 1982. Mintz, Alex and Geva, Nehemia. «Why Don’t Democracies Fight Each Other?» in: The Journal of Conflict Resolution, Vol. 37, No. 3, September 1993. Polachek, Solomon W. «Why Democracies Cooperate More and Fight Less: The Relationship Between International Trade and Cooperation» in: Review of International Economics, Vol. 5, Issue 3, December 2002. Pridham, Geoffrey; Herring, Eric and Sanford, George (eds). Building Democracy? The International Dimension of Democratization in Eastern Europe, London: Continuum, 1997 Reinicke, Wolfgang. Global Public Policy: Governing without Government? Washington (DC): Brookings Institution Press, 1998. Reinicke, Wolfgang and Deng, Francis. Critical Choices: The United Nations, Networks, and the Future of Global Governance, Ottawa: International Development Research Centre, 2000. 265 Амитаи Этциони Rengger, N. J. «Toward a Culture of Democracy? Democratic Theory and Democratization in Eastern and Central Europe» in: Pridham, Geoffrey; Herring, Eric and Sanford, George (eds). Building Democracy? The International Dimension of Democratization in Eastern Europe, London: Continuum, 1997. «Responsible Regionalism» in: The Economist, 2000, December 22. Rosenau, James N. and Czempiel, Ernst-Otto (eds). Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. Rummel, R. J. «Democracies Don’t Fight Democracies» in: Peace Magazine, Vol. 15, No. 3, May–June 1999. Schwartz, Thomas and Skinner, Kiron K. «The Myth of Democratic Pacifism» in: Hoover Digest, No. 2, 1999. Weiss, Thomas G. and Gordenker, Leon (eds). NGOs, the UN, and Global Governance, Boulder (Co.): Lynne Rienner Publishers, 1996. Young, Oran R. Governance in World Affairs, Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1999. Закария, Фарид. Будущее свободы, Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В. Л.Иноземцева, Москва: Логос, 2004. 266 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века Даниэле Аркибуджи, Директор Национального исследовательского совета Италии, профессор Бирбек-колледжа Лондонского университета (Италия) Вплоть до недавнего времени сама мысль о том, что демократия может быть распространена за пределы национального государства, считалась абсурдной. Специалисты в области политических наук немедленно заметили бы, что демократические практики могут выжить и утвердиться только в рамках государственных границ. Возможность становления какой бы то ни было формы постнациональной демократии или наделения международных организаций демократическими ценностями быстро отвергалась как утопическая, а ее приверженцев воспринимали как мечтателей*. Сегодня определенностей куда меньше. Разумеется, далеко не каждый уверен, что идея демократии что-то значит за пределами «сферы ответственности» государства, но по крайней мере появилось пространство для дискуссий. В университетах все большее распространение получают курсы по постнациональной, транснациональной, глобальной или космополитической демократии. Эта тема часто обсуждается в научных кругах, а число посвященных ей статей и книг растет экспоненциально. И, наконец, что немаловажно, серьезный вклад вно* См., напр.: Dahl, Robert. «Can International Organizations be Democratic? A Skeptical View» in: Shapiro, Ian and Hacker-Cord n, Casiano (eds). Democracy’s Edges, New York: Cambridgе Univ. Press, 1999; Dahrendorf, Ralf. Dopo la democrazia, Roma, Bari: Laterza, 2001. 267 Даниэле Аркибуджи сится молодыми исследователями, и уже одно это указывает на то, что по крайней мере в академических кругах ситуация меняется*. Однако признание в научном сообществе и развертывание широкой дискуссии отнюдь не являются конечной целью дискурса о глобальной демократии. Его амбиции куда более масштабны: они состоят в привнесении перемен в международную политику. Очевидным примером того, где обсуждение вопросов глобальной демократии имеет вполне практичный характер, является Европейский Союз — по состоянию на сегодня результат самой сложной в истории попытки применить некоторые ценности и нормы демократии к отношениям между государствами и внутри сообщества государств. Однако это не единственное направление исследований: полезность мыслить и действовать демократично часто обсуждается в контексте реформы Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Неправительственные организации, профсоюзы, политические партии, да и общественное мнение — все они все активнее высказываются за желательность обсуждения глобальных проблем — таких, как соблюдение прав человека, миграция, торговые и финансовые правила, загрязнение окружающей среды, с использованием демократического инструментария. Те, кто призывает к глобальной демократии, отнюдь не обязательно желают ограничить функции государства. Все мы согласны с тем, что государства останутся наиболее мощными и адекватными игроками не только во внутренней, но и в международной политике. До сих пор попытки передать часть функций и полномочий государства другим институтам не были особенно впечатляющими. В то же время даже самые скептические наблюдатели не могут не признавать сегодня, что эпоха, на протяжении которой государства служили единственным воплощением легитимности, подошла к концу. В наши дни принятие решений в международной политике проходит под пристальным наблюдением негосударственных структур, которые исповедуют ценности, не совместимые с принципами силовой политики: легитимность, подотчетность, прозрачность, участие и вовлеченность — все они являются ключевыми элементами традиционной демократической теории. Самые разные межправительственные и неправительственные организации — такие как ООН и Международная амнистия, ВТО и Ротари-клуб, Европейский парламент и Всемирный социальный форум, — все они вносят свой вклад в глобальное управление и оценивают поведение государств**. * Дискуссия о глобальной демократии описана в моей книге, см.: Archibugi, Daniele. The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2008. ** См.: Koenig-Archibugi, Mathias. «Mapping Global Governance» in: Held, David and McGrew, Tony (eds). Governing Globalisation, Cambridge: Polity Press, 2002. 268 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века Всем должно быть ясно, что никакая форма демократии на постнациональном уровне не может и не должна быть копией любой из форм демократии, которые мы знали на уровне национальном. Во-первых, они не могут быть схожими по причине различия масштабов. Во-вторых, потому что проблемы, стоящие на кону на наднациональном уровне, требуют инновационных форм управления. Формирование демократических практик в новом, глобальном измерении нуждается прежде всего в усилиях воображения. Сможет ли демократия успешно совершить требуемую трансформацию? Это был бы уже не первый исторический пример того, как демократии требовалось измениться и воспринять импульс к развитию, с тем чтобы продолжать вдохновлять политиков и политику. На протяжении веков термин «демократия» обозначал процесс принятия решений людьми, специально для этого собиравшимися в определенном месте — то, что мы называем сейчас прямой демократией. Но в конце XVIII столетия Французская, а в еще большей степени Американская революции смогли адаптировать демократию к географически более крупным и политически более комплексным сообществам, дав ей новую жизнь как представительной демократии. Показательно, но политический лексикон того времени отражает неопределенность относительно того, может ли одно и то же понятие применяться для обозначения как античной «прямой», так и современной «представительной» демократии. Авторы знаменитого «Федералиста», в частности, не использовали слово «демократия» в описании той политической системы, адептами которой они выступали, подчеркивая, что «в демократии люди встречаются и принимают управленческие решения лично; в республике они собираются и осуществляют свою власть через представителей и агентов»*. Однако в дальнейшем слово «демократия» было сохранено, что хорошо, поскольку, несмотря на все детали и различия, ключевые ценности ненасилия в общественной жизни, общественного контроля за принимаемыми решениями и теми, кто их принимает, и политического равенства граждан — все это протягивает связующую нить между античными и современными демократиями и делает их похожими. Подобная же перемена необходима и сегодня, чтобы приспособить демократию к новой глобальной эпохе и придать ей новое измерение. Возможно ли это? В принципе, современная среда обеспечивает немыслимо благоприятные условия для такого амбициозного предприятия. С одной стороны, процессы экономической, социальной и культурной глобализации породили более тесные межгосударственные взаимодействия, что существенно упрощает демонстрацию более эффективных 4 См.: Hamilton, Alexander; Madison, James and Jay, John. The Federalist, Chicago: Encyclopaedia Britannica, No. 14, 1955. 269 Даниэле Аркибуджи практик управления и их последующее перенятие. С другой стороны, демократия очевидно выглядит более успешной политической системой. Со времени падения Берлинской стены демократические режимы распространились как на Востоке, так и на Юге. Впервые в истории избранные народами правительства управляют делами большей части населения мира; и хотя далеко не все эти режимы выказывают должное уважение к базовым правам человека, повсеместно заметно давление на них с целью обеспечения большей представительности, подотчетности и законности. Демократия стала единственным источником легитимной власти. И дело не только в том, что демократические страны стали более многочисленными, чем автократии; устойчивые демократии являются также самыми сильными и влиятельными государствами мира. Эпоха, в которую демократиям приходилось бороться за свое выживание — как то было в 1930-е и 1950-е годы, закончилась. После завершения «холодной войны» ничто не может быть противопоставлено демократии как основной легитимной форме власти. Число демократических государств существенно увеличилось за последние двадцать лет — это хорошая новость и для глобальной демократии. Но если обратиться к существенным моментам, сложно выделить области, в которых эти хорошие новости воплотились в содержательные результаты. Войны остаются средством разрешения межгосударственных противоречий, многие экологические проблемы не привлекают должного внимания, а глобальное социоэкономическое неравенство продолжает нарастать, в то время как объемы помощи развитого мира развивающимся странам — снижаться. Столь же безрадостная картина открывается нам, если взглянуть на институты глобального управления. Реформа Организации Объединенных Наций продолжает обсуждаться, но не преломляется в каких-либо конкретных шагах; а надежды на изменения в принципах функционирования Международного валютного фонда и Всемирного банка, казавшиеся основательными после финансового кризиса 2008 года, тают на глазах. Наиболее значимыми инструментами координации усилий в рамках глобального управления продолжают оставаться саммиты «большой восьмерки» и «большой двадцатки» — форумы, не имеющие своего устава и правил, да и к тому же совершенно непрозрачные, что делает их даже менее демократичными, чем ООН. В то же время нельзя не видеть, что уже более десяти лет прошло с момента создания принципиально нового международного института — Международного уголовного суда, а число подписантов его Статута превзошло самые оптимистические прогнозы. Число и масштабы региональных организаций также существенно выросли. Однако все эти обнадеживающие сигналы можно считать лишь отчасти удовлетворяющими тех, кто помнит надежды и осознает возможности, открывавшиеся с окончанием «холодной войны». 270 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века Если обратить внимание на внешнюю политику демократий, то оснований для оптимизма здесь еще меньше. Демократические государства продолжают оставаться агрессивными, самолюбивыми и готовыми защищать свои интересы всеми имеющимися средствами. Короче говоря, как до, так и после «холодной войны» позиции «реалистической» школы, согласно которым во внешней политике демократических стран и автократий не наблюдается различий, подтверждаются практикой. Исследователи международных отношений в данной ситуации сосредоточились на гипотезе о том, будто демократические государства имеют меньшую склонность воевать друг против друга. Это призвано доказать, что хотя бы в одном — в готовности к развязыванию войн — демократии хоть сколько-нибудь отличаются от автократий*. Однако, даже если принимать такое предположение за данность, из этого не следует, что демократические государства готовы учитывать предпочтения и нужды членов других политических сообществ так же, как они относятся к предпочтениям и нуждам собственных граждан. Более того, существует угроза, что демократическое государство ощущает себя уполномоченным применять методы принуждения с целью распространить установившуюся в нем форму правления за пределы собственных границ**. Подобная внешняя политика, преобладавшая в период пребывания у власти администрации Джорджа Буша-мл. и приведшая к неудачным вторжениям в Афганистан и Ирак, разумеется, пренебрегает одним из главных аспектов демократии — а именно тем, что этот политический режим строится снизу вверх, а не навязывается сверху. Несмотря на упущенные возможности последних лет и осознание сторонниками глобальной демократии того, что демократические страны выставили себя в крайне невыгодном свете на международной арене, можно предположить, что подобный шизофренический разрыв между принципами внутренней и внешней политики не может сохраняться вечно. На глобализированной планете демократия во внутренней политике постоянно подвергается разнообразным воздействиям со стороны процессов и явлений, происходящих в других частях света***. И если вопрос вовлечения в демократические по своей сути отношения с другими народами не будет подниматься, либеральные государства начнут сталкиваться с растущими проблемами внутренней легитимации. Правительствам будет все труднее требовать от своих граждан уважать закон и участвовать в политической жизни, если они сами не следуют соответствующим принципам на международной арене. * См.: Russett, Bruce. Grasping the Democratic Peace, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1993. ** См.: Urbinati, Nadia. I confini della democrazia, Romа: Donzelli, 2007; а также: Archibugi, Daniele. The Global Commonwealth of Citizens, ch. 8. *** См.: Held, David. Democracy and the Global Order, Cambridge: Polity Press, 1995. 271 Даниэле Аркибуджи Уровни демократической управляемости Зарождение представлений о глобальной демократии и выступления в ее поддержку обладают важным значением и для других форм демократического управления. Взаимодействия между самыми отдаленными частями мира ныне трансформируют любые демократические практики — и если вызов глобальной демократии будет принят, это повлияет на то, как они будут организованы на местном, национальном и региональном уровнях. Местный уровень Местные сообщества часто действуют и на глобальном уровне: так как государства редко передают некоторые вопросы в ведение локальных институтов, тем приходится порой действовать вне приписанных им юрисдикций — и как результат все больше организаций, государственных и неправительственных, создаются и действуют, с тем чтобы объединять сообщества, не обязательно находящиеся в пределах одного государства. Государственный уровень Демократические государства могут одновременно выступать и как лаборатории, и как агенты продвижения идей космополитизма. Например, в наши дни от властей все чаще требуют признавать права индивидов — таких, как беженцы или иммигранты, которые традиционно были их лишены. Все чаще такие демократические государства сталкиваются с вопросом: кого признавать гражданами? Тех, кто родился в соответствующем демократическом сообществе? Тех, кто живет в нем, соблюдает законы и платит налоги? Или всех, кто просто пожелает быть его членом? Каждое государство уже сейчас может выступать проводником космополитизма, предоставляя отдельные права людям, прибывающим из-за его пределов. Лакмусовая бумажка космополитизма — отношение того или иного общества к иммигрантам. И уже заметно, что некоторые страны принимают их все лояльнее и готовы предоставлять им ряд прав, а то и давать гражданство*. Межгосударственный уровень Существование межправительственных организаций — таких, как Организация Объединенных Наций или Европейский Союз служит выражением желания государств распространять и на международный уровень некоторые демократические принципы — такие, как формальное равенство между участниками, подотчетность централь* См.: Benhabib, Seyla. Another Cosmopolitanism, Oxford: Oxford Univ. Press, 2006. 272 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века ным органам и следование законам и правилам. В то же время, как подчеркивает, например, Роберт Даль, на этом пути заметны трудности*. Являются ли межправительственные организации демократическими институтами? И если нет, смогут ли они когда-нибудь ими стать? Большинство таких организаций основывается на формальном равенстве стран-участниц; это, в свою очередь, гарантирует каждому государству один голос независимо от численности его населения, вклада в глобальную экономику, политической и военной мощи и даже от его вовлеченности в принятие того или иного решения. Как следствие — в Генеральной Ассамблее ООН множество мелких стран, совокупное население которых не превышает 5% населения планеты, обладают большинством голосов. Однако не выглядит справедливым и предоставление формального права принимать в Генеральной Ассамблее все решения шести государствам — Китаю, Индии, Соединенным Штатам, Индонезии, Бразилии и России — лишь на том основании, что они представляют более половины всех жителей Земли. Практика межправительственных организаций — типичный пример, показывающий, что для гарантирования справедливого демократического процесса требуется переосмысление принципа большинства. Региональный уровень Во многих случаях управление может быть наиболее успешным, если оно осуществляется на региональном уровне. Самым показательным историческим примером является Европа, где медленно, но поступательно формируется политическая система, которая способна не только упрочивать саму себя, но и повышать уровень демократии во входящих в нее государствах. Европейский Союз отличается от всех остальных региональных организаций наличием избираемого прямым голосованием парламента и своим успешным расширением с первоначальных 6 до нынешних 27 членов. Однако даже в рамках региона, все страны которого являются устойчивыми демократиями, не слишкомто легко преодолеть демократический дефицит. Население государствучастников может иметь представления о будущем, сильно отличающиеся от взглядов политических элит, которые до сего дня являются движителями политической интеграции Старого Света. Недавние референдумы в Нидерландах, Франции и Ирландии со всей очевидностью показали, что демос вовсе не обязательно поддерживает интеграционные процессы, — но даже эти плебисциты не остановили европейскую интеграцию. В других частях планеты региональные организации также умножаются числом и обретают все новые функции, акцентируя внимание прежде всего на торговых соглашениях, — однако нам еще предстоит увидеть, смогут ли они (а если да, то когда и как) превра* См.: Dahl, Robert. «Can International Organizations be Democratic? A Skeptical View». 273 Даниэле Аркибуджи титься в политические сообщества через создание прозрачных и подотчетных гражданам представительных институтов. Глобальный уровень В течение последнего десятилетия голос неправительственных организаций становится все более слышимым на различных саммитах, устраиваемых Организацией Объединенных Наций, а также встречах МВФ и ВТО; на этом фоне множатся требования, чтобы межправительственные структуры стали более внимательны к глобальному общественному мнению или даже были бы ему подотчетны. По сей день неправительственные организации не вовлечены в процессы принятия решений на международной арене, и их функции сводятся лишь к продвижению той или иной позиции. Однако новый «уровень» управления, выходящий из-под контроля государственных органов, все равно постепенно появляется на свет. ООН и другие международные организации, несмотря на их межправительственный характер, уже открывают двери негосударственным акторам, представляющим еще только зарождающееся всемирное гражданское общество, — и если эти первые семена демократии на глобальном уровне будут высажены, они скорее всего дадут буйные всходы. Взаимоотношения между уровнями управления По мере умножения как уровней, так и институтов управления возникает вопрос: как могут разделяться между ними различные функции и полномочия? Не спровоцирует ли существование различных институтов с пересекающимися компетенциями новые конфликты и противоречия? И тут на передний план выходит концепт суверенитета — важнейшая основа международного правового порядка. Предположение о том, что политический субъект может быть освобожден от ответственности за свои действия, несовместимо с самой сутью демократии. Любой политический актор, будь он тираном или «суверенным» народом, должен идти на уступки другим, если их компетенции и интересы пересекаются. Суверенитет скорее всего должен будет переродиться в конституционализм. Конфликты, возникающие по поводу пересекающихся юрисдикций и умножения уровней управляемости, могут разрешаться только в рамках глобального конституционализма с апелляцией к юридическим органам, которые в свою очередь должны действовать в рамках конституционного мандата. Пути установления глобальной демократии Но как можно перейти от миропорядка, в котором доминируют демократические национальные государства, к демократическому 274 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века миропорядку? Уже сегодня можно наблюдать ряд акций и политических шагов, которые вносят свой вклад в достижение этой цели. Отметим несколько ключевых аспектов. За демократичную внешнюю политику Прежде всего должны быть пересмотрены приоритеты внешней политики ряда государств. Демократические страны должны ставить целью превратиться в достойных членов международного сообщества, даже если это будет идти вразрез с их сиюминутными интересами. Президент Барак Обама заявил, что его страна нуждается в том, чтобы нажать кнопку «перезагрузка» в своей внешней политике, и эта метафора может быть использована применительно к поведению на международной арене всех демократий. К примеру, устойчивые демократии должны поддерживать те зарубежные правительства и политические партии, которые намерены укреплять демократию в своих странах, а не те, действия которых могут быть выгодны им в данной конкретной ситуации. Приход к власти президента Барака Обамы породил ожидания радикальных перемен во внешней политике Соединенных Штатов Америки, равно как и надежды на сближение всех устойчивых демократий. Это, однако, не означает, что демократическим государствам следует создавать новые коалиции, исключая из них деспотические режимы, как то предусматривалось, например, проектом организации Лиги демократий. Подобная Лига стала бы очередной межправительственной организацией, не требующей участия граждан. В куда большей степени духу демократизма отвечало бы создание институтов, представляющих граждан различных стран мира, нежели их правительства. К совершенствованию международных организаций Следующим направлением действий могло бы стать участие демократических стран в пересмотре функций и роли межправительственных организаций и их реформе. Данные организации более не могут рассматриваться как агенты национальных правительств. Сегодня они приняли ряд демократических принципов и процедур, но в весьма ограниченном количестве. Существуют далеко идущие планы реформирования ООН и других межправительственных организаций, воплощение которых, несмотря на то, что они породили массу дискуссий и академической литературы, никогда не рассматривалось всерьез. Большинство подобных планов нацелены на расширение роли и функций этих организаций, на усиление контроля за их деятельностью и на расширение числа субъектов, принимающих в ней участие. Они представляют собой шаги в направлении глобальной демократизации и способны серьезно повысить независимую 275 Даниэле Аркибуджи политическую роль межправительственных организаций, сделав их чем-то большим, чем исполнителями воли национальных властей. Удивительно, но оппонентами таких инициатив выступают не только авторитарные режимы, но и многие демократические государства — и прежде всего Соединенные Штаты Америки. Глобальная власть закона Третье направление действий касается укрепления глобальной правовой системы. Власть закона — необходимый элемент любой демократической системы. Установление и соблюдение этого принципа в глобальном масштабе не обязательно предполагает создание наднационального центра силы, способного принуждать государства к подчинению. На деле ряд межправительственных организаций — включая ООН и Европейский Союз — уже обладают сводом правовых норм и эмбриональными юридическими полномочиями. Решениями этих инстанций нередко пренебрегают, что не удивительно, учитывая отсутствие аппарата принуждения. Однако, если международные нормы станут более изощренными, их нарушение будет обходиться правительствам все дороже. На протяжении последних лет стремление утвердить власть закона в общемировом масштабе фокусировалось преимущественно на международном уголовном праве. Создание ряда специализированных международных трибуналов и, что особенно важно, учреждение Международного уголовного суда (МУС) породило новые надежды на то, что политиков удастся привлечь к ответственности за их деяния. Воистину, Международный уголовный суд — самое значительное институциональное нововведение, совершенное в международной политике со времени окончания «холодной войны». Еще многое предстоит сделать для того, чтобы он стал в полной мере действенным, а все государства признали его юрисдикцию. Однако уже сейчас можно подвести итоги первых лет его работы. Пока его основными «клиентами» выступают подозреваемые в военных преступлениях граждане африканских стран, а также сепаратисты, борющиеся с действующими властями (хотя дело, возбужденное против президента Судана Омара аль-Башира, представляет собой знаковое исключение). Все следственные действия прекрасно задокументированы, но выбор обвиняемых все еще весьма избирателен. Существует угроза того, что МУС будет использоваться действующими правителями для борьбы с мятежниками или восприниматься как еще одно средство давления белых на черных. Все, кто надеялся на то, что Суд станет инструментом защиты слабых от властей предержащих, пока пребывают в разочарованных чувствах. Нужно сбалансировать действия МУС таким образом, чтобы в нем рассматривались и случаи преступлений, совершенных гражданами западных стран даже с одобрения их правительств. 276 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века Внимание, проявляемое к Международному уголовному суду, некоторым образом заслоняет не менее важную проблему, а именно — потребность разрешать посредством правовых инструментов и межгосударственные противоречия. Международный суд ООН, входящий в структуру Организации Объединенных Наций, который должен этим заниматься, недозагружен прежде всего потому, что для начала разбирательства все спорящие стороны должны признавать его юрисдикцию. К сожалению, это происходит редко и затрагивает не слишком принципиальные споры. Прочитав приговоры и определения этого Суда, можно получить крайне извращенное представление об истории последних шестидесяти лет. Вторжения СССР в Венгрию и Чехословакию, войны во Вьетнаме и Ираке, а также многие другие наиболее значимые международные конфликты не удостоились со стороны Суда никакого внимания по той причине, что одна из сторон конфликта не готова была передавать дело на его рассмотрение. Важнейшим элементом распространения глобальной власти закона могло бы стать наделение Международного суда ООН всеобъемлющей юрисдикцией*. В таком случае он превратился бы из третейского суда между двумя государствами в настоящий трибунал. Конечно, даже это не сможет обеспечить обязательности исполнения решений Суда — но и в отсутствие инструмента принуждения решение, объявляющее действия некоего государства преступными, имело бы серьезные международные последствия. Подчеркну: эта реформа может быть инициирована отдельными странами; ряд государств уже признали Международный суд ООН судом универсальной юрисдикции. Роль ответственных интерессантов Сообщества не всегда формируются по территориальному признаку. Во все большем количестве в мире возникают зоны, где политические проблемы лишены территориальной определенности и где люди участвуют в их решении в самых разных своих качествах**. Профессиональные ассоциации, этнические сообщества, группы граждан, страдающих от тех или иных заболеваний или связанных тесными экономическими интересами, вполне могут применять для решения своих проблем демократические практики. Большинство * См.: Falk, Richard. Law in an Emerging Global Village: A Post-Westphalian Perspective, Ardsley: Transnational Publishers, 1998. ** См. Gould, Carol. Globalazing Democracy and Human Rights, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. Автор называет этих людей stakeholders, применяя термин, который не имеет адекватного русского перевода, но который в современном политическом и экономическом дискурсе используется для обозначения ответственных коллективных собственников, заинтересованных в процветании и долголетии дела, противоставляя их акционерам (shareholders), готовым продать компанию любому, кто предложит интересную цену. — Прим. перев. 277 Даниэле Аркибуджи таких групп не имеет ни возможности, ни желания становиться чемто, похожим на государства, и предъявлять претензии на какой-либо вид суверенитета; однако они вполне могут считать необходимым обрести некоторое политическое пространство, в котором их члены могли бы поставить волнующие их вопросы*. Число международных акторов, акцентирующих внимание на частных темах, повышается, как и количество административных структур, объединяющих как общественных деятелей, так и представителей бизнеса. Движения в поддержку социальной справедливости успешно экспериментируют с налаживанием трансграничных связей между людьми, обеспокоенными общими проблемами. Возникновение и умножение новых игроков, претендующих на политическую легитимность, порождает вопрос: кто их члены? Хорошо это или плохо, но государственная организация политических сообществ дает прямой и ясный ответ: государство имеет право решить, кого оно считает своими гражданами, а затем может представлять их интересы на международной арене. Но если государство дополняется иными формами политического представительства, становится гораздо сложнее определить круг интерессантов. Кто, к примеру, имеет прямое отношение к нефтяной и нефтеперерабатывающей индустрии? Этих людей можно назвать: акционеры нефтяных компаний, работники отрасли, потребители в индустриально развитых странах и граждане нефтедобывающих государств. Всех их можно считать законными интерессантами, но это не снимает вопроса о том, какой вес в политическом процессе должна иметь каждая из данных категорий лиц. В некоторых случаях можно предположить, что интерессанты сами смогут найти оптимальную форму продвижения своих целей, но в более сложных случаях вполне вероятно, что им придется положиться на определение значимости и веса отдельных групп, сделанное внешними игроками. Всемирная парламентская ассамблея могла бы стать инструментом, сводящим на нет политическую исключенность и обеспечивающим политическое представительство таким негосударственным сообществам. Участие граждан в глобальной политике Одним из центральных элементов предлагаемой глобальной демократии является наделение граждан мира политическим представительством параллельно с их принадлежностью к национальным сообществам (и независимо от нее). Наиболее радикальным средством для этого могло бы быть создание Всемирной парламентской ассамблеи по при* См.: Dryzek, John. Deliberative Global Politics, Cambridge: Polity Press, 2006; Macdonald, Terry. Global Stakeholder Democracy. Power and Representation Beyond Liberal States, Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 278 Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века нципу Европейского парламента*. Этот институт стал бы естественным и самым эффективным инструментом объединения народов, позволяющим обсуждать общие проблемы. Маловероятно, чтобы подобный орган обладал серьезными полномочиями (по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе), но даже как дискуссионная площадка он мог бы сыграть важную роль противовеса государственнической политике. Подобная ассамблея не обязательно должна затрагивать каждый аспект международной жизни, но могла бы акцентировать внимание на проблемах, наиболее значимых для мира (например, экологических) или имеющих особое политическое звучание (например, массовых нарушениях прав человека). В некоторых случаях ассамблея могла бы предлагать наиболее приемлемый формат рассмотрения проблем, не знающих государственных границ. Подобный новый институт дополнял бы Генеральную Ассамблею ООН и мог бы работать в тесной связке с нею. Он мог бы предоставить политическое представительство индивидам и группам, ранее никогда им не обладавшим, — этническим и политическим меньшинствам в рамках отдельных национальных государств; народам, не имеющим своего государства; иммигрантам и беженцам; и что особенно важно, людям, живущим под гнетом авторитаризма, чей голос сегодня мы вообще не слышим. Однако он служил бы отнюдь не только маргинальным группам, вытесненным ныне с политического поля — граждане стабильных демократий также обрели бы новые возможности представительства. Некоторые предложения по учреждению Всемирной парламентской ассамблеи включают в себя даже предложения по методике избрания ее членов и их количеству**. Перемены происходят Движение за глобальную демократию находится сегодня еще во младенчестве, но кое-что уже меняется: данная тема стала предметом обсуждений, а порой — и политических акций. Несколько лет прогресс в направлении более демократичного миропорядка блокировался самой мощной державой демократического блока — Соединенными Штатами во главе с Джорджем Бушем-мл. Избрание президентом Барака Обамы дало шанс на перемены к лучшему, но движение в направлении глобальной демократии — дело не одного человека, даже если он и президент США. Улучшение условий должно придать энтузи* См.: Falk, Richard and Strauss, Andrew. «The Deeper Challenges of Global Terrorism: A Democratizing Response» in: Archibugi, Daniele (ed). Debating Cosmopolitics, London: Verso, 2003, pp. 203—231. Разнообразные предложения на этот счет см. в: Archibugi, Daniele. The Global Commonwealth of Citizens, ch. 6. ** Список инициаторов приводится на сайте Кампании за учреждение Парламентской Ассамблеи ООН (см.: http://en.unpacampaign.org/news/374.php). 279 Даниэле Аркибуджи азма сторонникам данной идеи и усовершенствовать их аргументы в ее поддержку. И нам следует осознать, что распространение демократии за пределы государственных границ — один из важнейших вызовов, которые XXI век бросает демократическим теории и практике. Перевод В. Иноземцева Источники Archibugi, Daniele. The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2008. Archibugi, Daniele and Held, David (eds). Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order, Сambridge: Polity Press, 1995. Benhabib, Seyla. Another Cosmopolitanism, Oxford: Oxford Univ. Press, 2006. Dahl, Robert. «Can International Organizations be Democratic? A Skeptical View» in: Shapiro, Ian and Hacker-Cord n, Casiano (eds). Democracy’s Edges, New York: Cambridgе Univ. Press, 1999. Dahrendorf, Ralf. Dopo la democrazia, Roma, Bari: Laterza, 2001. Doyle, Michael. «Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs» in: Philosophy and Public Affairs, Vol. 12 (1983), No. 3 & 4. Dryzek, John. Deliberative Global Politics, Cambridge: Polity Press, 2006. Falk, Richard. Law in an Emerging Global Village: A Post-Westphalian Perspective, Ardsley: Transnational Publishers, 1998. Falk, Richard and Strauss, Andrew. «The Deeper Challenges of Global Terrorism: A Democratizing Response» in: Archibugi, Daniele (ed). Debating Cosmopolitics, London: Verso, 2003. Gould, Carol. Globalizing Democracy and Human Rights, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. Habermas, J rgen. The Postnational Constellation, Cambridge: Polity Press, 2001. Hamilton, Alexander, Madison, James and Jay, John. The Federalist, Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1955. Held, David. Democracy and the Global Order, Cambridge: Polity Press, 1995. Held, David. Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, Cambridge: Polity Press, 2004. Koenig-Archibugi, Mathias. «Mapping Global Governance» in: Held, David and McGrew, Tony (eds). Governing Globalisation, Cambridge: Polity Press, 2002. Macdonald, Terry. Global Stakeholder Democracy. Power and Representation Beyond Liberal States, Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. Marchetti, Raffaele. Global Democracy: For and Against, London: Routledge, 2008. Patomaki, Heikki and Teivainen, Teivo. A Possible World: Democratic Transformation of Global Institutions, London: Zed Books, 2004. Russett, Bruce. Grasping the Democratic Peace, Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1993. Urbinati, Nadia. I confine della democrazia, Rome: Donzelli, 2007. 280 Демократия в эру ограниченного суверенитета Екатерина Кузнецова, Руководитель европейских программ Центра исследований постиндустриального общества (Россия) В последние годы дискуссии о судьбах демократии среди западных ученых разворачиваются вокруг двух главных проблем. С одной стороны, все большее число исследователей обращает внимание на размывание демократической легитимности и основ республиканского устройства, проявляющееся в падении интереса к электоральному процессу, медиатизации политической культуры, сужении пространства выбора и других тревожных явлениях, наблюдаемых в западных обществах. С другой стороны, травмированные провалами «точечной демократизации», предпринимаемой в последние десятилетия в разных регионах планеты — от Гаити до Афганистана, – западные интеллектуалы вынуждены переосмысливать принципы взаимоотношений с незападной (и, как правило, недемократической) частью мира, подводя под императив расширения пространства свободы и демократии более убедительные основания. Может показаться, что эти две проблемы имеют мало общего: хотя в обоих случаях речь идет о демократии, переживаемый зрелыми демократическими режимами кризис имеет весьма отдаленное отношение к «детским болезням» молодых неокрепших демократий. Действительно, какая связь может существовать между постепен- 281 Екатерина Кузнецова ным исчезновением идеологических отличий правых и левых партий в западных обществах и стратегией поддержки хрупких государственных институтов в Ираке после начала вывода войск коалиции? Может ли часто упоминаемый «дефицит демократии» в Европейском Союзе, наднациональной структуре с самой утонченной и сложной системой принятия решений в мире, быть устранен при помощи тех же методов, которые требуются для укрепления демократической легитимности в России, подорванной использованием административного ресурса, выстраиванием «вертикали власти», ограничением гражданских прав и свободы слова? В то же время незападные государства, испытывающие на себе политическое давление или подвергающиеся критике за отсутствие демократии со стороны Запада, охотно развивают тему отклонений и несовершенства западных демократий. В ход идут аргументы самого разного порядка: некоторые из них справедливы, другие носят выраженный популистский или пропагандистский характер. На Западе не спорят, что самый болезненный удар по идее экспорта демократии был нанесен неудачными военными кампаниями США в Афганистане и Ираке, инициированными президентом, избранным меньшинством сограждан и утвержденным на посту через решение Верховного суда; соглашаются с тем, что принятие Patriot Act ограничило ряд гражданских свобод американских граждан; признают, что разоблачение практики внеправового наказания подозреваемых в терроризме, применявшейся американцами и их европейскими союзниками в разных частях мира, бросило мрачную тень на репутацию западных стран, объявивших распространение демократии целью своей внешней политики. К тому же экономический спад 2008 года предоставил критикам западной демократии дополнительные аргументы. Он показал, что сама по себе демократия не гарантирует большей экономической эффективности, а прославляемый Западом либерализм закрывает глаза на действия, которые можно назвать разве что безрассудными. Недемократический Китай и петрогосударства Персидского Залива пережили кризис менее болезненно, да и к тому же помогли Соединенным Штатам – как покупкой их долговых обязательств, так и прямым вхождением в капитал переживавших тяжелые времена американских банков. И теперь ответом на упреки Запада в адрес остального мира становится напоминание о том, что в 2008 году ВВП США упал на 2,6%, а 27-ми стран Европейского Союза – на 4,2%, тогда как рост в том же Китае составил 8,7%. 282 Демократия в эру ограниченного суверенитета Помимо чисто хозяйственных трудностей, финансовый кризис, поставивший под сомнение способность Запада выступать флагманом экономического развития, выбил из рук его идеологов один из последних аргументов, традиционно доказывавший западное превосходство. Кризис модели отношений между Западом и остальной частью планеты, выстроенной на считавшихся универсальными идеалах демократии и свободы, стал особенно заметен. Завершение эпохи стремительной демократизации и усиление сопротивления насаждению демократии в глобальном масштабе ставят Запад перед важнейшим интеллектуальным вызовом ближайшего десятилетия – необходимостью всестороннего переосмысления форм и способов коммуникации с незападным миром, предполагающего как ревизию идеологических оснований внешней политики, так и беспристрастный анализ политической целесообразности демократизации. Найдут ли западные интеллектуалы и политики широкий консенсус относительно нового языка общения с внешним миром? Какие идеи лягут в его основу? Не претендуя на изложение целостной позитивной программы, попытаемся, с одной стороны, критически оценить некоторые ключевые вопросы международных отношений, а с другой стороны, предложить некоторые шаги, необходимые для формирования новой, более располагающей к цивилизованному сосуществованию, среды. К вопросу о причинах кризиса В основе кризиса внешнеполитической идентичности Запада, вызванного нежеланием остального мира принимать навязываемые представления о способе и форме социально-политической организации в границах отдельно взятой страны, лежат, на наш взгляд, три фундаментальные причины. Во-первых, для многих стран демократия не является безусловной ценностью – но в последние два десятилетия Запад сделал императив демократизации лейтмотивом своей политической коммуникации с миром. Он ошибочно интерпретировал тектонические сдвиги в мировой политике на рубеже 1980-х и 1990-х годов как свидетельство всеобщего стремления к демократии, тогда как таковые отражали скорее жажду свободы. Смешение понятий свободы и демократии сформировало в западных государствах иллюзию возникновения универсального языка политического общения между государствами, безошибочной системы распознавания «свой– 283 Екатерина Кузнецова чужой» – и демократия стала для Запада ключевым критерием при выработке политического курса в отношении отдельных государств. Современное стремление Запада к продвижению демократии продолжило традицию поддержки борьбы народов за свободу и независимость, характерную для Соединенных Штатов еще с начала XIX века, когда ими была принята доктрина о «самостоятельном политическом развитии американских континентов», известная как «Доктрина Монро». Разумеется, в ней содержался важный геополитический элемент, как и в политике США в период после Второй мировой войны, когда они безучастно взирали на распад европейских колониальных империй и поддерживали движение самоопределения как подтверждение универсального стремления народов к освобождению. Однако вскоре стало понятно, что независимость и демократия, свобода и либерализм – вещи разные. Если в XIX столетии латиноамериканские страны были не менее демократическими и либеральными, чем Соединенные Штаты, то к новым государствам Африки и к странам, свободно выбравшим присоединение к коммунистическому лагерю, это не относилось. Понадобилось сместить акцент, и новым лозунгом стала демократизация. Это казалось тем более естественным, что, с одной стороны, впервые вокруг этого подхода объединились США и Европа (над которой уже не довлело наследие колониализма и которая добилась выдающихся успехов, трансформируя в демократии страны, незадолго до того вступившие в ЕЭС), и, с другой, в пользу демократизации выступало в годы правления Михаила Горбачева и советское руководство. Конец 1980-х годов ознаменовался тем, что на уровне риторики у демократизации не осталось противников, и это, как позже выяснилось, сыграло с данной концепцией злую шутку. Очень быстро стало ясно, что демократизация – более сложный процесс, чем можно было предположить, а тождественность демократии свободе, мягко говоря, неочевидна. Опыт демократизации в разных частях мира доказывает, что устойчивый демократический режим не может существовать не только без всенародных выборов, но и без независимой судебной системы, подотчетных и беспристрастных институтов принуждения, а также либеральной и конкурентной экономики. Между тем эти элементы тяжело приживаются на новой почве, поскольку, в отличие от пафосных призывов к свободе, требуют зачастую невозможного: от правящего класса – реальной борьбы с коррупцией и политической чистоплотности; от 284 Демократия в эру ограниченного суверенитета погруженного в апатию общества – гражданской активности и готовности на практике защищать свои права. Во-вторых, нарастающее сопротивление демократизации связано с методами насаждения демократических режимов. Парадокс заключается в том, что расширение территории демократии осуществляется далеко не демократическим образом. Оптимистические ожидания наступления эры всеобщей свободы разбиваются о гуманитарные интервенции, экономический шантаж и военно-политическое давление. Односторонние экономические санкции, создание военных баз, поддержка оппозиционных движений и силовое вмешательство прочно вошли в арсенал средств, служащих, по мнению Запада и прежде всего США, целям демократизации. В кольце блокады давно находятся авторитарные Иран и Куба; военно-политическая поддержка демократического Тайваня и наращивание военного потенциала в Восточной Европе служат явной демонстрацией недоверия к строящим девиантные формы демократии Китаю и России; значительные финансовые средства расходуются на оплату военного вмешательства в особо тяжелых случаях – таких, как вторжение эфиопских вооруженных сил в Сомали. В то же время эффективность этих мер остается сомнительной. Крупнейшая «операция по демократизации» последнего десятилетия – иракская, – потребовала от сил коалиции ресурсов, сопоставимых с теми, что были направлены на демократизацию Японии после Второй мировой войны (оккупационные силы в Японии достигали 400 тысяч человек, в то время как для свержения диктаторского режима Саддама Хусейна и последующей стабилизации Ирака было задействовано не менее 300 тысяч). Но можно ли сравнивать результаты этих двух демократизаций? Среди причин низкой эффективности демократизаторских потуг одну следует выделить особо. Недемократичные методы демократизации применялись и до распада биполярного мира. Однако если в эпоху «холодной войны» периферийные страны, наиболее часто становившиеся объектами демократизации в силу их статуса «законного» поля соперничества двух систем, не могли противодействовать вмешательству иначе как через поиск покровительства со стороны второй сверхдержавы, то в 1990-е годы спектр возможностей сопротивления существенно расширился, прежде всего по причине нормативной зыбкости западной позиции. Зыбкость эта порождена тем, что прежняя идеология борьбы систем сменилась новой — сувере- 285 Екатерина Кузнецова нистской. Суверенитет из «спящей» (то есть номинально закрепленной в международном праве, но в реальности часто игнорируемой) ценности перешел в категорию активной, функциональной. Этот процесс, впрочем, начался существенно раньше – еще в 1960– 1970-е годы с признанием европейцами равных суверенных прав за бывшими колониями*. В то время все бывшие зависимые территории обрели суверенитет без условия соблюдения позитивных критериев самоуправления – способности экономически конкурировать с другими государствами, использовать невмешательство в свои дела для соблюдения прав граждан, и т.д. Понимание того, что признание независимости влечет серьезные негативные последствия, если стремящаяся к суверенитету нация не имеет устойчивых демократических институтов, пришло позже. Этому предшествовал пожар межэтнических и гражданских войн, охвативший новые независимые государства Африки, такие как Судан, Конго и Чад уже к концу 1960-х годов, а в следующее десятилетие расширившийся на Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и некоторые другие регионы. За эти десятилетия грубые нарушения прав человека в новых независимых странах стали обычным явлением, конфликты приняли хроническую форму, а политические лидеры утвердились во мнении, что суверенитет является синонимом безнаказанности. Фактически для незападных государств был создан параллельный международно-правовой режим, который Роберт Джексон еще в конце 1980-х годов обозначил термином «негативный суверенитет»**. Последствия этого шага со всей очевидностью проявились только спустя несколько десятилетий. Самоопределившиеся страны «третьего мира», защищенные от вмешательства суверенитетом, начали требовать от развитых государств особых преференций и позитивной дискриминации в виде помощи развитию, экономических послаблений и снисхождения в оценке прогресса в области демократии и прав человека. Как следствие, в международных организациях сложилась целая система лобби: в ходе дохийского раунда ВТО беднейшие страны координируют свою политику в рамках двух объединений — «Группы девяноста» и «Группы тридцати трех», выступаю* См.: Brown, Chris. Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Cambridge: Polity Press, 2002, pр. 140–141. ** См.: Jackson, Robert. Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990, pp. 27–28. 286 Демократия в эру ограниченного суверенитета щих за сохранение протекционистских мер ради поддержания преимущественного доступа на рынки развитых стран; в ООН развивающиеся государства отстаивают свои интересы, в числе которых наращивание помощи развитию и списание долгов беднейшим странам, в рамках «Группы семидесяти семи»; группы интересов и движения за списание внешнего долга, представляющие интересы государств периферии, добились аннулирования долгов восемнадцати беднейших стран мира со стороны МВФ и Всемирного банка. Осознание лукавости такой политики уже приходит: не случайно авторы как из развитых, так и из периферийных стран начинают сетовать на «неразвивающийся мир»* и требовать пересмотреть порядок предоставления помощи, обусловив ее улучшением качества государственного управления**. Крах попыток демократизации 1990-х и 2000-х годов был предопределен задолго до их начала. Это объясняется и тем, что вместо демократии свобода стала прочно ассоциироваться с суверенитетом, который позволяет самостоятельно выбрать форму правления, причем не обязательно демократическую; и тем, что накопившиеся на мировой периферии проблемы во многих случаях не оставляли возможности для демократизации мирными средствами; и тем, что сама демократизация осталась набором изолированных случаев навязывания государствам западной модели и не была встроена в глобальную тенденцию к построению более справедливых международных институтов и системы принятия решений. В-третьих, следует признать и то, что возможности демократии перестали быть уникальными — а иногда демонстрируют и очевидные слабости. С одной стороны, многие проблемы, остро стоящие перед международным сообществом (развитие отстающих стран, борьба с террором и наркотрафиком, обеспечение региональной стабильности и ряд других) не могут быть решены посредством демократизации. С другой, пример экономического возвышения недемократических государств — Китая, Вьетнама, Сингапура, — опроверг мнение о невозможности экономического развития в условиях авторитарного режима. Ориентация на технократический успех формирует новый тип легитимности — легитимность резуль* Подробнее см.: Rivero, Oswaldo de. The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century, London, New York: Zed Books, 2001. ** Cм.: Easterly, William. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, New York: Penguin, 2006. 287 Екатерина Кузнецова тата, заменяющий собой более привычную для Запада легитимность процедуры (как отмечает выдающийся правовед Джозеф Вейлер, «демократия должна основывать свою легитимность именно на процедуре, на процессе выбора, иначе авторитарные режимы следовало бы признать более эффективными»*). Таким образом, сегодня становится очевидным, что программа демократизации столкнулась с двумя практически непреодолимыми препятствиями: с одной стороны, попытка «продать» миру демократию «в нагрузку» к свободе и независимости терпит неудачу; с другой стороны, демократизация как идеологическая конструкция вступает в противоречие с доктриной суверенитета. Эти угрозы для распространения демократии оказываются тем серьезнее, что легитимизировать демократию через эффективность становится все труднее. Демократия и десуверенизация Концепция демократизации стала ярким воплощением цивилизаторских устремлений Запада, долгосрочная цель которых заключалась в том, чтобы вовлечь незападный мир в свою ценностную орбиту и тем самым сделать его более лояльным, понятным и предсказуемым. Однако продемократическое вмешательство западных государств и другие попытки насаждения демократических институтов не привели ни к росту стабильности, ни к повышению предсказуемости международных отношений, ни к триумфу западных ценностей. Оказалось, что стратегия демократизации не является ни кратчайшим, ни скорейшим путем к достижению этих целей. Напротив, насаждение демократии при помощи гуманитарных интервенций, санкций и других принудительных мер часто ведет к дестабилизации как отдельных стран, так и их соседей, к укреплению авторитарных режимов в некоторых регионах, к росту националистических движений, к всплеску терроризма. Очевидно, что демократизация в том виде, в каком ее пытались реализовывать в последние десятилетия, оказалась провальным проектом. Политика распространения демократии углубила мировоззренческую пропасть между западным и незападным миром и поставила под сомнение лидирующую роль Запада в глобальных процессах. * Вейлер, Джозеф. «Чем строже обязательства, тем реже они исполняются» в: Свободная мысль, 2009, № 7, с. 8. 288 Демократия в эру ограниченного суверенитета Утверждая самодостаточность и самостоятельную ценность демократии, западные государства упускают из вида ее функциональное предназначение. В конечном итоге ценность демократии определяется ее способностью обеспечить стабильность и консенсус внутри общества и гарантировать, что государство будет добропорядочным, законопослушным и предсказуемым членом сообщества наций. Следует признать, что сегодня демократия не выполняет ни первого, ни второго предназначения. Означает ли это полное и окончательное поражение идеи демократии? Вероятно, следует признать, что на данном временном отрезке Запад потерпел поражение. Однако останется ли оно тактическим провалом или же повлечет стратегический проигрыш, зависит в конечном счете от действий самого Запада. Парадоксальным образом страны Запада сегодня выступают не меньшими противниками демократизации, чем те, кому они стараются ее навязать. Точнее, можно констатировать существование глубокого водораздела внутри западного мира во взглядах на демократию. С одной стороны, Соединенные Штаты и некоторые европейские страны, такие как Швейцария и Норвегия, мыслят демократию исключительно в парадигме национального государства. В международных отношениях они не готовы к применению тех же демократических принципов, которые исповедуют во внутренней политике. Эти государства не соглашаются на широкое международное обсуждение ключевых внешнеполитических решений в рамках демократической процедуры даже в кругу своих демократических союзников и партнеров. К примеру, вторжение в Ирак было односторонним решением Соединенных Штатов, «сколотивших» под эту цель «коалицию решительных»; вопрос о международном признании Косово не стал предметом широкого обсуждения в демократическом сообществе и решался каждой страной самостоятельно. Примеры можно продолжать. Почему же так происходит? Ответ, на наш взгляд, состоит в том, что демократизация международных отношений ограничивает свободу выбора государства, поскольку демократическая легитимность строится не только на акте выбора, но и на приоритете мнения большинства. Демократическая процедура всегда содержит в себе вероятность того, что участник политического процесса может остаться в меньшинстве и будет вынужден подчиниться иному мнению. Можно ли сегодня представить, что США согласятся признать Абхазию или Южную Осетию, 289 Екатерина Кузнецова или отменят санкции в отношении Кубы, если большинство демократических стран встанет на такую позицию? Государствам свойственно опасаться утраты самостоятельности и ограничения своей свободы действий. Между тем эта дилемма легко снимается при помощи концепции национального суверенитета, который является узаконенной возможностью сохранить свободу действий и избежать демократических ограничений. С другой стороны, Европейский Союз оригинальным образом сочетает стратегию демократизации периферийных государств с демократизацией международных отношений. С вступлением в силу Лиссабонского договора, который превратил квалифицированное большинство в основной способ принятия решения в ЕС, региональную интеграцию в Европе можно без оговорок признать наиболее успешным примером распространения демократии на сферу международных отношений. Ключевым фактором успеха европейской интеграции как демократического проекта, доказавшего свою эффективность в поддержании долговременного мира, обеспечении устойчивого экономического роста и стабилизации внутриполитической ситуации в странах-членах (напомним, что именно этих целей Запад надеется достичь путем насаждения демократии), стало ограничение суверенитета. Инициированный как классический пример реализации принципов межгосударственного сотрудничества, Европейский Союз сегодня вышел далеко за их границы. После краха советского блока европейское интеграционное объединение стало центром притяжения для других европейских стран. В результате нескольких волн расширения Европейский Союз объединяет ныне 27 государств и представляет собой уникальный пример ненасильственной демократизации, развивающейся в первую очередь через инкорпорирование международных норм в национальные правовые системы. Из вышесказанного следует, что на уровне национальных государств суверенитет легко сочетается с демократией, но на межгосударственном уровне демократия вступает в прямое противоречие с суверенитетом. Иными словами, суверенное государство может быть демократическим (как может и не быть таковым), но демократическая международная система неизбежно влечет ограничение национального суверенитета. Возвращаясь к проблеме целесообразности распространения демократии, уместно задаться вопросом о том, могут ли развитые 290 Демократия в эру ограниченного суверенитета демократические страны, не отказываясь от своих ценностей, повысить уровень стабильности и предсказуемости современной миросистемы? На наш взгляд, это возможно при условии решительной смены парадигмы. Тот факт, что насильственная демократизация, проводимая посредством интервенции, обретения контроля над политической элитой и создания системы финансовых стимулов, представляется сегодня либо бесперспективной, либо нереализуемой, свидетельствует о необходимости отказа от демократизации «изнутри» в пользу демократизации «извне». Под демократизацией «извне» мы понимаем такую стратегию поведения западных государств, которая определялась бы не позитивной (или «наступательной»), а негативной (или «оборонительной») внешнеполитической программой. Вместо попыток насадить ценности демократического правления западным державам следовало бы сосредоточиться на укреплении правовых основ международной системы, а точнее – на обеспечении соблюдения международных норм и правил со стороны всех без исключения суверенных государств. Ныне существующая международная система противоречива; с одной стороны, она основывается на принципе суверенитета — а, он, как отмечает, например, Фернандо Тесон, «открывает возможность для тирании, выдавая карт-бланш любому, кто пожелает игнорировать волю народа и удерживать власть посредством грубой политической силы, что в соответствующих международных документах деликатно именуется правом государства определять свой политический строй»*. С другой стороны, этот принцип провозглашается, но соблюдается лишь избирательно: Пьер Аснер справедливо считает, что «нынешняя ситуация даже опаснее ситуации “холодной войны”, [поскольку] тогда существовали определенные правила, позволявшие вести сдержанный диалог, [и] одностороннее превентивное вмешательство в дела другого государства было немыслимо»**. В итоге возникает практика избирательного вмешательства, крайне опасная для мирового порядка. Наиболее эффективным способом обеспечить верховенство норм международного права является их инкорпорирование в национальные правовые системы. Опыт шестидесяти лет европейской интеграции показывает, что интернализация международных обя* Teson, Fernando R. Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, Ardsley: Transnational Publishers, 2005, p. 182. ** Аснер, Пьер. «Великие державы должны иметь таких соседей, какой была Финляндия в годы "холодной войны"» в: Свободная мысль, 2008, № 9, c. 58. 291 Екатерина Кузнецова зательств наилучшим образом компенсирует недостаточность санкций и слабость институтов принуждения, которые и не понадобятся, если национальные суды потребуют выполнения международных норм. Выдающийся правовед Джозеф Вейлер отмечает, что использование национальных судов в качестве главного инструмента принуждения к выполнению обязательств позволяет ЕС, с одной стороны, благотворно влиять на состояние законности во входящих в его состав государствах, а с другой стороны, модернизировать международные отношения, привнося в них принципы соблюдения закона и верховенства права, на которых покоятся либеральные демократии*. Однако возможности применения этой модели в других регионах планеты наталкиваются на парадигму суверенитета. Западные идеологи, судя по всему, ошиблись, когда предположили, что курс на распространение демократии реализуем в существующей системе международного права. В то же время головоломка о том, как преодолеть правовой нигилизм в международных отношениях без создания «мирового правительства», без применения европейской модели и без полного переписывания сложившихся правил и норм, требует безотлагательного решения. С одной стороны, этому может служить более жесткое применение норм, карающих за нарушение международных договоров и соглашений. Так, например, конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года оставляет наказание за это преступление на усмотрение государства, а Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года вообще не допускает мысли о том, что государство может самостоятельно готовить и использовать наемников. Несмотря на неоднократные случаи массовых убийств и этнических чисток, международное сообщество ни разу не усомнилось в легитимности правительств стран, в которых происходили эти преступления. Между тем было бы логично признать, что государство, без оглядки нарушающее принятые международные нормы, не может оставаться членом данного сообщества и признаваться суверенным. Иное просто опасно: ведь, как подчеркивает Майкл Уолцер, беззаконие, где бы оно ни проявлялось, порождает все новое насилие, и этот порочный круг обречен расширяться бесконечно; «все государства, — пишет он, — заинтересованы в глобальной стабильности и даже в глобальной * Вейлер, Джозеф. «Чем строже обязательства, тем реже они исполняются” в: Свободная мысль, 2009, № 7, с. 8. 292 Демократия в эру ограниченного суверенитета человечес[кой общности]… стоит лишь сэкономить на нравственной цене молчания и безразличия [к жителям отдаленных стран], и вам придется заплатить политическую цену потрясений и беззакония у вас дома»*. В итоге мировое сообщество — как демократии, так и уважающие международное право недемократические государства — пришло бы к пониманию, что принцип автоматического и безусловного признания государства в качестве субъекта международных отношений, унаследованный с тех пор, когда политическая ситуация в отдельном государстве имела заведомо второстепенное значение по сравнению с лояльностью его элит одной из двух сверхдержав, должен быть пересмотрен. С другой стороны, часть демократических стран, приверженная принципам демократизации не только во внутренней политике, но и в международных отношениях, могла бы пойти по пути выработки общих принципов и стандартов поведения на мировой арене. Речь идет не о присоединении таких стран к Европейскому Союзу или немедленном формировании подобных ему региональных объединений, а о постепенном оформлении сообщества, которое признает международное право и соглашается следовать выбору большинства других демократических государств (по сути, сложилась бы группа, внутри которой могли распространиться не только единые правовые стандарты, но и демократические принципы принятия коллективных решений). В основе этого предложения лежит мысль о том, что в современных условиях «свобода действий суверенного государства на мировой арене должна быть в ряде аспектов ограничена и подвергнута мониторингу и контролю со стороны международного сообщества, так же как и абсолютная власть суверена — будь то монарх или же народ — в пределах государства должна ограничиваться, обусловливаться теми или иными обстоятельствами и не переставать быть подотчетной»**. На практике это потребует большей солидарности и готовности к компромиссам со стороны тех демократий, которые сегодня стоят на позициях одностороннего принятия решений. Следствием такого широкого консенсуса стало бы повышение легитимности и влияния создаваемых по инициативе сообщества демократий международных институтов, что особенно важно, если они преследуют гуманистические цели. К примеру, присоединение Соединенных Штатов к Международному уголовному * Walzer, Michael. «The Politics of Rescue» in: Walzer, Michael. Arguing About War, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2004, pp. 74, 75. ** Hoffman, Stanley. «Sovereignty and the Ethics of Intervention» in: Hoffman, Stanley (ed.) The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, Notre Dame (In.): Univ. of Notre Dame Press, 1996, p. 18. 293 Екатерина Кузнецова суду или Конвенции о запрете противопехотных мин могло бы способствовать восстановлению доверия со стороны всех тех государств, которые сегодня разочарованы непредсказуемостью и двойными стандартами политики США и ощущают лукавство призывов к демократии, исходящих от западного мира, и одновременно укрепило бы международную законность. В перспективе в рамках этого сообщества наций могла бы возникнуть новая, «постсуверенная», демократия. Как мы видим, оба эти процесса повлекли бы за собой своего рода «десуверенизацию» — с одной стороны, суверенитет «государствизгоев» был бы ограничен (согласно предварительно четко определенной совокупности нарушений, ведущих к такому исходу); с другой стороны, свобода маневра тех демократических стран, которые пока не готовы выступать в одном строю с другими демократиями, была бы сужена . Подобная концепция не столь утопична, как может показаться на первый взгляд. Собственно говоря, так и распространялись демократические порядки в прошлом: в условиях относительно фрагментированного мира боровшиеся за свою свободу страны или движения, стремившиеся свергнуть старые правящие классы, вдохновлялись примерами предшественников — хотя в тот период даже ведущая демократическая держава, Соединенные Штаты, руководствовалась словами Джона Квинси Адамса, который говорил: «Где бы — сейчас или в будущем — ни водружалось знамя свободы и независимости, там сердце Америки, ее благословение и молитвы. Но она не пойдет в чуждые пределы, чтобы истреблять там драконов. Она желает свободы и независимости во всем мире. Но борется она за защиту только своих собственных свободы и независимости»*. Такая позиция сделала Америку одним из главных оплотов демократии и лидером «свободного мира». Сегодня она перестает им быть, уступая место Европейскому Союзу. Именно объединенная Европа воплощает пример подлинной демократизации международных отношений — демократизации, ведущей к утверждению либеральных ценностей и правового порядка, демократизации, которая в нынешнем мире может быть, видимо, только постсуверенной. Опыт формирования наднациональных демократических структур, который, на наш взгляд, открывает перед человечеством дей* Цит. по: Киссинджер, Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? Перевод с англ. под ред. и со вступ. ст. В.Л. Иноземцева, Москва: Ладомир, 2002, с. 267. 294 Демократия в эру ограниченного суверенитета ствительно широкие перспективы стабильного и ненасильственного мира, не удостаивается в России должного внимания. Напротив, сегодня отечественными исследователями акцент делается на абсолютный характер и неограниченность суверенитета, что, по их мнению, делает его «реальным», а его носителя — исключительным (как пишет, к примеру, Андрей Кокошин, «реальным суверенитетом обладает ограниченное число стран, и он означает способность государства на деле (а не декларативно) самостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в отношения стратегического партнерства, и т. д.»)*. Однако пока история показывает, что именно такие страны представляют наибольшую угрозу цивилизованному мировому порядку — порядку, в котором доминирует право и который в отдаленной перспективе только и может привести к ненасильственному распространению демократии. Источники Brown, Chris. Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Cambridge: Polity Press, 2002. Easterly, William. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, New York: Penguin, 2006. Hoffman, Stanley. «Sovereignty and the Ethics of Intervention» in: Hoffman, Stanley (ed.) The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, Notre Dame (In.): Univ. of Notre Dame Press, 1996 Jackson, Robert. Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. Rivero, Oswaldo de. The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century, London, New York: Zed Books, 2001. Teson, Fernando R. Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, Ardsley: Transnational Publishers, 2005. Walzer, Michael. Arguing About War, New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2004. Аснер, Пьер. «Великие державы должны иметь таких соседей, какой была Финляндия в годы "холодной войны"» в: Свободная мысль, 2008, № 9. * Кокошин, Андрей. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе (3-е изд., переработанное и дополненное), Москва: Издательство «Европа», 2006, с. 63. 295 Екатерина Кузнецова Вейлер, Джозеф. «Чем строже обязательства, тем реже они исполняются» в: Свободная мысль, 2009, № 7. Киссинджер, Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? Перевод с англ. под редакцией и со вступ. ст. В.Л. Иноземцева, Москва: Ладомир, 2002. Кокошин, Андрей. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе (3-е изд., переработанное и дополненное), Москва: Издательство «Европа», 2006. 296 О глобальной демократии и содействии в ее развитии Томас Каротерс, Директор по научным исследованиям Фонда Карнеги за международный мир (США) На смену бурным дням «третьей волны» демократизации пришел период «демократического застоя». Впервые за несколько десятилетий количество демократических государств за десять лет почти не изменилось. Эта стагнация вызвала живую дискуссию о роли демократии в мире и легитимности внешнего содействия ее развитию. Ближайшие годы вряд ли ознаменуются новым всплеском распространения демократии, какой мы наблюдали в предыдущие десятилетия, но и о значительном откате пока не приходится говорить. Наоборот, демократия будет и дальше пытаться завоевать новые рубежи; где-то ей это удастся, где-то она потерпит поражение — но на международной политической арене в центре внимания постепенно окажутся уже другие проблемы. Состояние демократии в мире Стремительное распространение демократии в 1980–1990-е годы иногда изображается политологами как единая глобальная тенденция. На деле она сочетала в себе различные региональные процессы, которые в определенной степени перекликались, но при этом сохраняли свои особенности. Среди наиболее значимых направлений демократизации были коллапс праворадикальных военных прави- 297 Томас Каротерс тельств в Латинской Америке, провал перестройки и распад Советского Союза, закат первого поколения постколониальных однопартийных правительств в Африке к югу от Сахары, а также переход от быстрого экономического развития к процессу демократизации в ряде стран Восточной Азии. Более того, эта «третья волна» демократизации, если использовать термин Самюэля Хантингтона, не была такой уж всепоглощающей, какой ее иногда изображают. Многие из громких демократических прорывов в итоге оказались не столь значительными, какими представлялись вначале, — зачастую под их завесой к власти приходили и укреплялись недемократические правительства, как это случилось в большинстве стран Средней Азии и по меньшей мере в некоторых регионах Африки к югу от Сахары. Некоторые регионы были затронуты этой тенденцией частично (Восточная Азия) или совсем незначительно (Ближний Восток). И тем не менее, распространение демократии в последние двадцать лет XX века было выдающимся явлением, благодаря которому новое столетие получило значительный демократический импульс. Однако первое десятилетие XXI века не оправдало ожиданий. Вместо продолжения демократического бума наступила стагнация. Хотя некоторые государства и добились ощутимых успехов на пути демократизации, не меньшее их число пережило и «волны отката»*. Причины стагнации почти очевидны. Демократическая волна 1980–1990-х годов характеризовалась тем, что крах авторитаризма и демократический бум захлестывали в основном страны, не располагавшие ключевыми условиями для устойчивого развития демократии: высоким социально-экономическим уровнем, отсутствием культурных и межконфессиональных противоречий, опытом политического плюрализма. Поэтому не удивительно, что многие из неподготовленных участников «третьей волны» до сих пор бьются над становлением эффективной демократической системы. Демократическая стагнация объясняется и тем, что авторитарные режимы, столкнувшиеся с вызовами «третьей волны», оказались достаточно крепкими и обнаружили неплохую жизнеспособность в долгосрочной перспективе. Это в основном правительства, добившиеся значимого экономического роста (Китай, Вьетнам), или же режимы, задавившие репрессиями всех своих внутриполитических оппонентов (Северная Корея, Мьянма). Замедлению процессов демократизации способствовал также резкий скачок цен на нефть и газ в середине 2000-х годов. Рост прибылей от их продажи поддерживал ряд недемократических режимов в странах бывшего Советского Союза, на Ближнем Востоке, в Африке к югу от * См.: Diamond, Larry. «The Democratic Rollback?» in: Foreign Affairs, Vol. 83, No. 6, November–December 2008, pp. 36–48; а также: Carothers, Thomas. Stepping Back from Democratic Pessimism, Carnegie Endowment Paper No. 99, February 2009. 298 О глобальной демократии и содействии в ее развитии Сахары и других регионах мира. Одновременно высокие цены, а также неуверенность по поводу обеспеченности необходимыми энергоресурсами не позволяли странам Запада, зависимым от их импорта, критиковать богатые нефтью и газом недемократические государства и требовать от них соблюдения демократических норм и прав человека. Начало полемики В условиях, когда политические изменения в мире стали происходить по все более разнообразным сценариям, в которых проблема демократии занимала все меньше места, обрел новую актуальность вопрос о значении демократии и ее влиянии на остальные факторы развития тех или иных стран. К примеру, политологи вернулись к давнему вопросу о том, способствует ли укрепление демократии успешному социально-экономическому развитию или нет. В 1990-е годы и ранее при исследовании данного вопроса привычным был вывод, согласно которому демократия не является залогом быстрого экономического роста — и это верно. Однако демократические страны явно обходят недемократические по другим социально-экономическим показателям: уровню детской смертности, ожидаемой продолжительности жизни, а также распространенности образования*. Кроме того, в демократических государствах со временем все большее развитие получают экономические свободы, измеряемые в таких категориях, как степень защищенности прав собственности, здравая экономическая политика и свобода предпринимательства**. Абстрагируясь от идеологических диспутов относительно значения демократии, эксперты также начали сосредотачиваться на проблеме государственного управления. Ведь если в тех или иных регионах люди могут усомниться в полезности западной либерально-демократической модели для их обществ, то немногие поспорят с политической важностью эффективного государственного управления, основными элементами которого являются борьба с коррупцией, высокая эффективность государства и непререкаемость закона. Под таким углом зрения вопрос о взаимосвязи демократии и эффективного госуправления выглядит вполне естественно. Очевидно, что ряд новоиспеченных демократий по этому показателю сильно отстают, особенно учитывая их уровень коррупции, а некоторые из авторитарных режимов могут считаться более эффективными — как часто приводимый в качестве примера Сингапур. * См.: Baum, Matthew and Lake, David. «The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital» in: American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2, 2003, pp. 333–347; Halperin, Morton; Siegle, Joseph and Weinstein, Michael. The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, New York: Routledge, 2005. ** См.: Doucouliagos, Hristos and Ulubasoglu, Mehmet Ali. «Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis» in: American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 1, 2008, pp. 61–83. 299 Томас Каротерс И тем не менее исследователи данного вопроса в итоге приходят к выводу, что эффективное государственное управление все же более присуще демократиям, нежели недемократическим режимам*. Если мы взглянем на страны с самыми высокими уровнем жизни и индикатором человеческого развития, то увидим, что большинство из них — страны со сложившейся демократической системой. Политические проблемы, с которыми столкнулись многие молодые демократии, ввели в начале 2000-х годов в повестку дня и вопрос о том, стоит ли странам, желающим стать демократическими, «бросаться с головой» в этот процесс, если у них отсутствуют основные условия успешного демократического транзита, или же благоразумнее сначала дождаться упрочнения эффективного правового государства. Сторонники последовательного перехода к демократии полагают, что преждевременная демократизация может привести к крайне нежелательным результатам: установлению нелиберального режима, неспособности государства обуздать коррупцию и обеспечить общественные блага и даже к внутренним вооруженным конфликтам**. Суть идеи последовательного перехода к демократии ясна: лишь эффективная правовая система и вполне дееспособное государство в условиях демократического транзита способны сдержать стихию всеобщего политического участия. Эта идея отражает распространившуюся в последнее время точку зрения, согласно которой некоторые страны попросту не готовы к демократии, а определенный уровень социальнополитического развития является ее обязательным условием. По своей сути идея последовательного перехода к демократии вполне обоснованна. Если страна имеет в своем распоряжении слабый или неэффективный государственный механизм, поспешный переход к системе всеобщих открытых выборов и неограниченному политическому плюрализму может спровоцировать хаос. Сами за себя говорят примеры Афганистана и Ирака, где Соединенные Штаты, осуществив интервенцию, попытались привить демократическую систему — однако переход к системе выборов в отсутствие действенного государственного механизма обернулся серьезными проблемами. При этом стоит различать идею «повременить» с демократизацией до учреждения основных государственных институтов и идею «отложить» ее до начала эффективного функционирования государствен* См.: Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo. Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996–2004, World Bank Policy Research Working Paper No. 4280, 2007; Rivera-Batiz, Francisco. «Democracy, Governance, and Economic Growth: Theory and Evidence» in: Review of Development Economics, Vol. 6, No. 2, 2002, pp. 225–247. ** См.: Mansfield, Edward and Snyder, Jack. Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War, Cambridge (Ma.): MIT Press, 2005; Chua, Amy. World on Fire, New York: Doubleday, 2003. 300 О глобальной демократии и содействии в ее развитии но-правовых механизмов*. Последним могут похвастаться лишь немногие развивающиеся страны; большинство пытается создать хотя бы основы правовой системы, которые сдерживали бы вопиющие нарушения права. Должны ли (или должны ли были) такие страны — а среди них столь разные Боливия, Камерун, Бангладеш, Иордания и Молдова, — дожидаться упрочнения дееспособного, эффективного государства с исправно работающими правовыми институтами, прежде чем начинать демократический транзит? Не в пользу идеи отложить демократизацию говорит следующая серьезная проблема: хотя многие авторитарные лидеры обещают построить эффективное государство и обеспечить верховенство закона, лишь единицы выполняют обещанное. Точнее, среди авторитарных режимов последнего поколения таковых было лишь малое число — в основном в Восточной Азии. В большинстве же развивающихся стран характерная слабость государственных институтов и удручающее состояние с соблюдением закона как раз являются наследием авторитарных режимов — от разношерстных каудильо в Латинской Америке до «отцов народа» в постколониальной Африке. Идея поставить жестких авторитарных лидеров у руля государственного строительства может показаться привлекательной, но в действительности мы видим очень противоречивые результаты. Отлаженные государственные механизмы и соблюдение законов по своей сути опасны для недемократических режимов. Например, основным средством эффективного государственного управления является аполитичная, технократическая, профессиональная система государственной службы. Диктаторы же не склонны терпеть бюрократические центры, которые не подчиняются их воле и выступают чем-то большим, нежели теплым местечком для их политических союзников. Не склонны они терпеть и открытые общественные дискуссии, в которых критика неэффективности государства может вскрыть недостатки режима. Иначе говоря, между традиционными моделями авторитаризма и условиями функционирования эффективного государства возникает фундаментальное противоречие. То же самое верно и в отношении правовой системы. Неотъемлемым условием ее функционирования является создание независимой судебной системы, способной применить нормы права даже к облеченным властью. Авторитарные же лидеры не склонны наделять другие ветви власти значительными полномочиями и независимостью. Они обычно используют судебные механизмы для подавления политических оппонентов и прикрытия союзников, а это напрямую противоречит духу закона. Правда, данный факт не свидетельствует о том, что в молодых демократиях становление государственно-правовой системы пойдет как по * См.: Carothers, Thomas. «The Sequencing Fallacy» in: Journal of Democracy, Vol. 18, No. 1, 2007, pp. 12–27. 301 Томас Каротерс маслу. Многие из них прикладывают неимоверные усилия, чтобы хоть немного продвинуться на этом пути. Но в отличие от авторитарных государств, природа их политического режима не противоречит основным принципам эффективной государственно-правовой системы. Наоборот, ряд присущих демократии черт способствует эффективности правового государства. Так, выборы предполагают подотчетность властей гражданам, что обеспечивает по меньшей мере мотивацию к добросовестному выполнению властями своих обязанностей. А свободная пресса, являющаяся, как правило, неотъемлемым элементом демократических обществ, — отличное средство обличения недостатков системы и оказания на нее давления со стороны граждан. Короче говоря, при всей их притягательности, надежды на последовательную демократизацию иллюзорны. Откладывание запуска демократизации якобы до становления эффективной государственно-правовой системы является лишь предлогом для сохранения авторитарного режима, а не продуманной стратегией развития. Как бы слабы ни были молодые демократии перед лицом задач государственного строительства, они, как правило, находятся в лучших условиях, чем авторитарные режимы. Демократизация всегда должна идти рука об руку с созданием эффективного государства и настоятельным внедрением принципа верховенства закона — все эти три процесса взаимосвязаны и взаимозависимы. Одновременное развитие этих процессов не обязательно предполагает стремительную демократизацию. Если страна не располагает необходимыми условиями и институтами, способными в перспективе поддержать развитие демократии, — например, если нет опыта политического плюрализма, социальные преобразования предпочтительно осуществлять постепенно. Скажем, систему выборов можно ввести сначала на местном уровне и только потом распространять до общенационального. Или можно сначала сконцентрироваться на создании демократической законодательной власти и только затем вводить систему открытых выборов в органы исполнительной власти. И теория последовательной демократизации, и теория постепенной демократизации (реформизм) требуют ответственного отношения к выбору времени для осуществления преобразований, однако подходят к этому вопросу по-разному. Реформизм предполагает безотлагательное начало процесса демократизации — пусть и маленькими шажками. Недобросовестная власть, конечно, может злоупотребить этой концепцией, тормозя демократизацию под предлогом необходимости двигаться не спеша. При искреннем же желании руководства страны развивать демократию данный подход может стать альтернативой необдуманно стремительному и иной раз чреватому опасными «подводными камнями» переходу от жесткого авторитаризма ко всецело демократической системе, вполне типичному для многих демократических транзитов «третьей волны». 302 О глобальной демократии и содействии в ее развитии Распространение демократии в мире Сложное положение, в котором оказалась в нынешнем десятилетии глобальная демократия, распространилось и на международную деятельность по содействию ее развитию. 1990-е годы прошли на пике усилий по продвижению демократии. В этот процесс были вовлечены многочисленные участники: министерства иностранных дел и специальные организации, создававшиеся развитыми демократическими странами; фонды, аффилированные с политическими партиями; частные западные институты и иные неправительственные организации; региональные (такие, как ОБСЕ) и межрегиональные (включая ООН) международные организации и т. д. Многие из принимавшихся мер представляли собой политику кнута и пряника: на недемократические режимы оказывалось давление с целью направить их по пути демократии; те же, кто уже шел этим путем, удостаивались похвал и поощрений. Другие меры носили нормативный характер и заключались в попытках заложить демократические принципы и нормы в новые международные инструменты (примером может служить Копенгагенская декларация СБСЕ 1991 года*). Некоторые меры состояли в конкретных программах содействия — в поддержку свободных и честных выборов, развития гражданского общества, соблюдения закона, развития парламентаризма, независимых СМИ, политических партий и т. д. Повышенная международная активность по содействию демократизации и сам процесс распространения демократии в мире были параллельны и взаимообусловлены. Чем больше стран осуществляло переход к демократии, тем больше усилий прикладывали страны с устоявшимися демократическими системами к тому, чтобы этот процесс не останавливался; а чем больше они прикладывали усилий, тем дальше шла демократизация. Всплеск международной активности по содействию демократическому транзиту был частью процесса стирания границ национального суверенитета в первые годы после окончания «холодной войны». Хотя многие страны по-прежнему ревностно относились к суверенитету, конец противостояния сверхдержав позволил ослабить бдительность и не видеть за каждым шагом на международной арене попытку либо одной, либо другой сверхдержавы упрочить свое геополитическое положение. Повсеместное замедление процесса демократизации в 2000-е годы и снижение международной активности в этом направлении — также параллельные процессы**. Немного появилось новых участников; не * Имеется в виду документ Второго совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, в котором впервые указано, что вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, а обязательства в области человеческого измерения не относятся к числу исключительно внутренних дел государств—членов СБСЕ. — Прим. ред. ** См.: Burnell, Peter and Youngs, Richard (eds.) New Challenges to Democratization, New York: Routledge, 2010. 303 Томас Каротерс сильно разнообразился спектр международного содействия демократии. Более того, развитие демократии попало даже в более жестокую геополитическую ловушку, чем в 1990-е. Самоуверенно использовав знамена демократизации для оправдания вторжения в Ирак в рамках войны с терроризмом, президент США Джордж Буш-мл. дискредитировал в глазах многих людей во всем мире как процесс распространения демократии в целом, так и проводников этого процесса в частности*. Многие стали видеть в «демократическом содействии» закамуфлированное распространение геополитического влияния США. Данное подозрение усилили «цветные революции» в Грузии, Туркмении и Украине, за которыми люди во многих странах заметили руку американского правительства. В результате действия по распространению демократии, особенно со стороны США, подверглись шквальной критике**. Правительства во многих странах и регионах (России, Китае, Иране, в арабском мире, странах Центральной Азии, Африке к югу от Сахары и Латинской Америке) начали ограничивать или вовсе блокировать продемократическую деятельность Запада. В ряде случаев доходило до прямого выдворения из страны иностранных активистов. В ход шли и законодательные меры — такие, как принятие законов, ограничивающих иностранную поддержку неправительственных организаций и политических партий. Например, российское руководство попыталось «дипломатично» ограничить деятельность ОБСЕ, особенно в сфере мониторинга выборов. В некотором отношении странно, что такие устойчивые правительства, как российское и китайское, могут быть обеспокоены или напуганы скромными программами содействия демократии, затрагивающими относительно незначительные внутриполитические сегменты. Независимые эксперты, анализировавшие роль международного фактора в «цветных революциях», пришли к выводу, что она гораздо скромнее и несущественнее, чем принято считать***. Более того, политологи, занимавшиеся данной проблемой, выделили ряд политических признаков и событий, которые обусловили подобные электоральные катаклизмы, отнеся к их числу прежде всего определенную степень открытости политической системы в сочетании со слабым руководством. Большинство же государств, противящихся внешнему содействию * См.: Carothers, Thomas. Democracy Promotion During and After Bush, Washington (DC): Carnegie Endowment for International Peace, 2007. ** См.: The Backlash Against Democracy Assistance, Washington (DC): National Endowment for Democracy, June 2006; Carothers, Thomas. «The Backlash Against Democracy Promotion» in: Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2, March-April 2006, pp. 55–68. *** См.: McFaul, Michael. «Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution» in: International Security, Vol. 32, No. 2, pp. 45–83; Carothers, Thomas. «Ousting Foreign Strongmen: Lessons from Serbia» in: Carnegie Endowment Policy Brief, May 2001. 304 О глобальной демократии и содействии в ее развитии демократии, не подпадает под это определение; для них характерна бо´льшая закрытость политической системы и малоуязвимое руководство. В то же время не удивительно, что лидеры разных стран испытывают опасения относительно западных программ содействия демократии, — ведь среди институтов, работающих в этой сфере, имеются и вполне целеустремленные и профессиональные организации с десятилетиями опыта за плечами. К тому же большинство американских организаций подобного рода финансируются в основном властями США и потому не могут быть свободны от императивов американской внешней политики. Как правило, массовые протесты и резкие политические перемены, характерные для «цветных революций», трудно предсказуемы, а перспектива всплесков народного недовольства способна обеспокоить даже самое крепкое и устоявшееся правительство. К тому же ряд стран, оказывающих сопротивление поборникам демократии, в прошлом уже сталкивались с акциями массового протеста и политическими потрясениями и потому чувствительны к подобным событиям. Например, некоторые иранские лидеры, «закручивающие гайки» в отношении своих граждан, участвующих, по их мнению, в спонсируемых Западом заговорах с целью свержения правительства, объясняют, что они прекрасно осознают, сколь опасными могут быть протестные движения. Их собственная исламская революция в конце 1970-х, как они говорят, и была по сути первым примером того, как народ может сбросить власть, что и заставляет их с особой осторожностью относиться к сегодняшней оппозиции. Реакция западных стран на отпор распространению демократии различна. Европейские правительства, встретившись с враждебностью, которой они не ожидали и, по их мнению, не заслуживали, в последние пять лет постарались сбавить напор, более характерный для американцев, и предпочли идти путем постепенного развития, предполагающего поддержку реформ в сфере госуправления и содействие государственному строительству; в целом, их подход более технократичен, чем политичен*. Официальная реакция США на противодействие распространению демократии претерпела изменения. Во время президентства Джорджа Буша-мл. Америка продолжала упорствовать в своих явно политизированных попытках распространить демократию; при этом любое сопротивление пытались изобличить как реванш авторитаризма. Например, столкнувшись в Иране с резкой критикой в адрес программ развития демократии, администрация Джорджа Буша-мл. не отступилась от их финансирования и не попыталась действовать более деликатно**. * См.: Carothers, Thomas. «Democracy Assistance: Political vs. Developmental?» in: Journal of Democracy, Vol. 20, No. 1, pp. 5–19. ** См.: Maloney, Suzanne. «Fear and Loathing in Tehran» in: National Interest, No. 89, Fall 2007, pp. 42–48. 305 Томас Каротерс Подход начал меняться с приходом к власти Барака Обамы, который в рассуждениях о демократии и ее распространении расставляет совершенно иные акценты. Он не прибегает к яростной риторике о «развитии свободы» во всем мире; говорит, что США не будут пытаться навязать демократию другим; признает, что демократия может принимать различные формы и ошибочно отождествлять избирательную систему с демократией. После непростых выборов, состоявшихся в Иране в июне 2009 года, Обама воздержался от критики явных нарушений прав человека со стороны властей Тегерана и сфокусировался на установлении дипломатических контактов с иранским правительством*. Отпор, с которым столкнулись организации, занимающиеся содействием демократии, поставил перед ними сложные вопросы. Прежде всего, как определить меру легитимного политического вмешательства одного государства в дела другого? Должно ли оно быть нейтральным, или при определенных обстоятельствах оправданно занимать ту или иную политическую позицию? Несмотря на несколько десятилетий неуклонного распространения программ построения демократии по всему миру, наработано на удивление мало формальных принципов, регламентирующих эту сферу. Ни активисты продемократических движений, ни их противники не могут сослаться на какой бы то ни было свод норм, касающихся приемлемых форм участия в процессе демократизации за рубежом. Активное содействие демократии в 1990-е годы привело к закреплению определенных практик, которые проводники демократии стали считать нормативными. Например, от молодых и пока слабых демократий ожидалось, что с целью повышения у международного сообщества доверия к их избирательному процессу они должны допускать на выборы внешних наблюдателей. Также предполагалось, что принятие помощи от зарубежного правового государства является нормой для открытого, демократического режима. Однако это были взгляды проводников демократии, и они совсем не обязательно совпадали с точкой зрения «реципиентов». Наиболее политически активные организации, содействующие демократии, настаивают на том, что, поддерживая оппозиционные коалиции или общественные организации, критикующие правительство, они на самом деле беспристрастны и служат более высокому принципу — факту свободных и честных выборов. Их доводы состоят в том, что поддержать ту или иную сторону зачастую необходимо * Об американской политике в сфере распространения демократии после ухода администрации Буша см.: McFaul, Michael. Advancing Democracy Abroad: Why We Should and How We Can, Lanham (Md.): Rowman & Littlefield Publishers, 2009, а также: Democracy in U.S. Security Strategy: From Promotion to Support, Washington (DC): Center for Strategic and International Studies, 2009; Piccone, Theodore J. (ed.) Regime Change by the Book: Constitutional Tools to Preserve Democracy, Washington (DC): Democracy Coalition Project, 2004. 306 О глобальной демократии и содействии в ее развитии ради обеспечения большей соревновательности выборов, поскольку стоящие у власти могут незаконно использовать административный ресурс против своих оппонентов и таким образом обманным путем сохранить посты. С их точки зрения, поддержка оппозиционным силам не обязательно оказывается с целью помочь на выборах конкретным партиям, но ради обеспечения более здоровых демократических выборов. Руководство же стран—реципиентов демократической помощи возражает, заявляя, что в своей стране оно вольно проводить выборы по собственным правилам. Признавая большинство выборов неидеальными, лидеры таких стран полагают, что проблемы демократизации их страны находятся в поле их собственной ответственности, а не ответственности внешних организаций, действующих от лица других стран, которые могут преследовать при этом более серьезные стратегические или экономические интересы. Каждая из сторон чувствует за собой правоту, при этом цепь их аргументов — это диалог глухих. Когда организации, содействующие демократии, перестают допускаться в страну, они иногда прекращают свои усилия, но чаще продолжают действовать извне. Такая деятельность может принимать различные формы: финансирование оппонентов режима в изгнании, организация выездов активистов демократических сил в соседние государства с целью политической подготовки, финансирование демократических сил через опосредованные каналы. Надо иметь в виду, что бо´льшая часть мер в сфере распространения демократии не вызывает полемики и протекает в рутинном режиме во многих различных политических контекстах, затрагивая почти все регионы мира. И лишь относительно небольшой круг вопросов вызывает серьезные разногласия, привлекая к себе несоразмерно большое внимание. Заглядывая в будущее В ближайшие десять–двадцать лет вряд ли стоит ожидать сколько-нибудь значительной новой волны демократизации. Количество в полной мере авторитарных режимов на сегодняшний день в мире невелико — примерно 25% (около 50 государств). В основном это страны с деспотичными режимами, находящиеся в определенной изоляции. Меньшую часть составляют государства, обеспечившие своим гражданам достойный уровень социально-экономического развития за счет здравой экономической политики (Китай, Вьетнам) или значительных доходов от экспорта нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ). В государствах первой группы благодаря успешным мордернизациям внутреннее давление в сторону перемен ощущается меньше. Государства же второй группы отличаются высокой сопротивля- 307 Томас Каротерс емостью реформам по причине своей замкнутости перед лицом внешнего мира. Таким образом, недостатка в готовых к демократическому транзиту авторитарных государствах нет. Возможно, в ближайшие годы падут по крайней мере некоторые из наиболее деспотичных режимов, однако тяжкое наследие абсолютизма, которое будет довлеть над политической жизнью после крушения авторитаризма, затруднит демократизацию. В этом случае вероятнее всего дрейф в сторону полуавторитарных форм правления. Некоторые из наиболее успешных в социально-экономическом плане авторитарных государств, возможно, в ближайшие десятилетия начнут движение в сторону демократии, по мере того, как их граждане, обретая все больший достаток, станут требовать и бо´льших политических свобод. Однако этот процесс трансформации, видимо, снова обойдет стороной нефтедобывающие страны в силу их структурной привязанности к авторитарной форме правления, коренящейся в патернализме и клиентализме. В то же время маловероятен «откат» в странах, в последние десятилетия добившихся определенного успеха на пути демократических преобразований. Несмотря на то, что многие из этих государств еще только борются за улучшение качества жизни, опросы общественного мнения повсеместно показывают, что почти в каждом регионе демократия считается наиболее предпочтительной формой правления. Многие люди недовольны находящимся в данный момент у власти руководством, но они по-прежнему привержены идеалам демократии в целом. Это объясняется тем, что, во-первых, у граждан молодых демократий сильны воспоминания о недостатках авторитаризма, вовторых, они видят, что большинство стран, демонстрирующих высокий уровень человеческого развития, — это демократии. Глобального «отката» мировой демократии также не предвидится — в силу неумолимого распространения коммуникационных технологий. Они обеспечивают трансграничное распространение политических знаний и идей и ограничивают нелиберальные режимы в их стремлении не допустить собственных граждан к всевозможным источникам информации. Конечно, противники демократии могут использовать новейшие коммуникационные технологии в собственных целях — что они часто и делают, однако в целом увеличение обмена информацией в общемировом масштабе способствует политической открытости и просвещению. Распространение информации неподконтрольно ни какому-то одному правительству, ни группе правительств, напротив — это крайне децентрализованное явление, наделяющее человека новыми возможностями независимо от желания властей. 308 О глобальной демократии и содействии в ее развитии В ближайшие годы вряд ли претерпит значительные изменения международное движение в поддержку демократии. Во внешнеполитическом ведомстве США немного желающих вернуться к тактике навязчивого распространения демократии, взятой на вооружение в президентство Джорджа Буша-мл. Скорее всего мы входим в период относительно сдержанных попыток содействия демократии, в которых ни одно государство не будет играть доминирующей роли и которые будут направлены на более широкие цели развития — прежде всего на реформирование систем управления и государственное строительство. Власти западных стран продолжат поддерживать организации, содействующие демократии, в стремлении выстроить широкий консенсус и обеспечить бо´льшую легитимность подобной деятельности. Программа развития ООН уже стала одной из ведущих организаций в сфере распространения демократии. Фонд демократии Организации Объединенных Наций также вносит свою лепту в работу в данной сфере. И все же деятельность международных институтов по распространению демократии подвержена определенным ограничениям. Консенсус среди стран—участниц этой деятельности достигается медленно, и в результате вырабатываются относительно скромные программы. Например, Организация американских государств занимается содействием демократии вот уже почти двадцать лет, но остается очень слабым игроком. Подводя итог, можно сказать, что наступает время, когда мировая демократия будет прогрессировать медленно, но верно. Периодически будут возникать новые демократии — иногда вследствие кончины престарелого диктатора или самопроизвольного крушения нелиберального режима. Однако наибольший успех в деле демократизации придется на молодые и переходные демократии. По некоторым подсчетам, 60% всех демократий неполноценны и серьезно страдают от институциональной слабости, которая не позволяет им развиваться*. Более того, многие слабые демократии сегодня пытаются обеспечить своих граждан хотя бы основными общественными благами, часто сталкиваясь с социальным недовольством и разочарованием в демократической системе. Укрепление таких демократий станет основной задачей в деле международного содействия демократии — ведь нельзя допустить, чтобы они снова поддались на соблазны авторитаризма. И хотя реформирование уже существующих демократий — это, быть может, и не столь захватывающее действо, как борьба за учреждение новых, общественная выгода от нее не менее ощутима, а вклад в дело свободы не менее весом. Перевод А. Шаховой * См.: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy, 2008. 309 Томас Каротерс Источники The Backlash Against Democracy Assistance, Washington (DC): National Endowment for Democracy, June 2006. Baum, Matthew and Lake, David. «The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital» in: American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2, 2003. Burnell, Peter and Youngs, Richard (eds.) New Challenges to Democratization, New York: Routledge, 2010. Carothers, Thomas. «The Backlash Against Democracy Promotion» in: Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2, March–April 2006. Carothers, Thomas. «Democracy Assistance: Political vs. Developmental?» in: Journal of Democracy, Vol. 20, No. 1, 2009. Carothers, Thomas. Democracy Promotion During and After Bush, Washington (DC): Carnegie Endowment for International Peace, 2007. Carothers, Thomas. «Ousting Foreign Strongmen: Lessons from Serbia» in: Carnegie Endowment Policy Brief, May 2001. Carothers, Thomas. «The Sequencing Fallacy» in: Journal of Democracy, Vol. 18, No. 1, 2007. Carothers, Thomas. Stepping Back from Democratic Pessimism, Carnegie Endowment Paper No. 99, February 2009. Chua, Amy. World on Fire, New York: Doubleday, 2003. Democracy in U.S. Security Strategy: From Promotion to Support, Washington (DC): Center for Strategic and International Studies, 2009. Diamond, Larry. «The Democratic Rollback?» in: Foreign Affairs, Vol. 83, No. 6, November–December 2008. Doucouliagos, Hristos and Ulubasoglu, Mehmet Ali. «Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis» in: American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 1, 2008. Halperin, Morton; Siegle, Joseph and Weinstein, Michael. The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, New York: Routledge, 2005. Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo. Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996–2004, World Bank Policy Research Working Paper No. 4280, 2007. Mansfield Edward and Snyder, Jack. Electing To Fight: Why Emerging Democracies Go to War, Cambridge (Ma.): MIT Press, 2005. McFaul, Michael. Advancing Democracy Abroad: Why We Should and How We Can, Lanham (Md.): Rowman & Littlefield Publishers, 2009. McFaul, Michael. «Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution» in: International Security, Vol. 32, No. 2. Maloney, Suzanne. «Fear and Loathing in Tehran» in: National Interest, No 89, Fall 2007. Piccone, Theodore J. (ed.) Regime Change by the Book: Constitutional Tools to Preserve Democracy, Washington (DC): Democracy Coalition Project, 2004. Rivera-Batiz, Francisco. «Democracy, Governance, and Economic Growth: Theory and Evidence» in: Review of Development Economics, Vol. 6, No. 2, 2002. 310 ОБ АВТОРАХ Даниэле АРКИБУДЖИ — итальянский социолог и политический философ, выпускник римского университета «La Sapienza», профессор Бирбек-колледжа Лондонского университета. Преподавал в Кембриджском и Гарвардском университетах, почетный профессор Университета Сассекса (Великобритания). Директор Национального исследовательского совета Италии. Крупнейший специалист по проблеме космополитизма и демократии, автор книг «Космополитическая демократия. Эскиз нового миропорядка» (совместно с Дэвидом Хелдом, 1995) и «Глобальное сообщество граждан: на пути к космополитической демократии» (2008). Зигмунт БАУМАН — выдающийся британский философ польского происхождения, автор 57 книг и более двух тысяч научных статей, среди которых «Идеи, идеалы, идеология» (1964), «Между классом и элитой» (1972), «Этика постмодерна» (1993), «Глобализация: последствия для человека» (1998), «Индивидуализированное общество» (2001), «Европа: неоконченный проект» (2004). Один из самых известных в мире исследователей транформации общества в эпоху постмодерна и процессов глобализации. Почетный профессор Университета Лидса (Великобритания). С сентября 2010 года – президент Института Баумана при Университете Лидса. Даниел БЕЛЛ — один из величайших ныне живущих социологов, с 1970 по 1990 год возглавлявший кафедру социологии в Гарвардском университете, создатель и один из признанных классиков теории постиндустриального общества. Почетный профессор Гарвардского и десяти зарубежных университетов. Член Американской Академии искусств и наук и многих зарубежных академий. Автор более пятнадцати книг, из которых две — «Конец идеологии» (1960) и «Культурные противоречия капитализма» (1978) включены литературным приложением газеты Times в список ста наиболее влиятельных книг второй половины ХХ столетия. 311 Об авторах Джон ДАНН — британский историк и социолог, один из крупнейших в мире специалистов по истории и теории демократии. С 1987 года — профессор (с 2002-го — почетный профессор) Кингсколледжа Кембриджского университета. Автор 15 книг, среди которых «Революции Нового времени» (1972), «Переосмысливая современную политическую теорию» (1985) и «Освобождая народы: история демократии» (2005). Почетный член нескольких зарубежных академий. Рональд ИНГЛХАРТ — выдающийся специалист по прикладной и теоретической социологии, один из создателей концепции постматериалистической мотивации, автор более 300 научных публикаций. Профессор Мичиганского университета, основатель и президент организации World Values Survey — социологического сообщества, с 1970-х годов ведущего мониторинг ценностных установок жителей более чем 80 стран мира. Среди его наиболее известных книг – «Молчаливая революция» (1977), «Культурный сдвиг в развитом индустриальном обществе» (1990), «Модернизация и постмодернизация» (1997), «Священное и светское» (2004) и «Космополитические коммуникации» (2009) (последние две — совместно с Пиппой Норрис). Владислав ИНОЗЕМЦЕВ — российский экономист, доктор экономических наук (1999), основатель и директор действующего с 1996 года Центра исследований постиндустриального общества, издатель и главный редактор (с 2003 года) ежемесячного журнала «Свободная мысль». Автор 12 книг, среди которых – «За пределами экономического общества» (1998), «Расколотая цивилизация» (1999), «На рубеже эпох» (2002), «Эпоха разобщенности» (совместно с Даниелом Беллом, 2007), а также более тысячи статей в научных и периодических изданиях. Постоянный колумнист газет «Ведомости» и «Известия». Томас КАРОТЕРС — американский специалист по политической теории, признанный эксперт по проблемам распространения демократии в мире и внешней политике демократических стран. Вицепрезидент по научной работе и организации исследований Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне. Автор более десяти книг, среди которых «Помогая демократии за рубежом» (1999), «Нехоженными тропами: продвижение демократии на Ближнем Востоке» (2005) и «Встречаясь со слабым звеном: помощь политическим партиям в новых демократических государствах» (2006). 312 Об авторах Виктор КРАСИЛЬЩИКОВ — российский экономист, доктор экономических наук (2002), заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН, один из ведущих специалистов по проблемам экономической модернизации, автор книг «Модернизация: Зарубежный опыт и Россия» (в соавторстве, 1994), «Вдогонку за прошедшим веком» (1998), «Подъем и упадок догоняющего развития» (2008, «Человеческое развитие и изменения в мировой системе» (2010), руководитель рабочей группы «Трансформации в мировой системе» Европейской Ассоциации исследовательских и учебных институтов по проблемам развития (EADI). Иван КРАСТЕВ — известный болгарский политолог и историк, один из основателей, председатель правления и директор исследовательских программ действующего в Софии с 1994 года Центра либеральных стратегий, с 2005 года – издатель и главный редактор болгарской версии американского политологического журнала Foreign Policy. Член Европейского Совета по внешней политике. Автор нескольких книг, последняя из которых – «Антиамериканское столетие» (2007). Екатерина КУЗНЕЦОВА — российский политолог, директор европейских программ Центра исследований постиндустриального общества, специалист по проблемам ограниченного суверенитета и региональных интеграционных процессов. Автор книги «Возвращение Европы. Штрихи к портрету Старого Света в новом столетии» (совместно с Владиславом Иноземцевым, 2003) и более ста статей в российских и зарубежных научных и периодических изданиях. Юй КЭПИН — китайский политолог и историк, специалист по проблемам компаративистики и истории политической системы Китая, заместитель директора Бюро переводов при Центральном Комитете КПК, руководитель Всекитайского центра сравнительных экономических и политических исследований, профессор Пекинского университета. Один из инициаторов научно-политической дискуссии о путях развития китайской демократии, автор нескольких книг (наиболее известна «Демократия – это вещь хорошая» [2008], изданная на английском языке) и более ста статей в научных изданиях и периодической печати. Алексей МИЛЛЕР — российский историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, профессор Центрально-Европейского 313 Об авторах университета в Будапеште, специалист по проблемам политической истории России и стран Восточной Европы, автор ряда книг, в том числе «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века)» (2000), «Империя Романовых и национализм» (2006), «Западные окраины Российской империи» (2006, в соавторстве), и десятков научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. Доминик МУАЗИ — французский историк и политолог, специалист по проблемам политической историии европейских стран и современной геополитики, основатель Французского института международных отношений (IFRI), долгое время занимавший в нем посты заместителя директора и советника. Профессор Высшей школы политических наук в Париже, заведующий кафедрой Европейского колледжа в Варшаве, автор нескольких книг, среди которых ставшая международным бестселлером «Геополитика эмоций» (2008), постоянный колумнист газеты Financial Times. Эдриан ПАБСТ — немецко-британский историк и политический философ, большая часть карьеры которого связана с Люксембургом и Великобританией, специалист в области истории религии и политических форм, профессор Университета Кента (Великобритания) и приглашенный профессор Института политических исследований в Лилле (Франция), заместитель (с 2008 года) главного редактора журнала Telos. Постоянный автор газет International Herald Tribune и The Guardian. Глеб ПАВЛОВСКИЙ — российский политолог и политический консультант, специалист по политической истории советской и постсоветской России; в прошлом советский диссидент. Соучредитель и президент Фонда эффективной политики. Директор Русского института, главный редактор «Русского журнала». Автор сотен статей в российских журналах и периодической печати. С 1996 по настоящее время – советник Администрации Президента РФ. Профессор Высшей школы экономики. Андрей РЯБОВ — российский историк и политолог, кандидат исторических наук, признанный специалист в области политической истории России и сравнительных социально-политических исследований. Член Научного совета Московского Центра Карнеги, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения». Автор ряда книг, в том числе «Философия власти» 314 Об авторах (1993), «Формирование партийно-политической системы в России» (1998) и «Самобытность против модернизации» (2005) и множества статей в периодической печати. Марк УРНОВ — российский экономист и социолог, кандидат экономических и доктор политических наук, в 1994–1996 годах – руководитель Аналитического управления Президента Российской Федерации, декан (с 2004 года) и научный руководитель (с 2010 года) факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, координатор общественного клуба «Открытый форум». Автор и соавтор нескольких книг, в том числе «Средний класс в России: количественные и качественные оценки» (2000) и «Современная Россия: вызовы и ответы» (2004), а также более трехсот статей в российской и зарубежной печати. Параг ХАННА — молодой американский специалист по политической теории и социолог, старший научный сотрудник New America Foundation, ранее работавший в Совете по внешней политике, Институте Брукингса и аппарате Всемирного экономического форума. Получив докторскую степень в Лондонской школе экономики, он «ворвался» в глобальную научную элиту с выходом в свет провокационной книги «Второй мир» (2008), в которой предложена новую концепция геополитики для XXI столетия. Автор десятков статей в периодической печати в США и Европе. Амитаи ЭТЦИОНИ — выдающийся американо-израильский социолог, основатель теории коммунитаризма и общественной организации Сommunitarian Network, профессор Университета им. Джорджа Вашингтона и директор Института коммунитарно-политических исследований. В 1994–1995 годах избирался президентом Американской социологической ассоцииации. Автор 24 книг, в том числе «Сравнительный анализ комплексных организаций» (1961), «Новое золотое правило» (1997), «От империи к сообществу» (2004) и «Безопасность превыше всего: за жесткую, нравственную внешнюю политику» (2007). Почетный профессор 16 американских и иностранных университетов. 315 СОДЕРЖАНИЕ Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Часть первая. Общая теория демократии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Демократия и права: великая дилемма нашего времени . . . . . . . . . .13 Даниел Белл, почетный профессор Гарвардского университета (США) Демократия как фантом, мечта и реальность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Джон Данн, почетный профессор кафедры политической теории Кингс-колледжа Кембриджского университета (Великобритания) «Универсальная ценность» у «естественного предела»? . . . . . . . . . 41 Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, главный редактор журнала «Свободная мысль» (Россия) От агоры к рынку — и куда потом?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Зигмунт Бауман, почетный профессор Универстета Лидса (Великобритания) Ниспровергнуть авторитарное большинство: непростая задача . . . . . 73 Марк Урнов, доктор политических наук, научный руководитель факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ (Россия) Часть вторая. Практика демократизации и ее особенности . . . . . . . . . . . . 89 От демократии XIX века к демократии XXI-го: каков следующий шаг? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Алексей Миллер, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета (Россия) Горькое торжество демократии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Доминик Муази, специальный советник Французского института международных отношений, заведующий кафедрой Европейского колледжа в Варшаве (Франция) 316 Демократия в Китае: вызов или шанс? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Юй Кэпин, директор Всекитайского центра сравнительных экономических и политических исследований (КНР) Демократия и ее использование в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики (Россия) Демократия и разочарованность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Иван Крастев, директор Института либеральных стратегий (Болгария) Часть третья. Демократия и модернизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Модернизация и демократия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Рональд Инглхарт, профессор Мичиганского университета, президент организации World Values Survey (США) Демократизация и модернизация в контексте трансформаций постсоветских стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Андрей Рябов, член научного совета Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «МЭиМО» (Россия) Демократия или эффективность: вызов XXI века . . . . . . . . . . . . . . 201 Параг Ханна, директор программы глобальных исследований New America Foundation (США) От авторитаризма к демократии на путях модернизации: общее и особенное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Виктор Красильщиков, доктор экономических наук, заведующий сектором ИМЭМО РАН (Россия) Рыночное государство и постдемократия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Эдриан Пабст, профессор отделения политических наук Универстета Кента (Великобритания) Часть четвертая. Демократия в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Меньше — значит больше: нравственные достоинства политического минимализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Амитаи Этциони, директор Института коммунитарных политических исследований, профессор университета Джорджа Вашингтона (США) Надежды на глобальную демократию как вызов XXI века . . . . . . 267 Даниэле Аркибуджи, директор Национального исследовательского совета Италии, профессор Бирбек-колледжа Лондонского университета (Италия) Демократия в эру ограниченного суверенитета . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Екатерина Кузнецова, руководитель европейских программ Центра исследований постиндустриального общества (Россия) О глобальной демократии и содействии в ее развитии . . . . . . . . . 297 Томас Каротерс, директор по научным исследованиям Фонда Карнеги за международный мир (США) Об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 318 Научное издание ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ К ДИСКУССИИ О ВЫЗОВАХ XXI ВЕКА Научный редактор В.Л. Иноземцев Компьютерная верстка Б.А. Азаров Корректор А.А. Лебедева АНО «Центр исследований постиндустриального общества» 101000, Москва, Милютинский переулок, д. 2 Тел. +7(495)621-4578, факс +7(495)621-3435 www.postindustrial.net Издательство «Европа» 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9/8, стр. 3а Тел./факс (495) 629-52-97 e-mail: info@europublish.ru www.europublish.ru Подписано в печать 23.08.2010 Тираж 2000 экз. Отпечатано с оригинал-макета в типографии «Момент» 141406, г. Химки, ул. Библиотечная, 11.