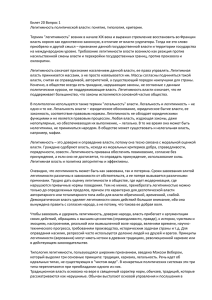легитимность режимов и кризис доверия
реклама
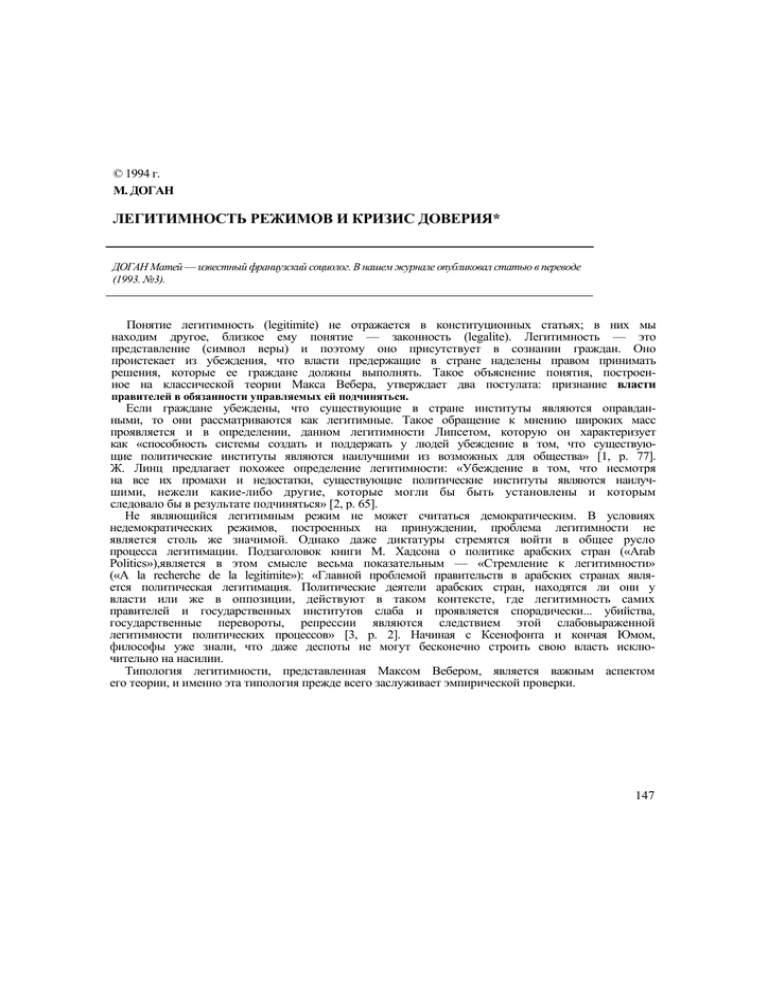
© 1994 г. М. ДОГАН ЛЕГИТИМНОСТЬ РЕЖИМОВ И КРИЗИС ДОВЕРИЯ* ДОГАН Матей — известный французский социолог. В нашем журнале опубликовал статью в переводе (1993. №3). Понятие легитимность (legitimite) не отражается в конституционных статьях; в них мы находим другое, близкое ему понятие — законность (legalite). Легитимность — это представление (символ веры) и поэтому оно присутствует в сознании граждан. Оно проистекает из убеждения, что власти предержащие в стране наделены правом принимать решения, которые ее граждане должны выполнять. Такое объяснение понятия, построенное на классической теории Макса Вебера, утверждает два постулата: признание власти правителей в обязанности управляемых ей подчиняться. Если граждане убеждены, что существующие в стране институты являются оправданными, то они рассматриваются как легитимные. Такое обращение к мнению широких масс проявляется и в определении, данном легитимности Липсетом, которую он характеризует как «способность системы создать и поддержать у людей убеждение в том, что существующие политические институты являются наилучшими из возможных для общества» [1, р. 77]. Ж. Линц предлагает похожее определение легитимности: «Убеждение в том, что несмотря на все их промахи и недостатки, существующие политические институты являются наилучшими, нежели какие-либо другие, которые могли бы быть установлены и которым следовало бы в результате подчиняться» [2, р. 65]. Не являющийся легитимным режим не может считаться демократическим. В условиях недемократических режимов, построенных на принуждении, проблема легитимности не является столь же значимой. Однако даже диктатуры стремятся войти в общее русло процесса легитимации. Подзаголовок книги М. Хадсона о политике арабских стран («Arab Politics»),является в этом смысле весьма показательным — «Стремление к легитимности» («A la recherche de la legitimite»): «Главной проблемой правительств в арабских странах является политическая легитимация. Политические деятели арабских стран, находятся ли они у власти или же в оппозиции, действуют в таком контексте, где легитимность самих правителей и государственных институтов слаба и проявляется спорадически... убийства, государственные перевороты, репрессии являются следствием этой слабовыраженной легитимности политических процессов» [3, р. 2]. Начиная с Ксенофонта и кончая Юмом, философы уже знали, что даже деспоты не могут бесконечно строить свою власть исключительно на насилии. Типология легитимности, представленная Максом Вебером, является важным аспектом его теории, и именно эта типология прежде всего заслуживает эмпирической проверки. 147 Устарелость классической типологии Типология, разработанная Вебером, была успешно применена во многих исторических исследованиях: «Начиная с Вебера, мы неустанно относили явления легитимности к той или иной из предложенных им трех категорий, показывая, как харизматическая власть превращается во власть традиционную, которая в свою очередь преобразуется в рациональнозаконную власть» [4, р. 15]. Исторически, традиционная власть и власть харизматическая проявляются в авторитарных режимах. Что касается законно-рациональной власти, то ее проявления обнаруживают как в плюралистических демократиях, которые являются легитимными, так и в авторитарных системах, которые являются таковыми в очень малой степени или же не являются вовсе. Таким образом, веберовская типология непосредственно не отражает взаимосвязи легитимности и демократии. На протяжении многих веков, вплоть до свершения американской и французской революций, независимые страны (за исключением Швейцарии и Англии в течение короткого периода) управлялись наследственной королевской властью. На рубеже века папа Лев XIII провозгласил в своей энциклике «Immortale Dei», что «власть тех, кто правит, будучи выражением власти Бога на земле, приобретает особое достоинство, стоящее выше человеческого». Но два десятилетия спустя четыре императора: один — католик, второй — протестант, третий — православный христианин и четвертый — мусульманин, были свергнуты с тронов, утратив свою легитимность. В еще существующих поныне, в конце текущего столетия, монархиях королевская власть выполняет чисто символическую, мифическую или церемониальную роль (феномен императорской власти в Японии вызывает наибольший интерес) [5]. В современных демократических государствах монарху приходится играть политическую роль лишь в определенные исторические моменты, как, например, в Испании или Бельгии, роль, которую с полным успехом мог бы выполнить законный президент. Традиционная легитимность королевской власти является реальным феноменом для большей части населения лишь в некоторых странах (Марокко, Саудовской Аравии, Иордании, Омане, Кувейте, Непале). Поскольку традиционная легитимность «божественного права» постепенно исчезает, веберовская типология утрачивает один из своих элементов. Немногие термины получили в социологической литературе столь большую популярность, как термин «харизма». Но некоторые авторы им злоупотребляют. Они пользуются им для обозначения явлений, различных по своей природе. Сегодня наиболее частым примером этого является определение феномена персонализации власти, который порой может приобретать крайние формы своего выражения, такие, как культ личности или организованное политическое поклонение. В далеком прошлом харизматический лидер всегда выступал в религиозном контексте — эталонами служат Моисей, Давид и Магомет. Понятие харизма, заимствованное Максом Вебером у теолога Рудольфа Зона, имеет очевидный религиозный оттенок. Поэтому оно мало применимо к современным секуляризованным обществам, даже если и остается полезным в качестве «идеального типа» для некоторых исторических исследований. XIX век (1815—1918 гг.) дает мало примеров харизматического лидерства, поскольку Европа в том виде, в каком она была реорганизована Меттернихом после падения Наполеона, управлялась монархами, которые, воплощая собой традиционную легитимность, пользовались плодами достижений героев, таких как Гарибальди, или таких политических деятелей, как Бисмарк, Дизраэли или Гладстон, кому в действительности и принадлежали заслуги. Построение после второй мировой войны новых государств-наций в Азии и в Африке вызвало появление творцов-основоположников (peres-fondateurs), которые очень быстро и почти все (за исключением весьма примечательного примера Индии) стали воинствующими пророками, политическими жрецами или всенародно избранными диктаторами. Но исторический период, ознаменованный нарождением новых государств-наций, поклоняющихся своим основателям — Бургиба (Тунис) здесь служит наиболее ярким примером — почти закончился, поскольку в мире остается очень немного народов, таких, как курды, не имеющих своего независимого государства. Большинство стран «третьего мира» имеют политическую систему, хорошо исследованную политологами, которую определяют как «авторитарно-бюрократическую». Все эти режимы, которые родились в результате государственного переворота, обладают слабым потенциалом легитимации. Социологи и политологи слишком преувеличили важность харизматического феномена, 148 тогда как историки, располагающие, несомненно, большими документальными данными, сумели противостоять такому искушению. Те, кто сегодня водружает портреты Ленина, Мао, Гитлера, Перона или Димитрова, исходят из множества различных факторов, сводящих харизму к совмещению образа, который лидеру удалось создать самому себе, с чаяниями определенной части народных масс — лучшим примером здесь может служить Насер. Некоторые исследователи, такие, как Давид Аптер, предложили для ряда африканских стран такое определение этого феномена — «политическая религия». Если вчерашнее подчинение харизматической власти остается неоспоримым историческим фактом, следует, тем не менее, подчеркнуть, что перерождение харизматического феномена в организованный культ возвеличивания лидера и режим тирании стало наиболее частым явлением, нежели закрепление практики представления харизмы в форме новых легитимных институтов. В XIX веке понятие харизма было применено лишь к небольшому числу лидеров. Его применение к такому тирану, как Сталин, боготворимому партией-государством, или же к такому «комедианту» (commediante), как Муссолини — называемому так многими итальянцами в 30-е годы — является для большинства людей ошибкой социологической интерпретации. Существование на современном этапе ограниченного числа личностей, являющихся носителями подлинной харизматической власти — таких, как Ганди, Ататюрк, Хомейни и ряд других, — сводит тип харизматической легитимности в разряд ограниченной аналитической категории. Сегодня в веберовской типологии сохраняется полноценным лишь тип легально-традиционно-бюрократической легитимности. Типология, которая в процессе своей эмпирической проверки суживается до такой степени, перестает быть плодотворной. Она становится неадекватным инструментом, который остается, однако, полезным для исторических исследований. Тот факт, что для обозначения единственного полноценного типа мы используем несколько терминов: власть легально-рационально-бюрократическая — свидетельствует о том, что этот тип является очень неоднородным, своего рода сплавом большого числа разновидностей. В этом сплаве мы можем выделить по крайней мере четыре разновидности. Прежде всего — это развитые плюралистические демократии, которые признаются большинством граждан как легитимные. Согласно определению, которое мы здесь принимаем, в 1992 г. в мире можно было насчитать от 30 до 35 демократических режимов, чья легитимность прочно признается в течение уже более 20 лет. Вторую категорию представляют авторитарно-бюрократические режимы (см.: О'Донелл и Риггс), где основные гражданские права соблюдаются лишь частично, и где государственное управление осуществляется либо гражданскими лицами, либо военными. Очевидно, существует большое разнообразие таких авторитарных режимов. И вопрос, который следует задать в связи с этим, не в том, являются ли они легитимными или нет, но, избегая такого дихотомического подхода как слишком упрощенческого, выяснить, обращаясь в данном случае к терминологии Истона, насколько «широкой поддержкой» («appui diffus») они пользуются у населения. Третью категорию составляют режимы диктаторские, деспотические или тоталитарные, ненавидимые подавляющим большинством населения страны, даже если ему и не удается открыто выступить против их нелегитимности. Отсутствие открытого возмущения вовсе не означает приверженности режиму (его принятие), так как открытое выступление возможно лишь в определенных исторических условиях, когда режим вынужден нарушить процесс либерализации. В условиях тоталитарных режимов попытка такого выступления может оказаться самоубийственной. Подавляя мятеж на площади Тяньаньминь, коммунистическое руководство Китая попыталось остановить нарождающееся движение либерализации. Последствия государственного переворота являются самым ярким выражением нелегитим- ности, как это произошло недавно во многих африканских странах и ранее в Латинской Америке. Существуют различные критерии оценки, применяемые учеными, но нельзя утверждать, что режим является легитимным только потому, что он открыто не оспаривается. К четвертой категории относятся страны, где не существует ни признания, ни неприятия тех, кому принадлежит власть. Для этих режимов всякое обсуждение их легитимности «лишено смысла» [6, р. 320]. Эти страны относятся к числу самых бедных на планете. В некоторых сельских регионах Африки или Азии, определяемых в качестве таковых Всемирным Банком, и в бидонвилях гигантских метрополий проблема 149 легитимности режима попросту отсутствует в сознании людей. Их нищета не осознается ими как следствие политики властей предержащих, напротив, она приписывается воле богов или природе. В этих странах власть тиранов воспринимается самыми бедными как неизбежность (судьба). Там, где насилие отсутствует, легитимность также не обязательно присутствует. Понятию «легитимность» не соответствуют многие страны «Третьего мира». Полученный итог показывает, что большинство политических регионов лишены легитимности и, следовательно, не могут быть включены в веберовскую типологию; для их характеристики потребовались бы другие типы. Сегодня трудно осуществить четкую классификацию, поскольку режимы все в большей степени строят свою власть на основе многоэлементной легитимности. Итальянская демократия не базируется исключительно на конституции. В какой степени традиция и рациональность отражены в итальянской демократии? Впрочем, Макс Вебер признавал идею смешанной легитимности, исследуя процессы легитимации и делегитимации. Построенные им идеальные типы представляются антагонистическими лишь в теории. В действительности даже традиционные режимы отмечены в какой-то степени духом рационально-легальной легитимности: китайские императоры и русские цари соблюдали некоторые правила игры. Итак, веберовская типология оказывается в некотором роде анахронизмом. Она больше не годится для исследования современных режимов, поскольку сегодня немногие их них построены на основе традиционной власти; а с другой стороны, харизматический феномен становится чрезвычайно редким — Хомейни являет собой его последний пример. Два из трех элементов веберовской типологии оказываются почти лишенными своего содержания. Отныне приходится почти все страны, а их около 170, распределять в рамках третьего типа, смешивая их многочисленные разновидности. При рассмотрении теории Вебера необходимо принимать во внимание и близкие друг другу понятия доверия, популярности и эффективности. Какова степень легитимности режима? Нет ни одной страны в мире, где бы все население считало существующий режим полностью легитимным. Уровень легитимности определяется по степеням. Распределить режимы на воображаемой оси по возрастанию степени легитимности от ее минимума к максимуму — задача весьма полезная для сравнительного анализа политических систем: «Легитимность простирается от всеобщего одобрения до полного отрицания. От согласия с нею и ее одобрения до ее упадка, разрушения и полного краха» [Ibid.]. В самом деле, «ни один из политических режимов не является легитимным для всех 100% населения, во всех областях его действия, или навечно, но, по-видимому, очень немногие их них являются полностью нелегитимными, построенными исключительно на насилии» [2, р. 66]. Никогда легитимность не достигает уровня ее единодушного признания, различные группы и индивиды не признают одинаково авторитета политической власти. Существуют слои населения, относящиеся к ней апатично, и сопротивляющиеся ей субкультуры, мирные оппозиционеры и вооруженные террористы, а между этими крайними полюсами находится большинство, лишь частично признающее притязания на легитимность властей предержащих. Д. Истон полагает, что частота нарушений законности и размах диссидентских движений служат показателями степени легитимности. Но в эмпирических исследованиях их трудно сосчитать. Опросы общественного мнения с большей легкостью оценивают явления, схожие с легитимностью, нежели саму легитимность. Например, непопулярность правительства не означает его нелегитимности. Тем не менее, понятие легитимности может быть проверено эмпирически. Для ее оценки неоднократно в разных странах задавался вопрос, предлагающий людям выбрать один их трех ответов, отражающих существо споров о легитимности: а) «Я признаю существующие законы и современную систему правления»; б) «Я вижу много недостатков в нашей системе правления, но я верю в возможность постепенного совершенствования существующего режима»; в) «Я полностью отвергаю законы, нашу систему правления и наше общество и вижу единственное решение в полном социальном изменении». Первый ответ предполагает существование веры в легитимность режима. Второй свидетельствует о наличии убеждения в том, что, несмотря на все его недостатки, существующий режим является лучшим из возможных и, кроме того, поддается совершенствованию. Третий ответ указывает, что 150 существующий режим воспринимается как нелегитимный. В большинстве стран пропорция граждан, выбравших в 1981 г. третий ответ, была невелика: 9% в США; 3% — в Германии; 7% — в Канаде; 10% — в Австралии. В отдельных странах пропорция таких граждан была относительно велика: во Франции она составила 26%; 24% — в Великобритании, а в Индии достигла такого уровня (41%), который ставит легитимность под сомнение [7, 1982 р. 512]. Важный для теории легитимности вывод основывается на том факте, что во многих демократиях абсолютное большинство населения видит многочисленные изъяны в политической системе, и лишь его меньшинство принимает режим безоговорочно. Теоретически, чем ниже уровень легитимности, тем сильнее принуждение. Чтобы произ- вести операционализацию понятия «легитимность», необходимо принять во внимание некоторые показатели степени принуждения, такие как отсутствие политических прав и ограничение основных свобод, а также существующую свободу выступлений, объединений или манифестаций, свободу религиозных институтов, независимость правовых институтов, вмешательство военной силы в политические дела и т.д. Реймонд Гастил в своем ежегоднике «Freedom in the World» с участием других специалистов распределил страны в соответствии с этими критериями. Всеохватывающая коррупция является симптомом делегитимации режима. Падению режимов часто предшествует широкий размах коррупции (приобретающей всеобщий характер), как это было в периоды краха императорской династии в Китае, правления шаха в Иране и советской номенклатуры. Многочисленные свидетельства обнаруживают существование институциональной коррупции на всех уровнях государственного управления в Африке. Последним оплотом режима является сопротивление коррупции, которое ей оказывают судьи. Когда же общая зараза поражает и их, для обычных граждан не остается больше никакой надежды. В таком случае полный кризис легитимности можно считать предрешенным. Как ни парадоксально, но все скандалы, связанные с коррупцией, не обязательно являются симптомами делегитимации, поскольку они могут обнаружиться лишь в том случае, когда существует определенная свобода выражения (слова). Можно даже утверждать, что те режимы, где могут разразиться скандалы, не являются абсолютно нелегитимными. В некоторых исключительных случаях скандал может даже стать доказательством демократического и легитимного функционирования системы. Дело Дрейфуса, скандалы «Уотергейт» и «Ирангейт» являются величественными монументами, венчающими французскую и американскую демократические системы. В немногих странах демократия оказывается настолько сильной, чтобы какая-либо политическая ошибка могла бы быть исправлена вопреки воле армии, или чтобы глава государства мог оказаться вынужденным подать в отставку, как это было, например, с президентом Леоне (Италия, 70-е годы), замешанным в скандале, связанном с коррупцией. Легитимность режимов и доверие к их политическим институтам При изучении плюралистических демократий необходимо проводить различие между легитимностью режима и доверием к некоторым его институтам или руководителям. Никакой политический институт не может избежать критики ряда категорий населения. Единодушие является смешной претензией тоталитарных режимов. Часто происходит смешение понятий «легитимность» и «легальность» (законность). В демократической стране правительство периодически сменяется; оно рассматривается как легитимное именно потому, что существуют правила, предусматривающие замену властей предержащих. Враждебность, испытываемая к партии, находящейся у власти, вполне совместима с верой в мудрость режима. Даже случайное нарушение какой-либо конституционной нормы не подрывает легитимности политической системы. Что утрачивается в данной ситуации, так это доверие к конкретному институту или же к тем, кто его представляет. Это различие между легитимностью и доверием проявляется в возможных ответах на простой вопрос «должен ли быть признан приказ данного полицейского?» 1) «он должен быть признан, поскольку приказ обоснован». Такой ответ предполагает легитимность и доверие; 2) «этот полицейский злоупотребляет своей властью и поэтому следует иметь в виду возможность обратиться к вышестоящему лицу, но в данный момент ему следует подчиниться, поскольку он является представителем власти». Второй ответ указывает на легитимность без доверия. Полиция в качестве правового института может рассматривать151 ся как легитимная, даже если тот или иной полицейский оказывается недостойным доверия. Во многих демократических государствах рейтинг президентов или премьер-министров, устанавливаемый при опросах, может оказаться невысоким, их политическая программа не одобряется, и даже сами их личные качества ставятся под сомнение. Этот феномен особенно ярко проявляется во Франции, Соединенных Штатах, Великобритании, Италии. Но невысокая популярность не обязательно означает недоверие к самому институту президентской власти. Когда президент избран в соответствии с конституционными нормами, он выполняет легитимную функцию, даже если и не вызывает доверия как политическая личность. Уровень доверия к институтам не следует смешивать с тем количеством (в пропорциональном выражении) людей, которые одобряют или не одобряют то, каким способом правительство решает различные возникающие проблемы: жилья, безработицы, школьного обучения, налогов, социального обеспечения, пенсий и т.д. Мнение, выражаемое по этим проблемам, может оказаться неустойчивым и зависит от преференций его сторонников; оно меняется со сменой партий, пришедших к власти. Большинство граждан может быть неудовлетворено тем, как правительство руководит страной, и считать, что его политика не является справедливой. Но подобные мнения вовсе не предполагают делегитимации существующих институтов власти. Они лишь указывают на отсутствие доверия к людям, которые находятся у руля. Когда большинство канадцев заявили в 1985 г., что не одобряют то, каким образом правительство решает проблему безработицы в стране, они не выразили недоверия к самому режиму, но лишь к тем, кто принимал политические решения, так как другие опросы общественного мнения, проводившиеся в то же время, не обнаруживают никакого сомнения в легитимности канадского режима. Это различие, существующее между мнением, высказываемым по отдельным проблемам, и верой в законность существующих институтов, характерно для всех плюралистических демократий. Демократия всегда может быть усовершенствована, она редко считается идеальной. Разнообразие мнений предполагается самой логикой демократии. «Критику, состоящую в том, что демократический режим не является достаточно демократичным, или же создание новых демократических идеалов трудно объяснить, поскольку недовольные могут оказаться настоящими демократами, которые хотят лишь улучшений» [8, р. 23]. Недоверие по отношению к руководителям какого-либо политического института не означает, что сам институт достоин осуждения. Одним из наиболее очевидных фактов, установленных на основе эмпирических исследований проблемы легитимности в плюралистических демократиях, проведенных за последние десятилетия, является повсеместное постоянное наличие значительного процента граждан, выражающих слабое доверие или же сильное недоверие к отдельным институтам государства и к лицам, которые ими руководят, в то же время не оспаривая легитимности самой политической системы. На вопрос, который периодически задавался при опросах общественного мнения в странах — членах Европейского Сообщества: «В целом удовлетворены ли Вы вполне, почти удовлетворены, не очень или совсем не удовлетворены тем, как действует демократия в Вашей стране?», средняя пропорция граждан, недовольных режимом, изменилась за период между 1973 и 1989 гг. от 42% до 49%, включая и существующие здесь большие различия между разными странами, например, такую позицию занимали более 3/4 итальянцев сравнительно с 1/5 немцев [9]. Однако во всех странах значительное большинство опрошенных считало, что «каждый может свободно «критиковать» и «делать что хочет». Одним из наиболее удивительных результатов, полученных при опросах, является относительно высокая пропорция граждан, не испытывающих доверия к парламенту. Из 11 демократических государств, в которых проводился опрос общественного мнения в 1981 г., только в Восточной Германии большинство населения выразило «большое» или «достаточное» доверие к этому традиционному демократическому институту. Во всех других странах, только меньшинство заявило о доверии к парламенту — около 1/3 населения в Италии, Бельгии и Дании [7, 1981, р. 554]. Другие опросы, проведенные в 1970-е и 1980-е годы также подтверждают, что значительное и устойчивое большинство1 граждан не испытывают доверия к парламенту, даже в Великобритании [Ibid., 1984, р. 358]. Однако в 80-е годы во всех европейских странах большинство граждан считало, что парламент должен играть более важную роль, в то же время вынося строгое суждение о самих парламентариях. 1 В тексте, по-видимому, допущена ошибка. Вместо «minorite» — меньшинство, «majorite» — большинство, что соответствует смыслу излагаемого. — Примеч. переводчика. 152 следует читать Другие институты, такие как профсоюзы, вызывают доверие лишь меньшинства населения. Сдержанное отношение части населения к классу политиков не проистекает лишь из одних политических разногласий. По-видимому, оно имеет более глубокие корни. На вопрос «Как Вы оцениваете честность и нравственные принципы политических деятелей в различных областях?», в Англии (опрос проводился в ноябре 1988 г.) 32% взрослых респондентов дали парламентариям «низкую» или «очень низкую» оценку; 28% — членам правительства; 43% — профсоюзным руководителям; 58% — журналистам [Ibid., 1988, р. 276—277]. Эти данные контрастируют с уважением, демонстрируемым теми же гражданами к врачам, крупным руководителям, полицейским, университетским профессорам и инженерам. Аналогичные результаты были получены и при более ранних опросах. Англия не является исключительным случаем, она используется здесь в качестве примера. Стремясь найти образец идеальной демократии, казалось, можно было бы вспомнить о Швейцарии. Обманчивое представление! На вопрос «Кому Вы доверяете, рассматривая в совокупности институты и организации, а не отдельных лиц или группы лиц?», только меньшинство швейцарцев заявили о своем доверии к палате представителей (38%); к сенату (36%); к кантональному правительству (36%); к церкви (36%); к армии (42%); к судебному аппарату (35%); к прессе (13%); к политическим партиям (12%). Только федеральное правительство и Верховный Суд вызывали доверие большинства швейцарцев [Ibid., 1983, р. 309—310]. Уровень доверия, демонстрируемый по другую сторону Атлантики, не выше. Институт Гэллапа каждые два года в период между 1973 и 1983 гг., а начиная с 1984 г. — ежегодно; проводил опросы граждан на общегосударственном уровне: какую степень доверия они испытывают к 10 выбранным политическим институтам? По результатам опросов, проведенных между 1973 и 1987 гг., Конгрессу отводилось шестое или седьмое место после церкви, армии, Верховного Суда, банков и государственных учебных заведений. Однако Конгресс внушал больше доверия, чем крупные промышленники, телевизионные журналисты, профсоюзные руководители или газетчики [10]. По результатам опроса, проведенного Институтом Гэллапа в 1985 г., с предложением дать оценку честности и нравственных принципов представителей различных профессий, относящихся к 25 различным категориям, сенаторы по полученному ими рейтингу заняли место ниже 14 других категорий профессионалов, а члены палаты представителей лишь 18-е. В 1988 г. «представители народа» внушали меньше доверия, нежели предприниматели, совершающие операции с недвижимостью, журналисты-газетчики, владельцы похоронных бюро, но в то же время их рейтинг все-таки был выше, чем у коммивояжеров и мелких торговцев недвижимостью [Ibid., 1988, р. 238—239]. Результаты этих двух опросов подтверждают результаты других опросов, проводившихся по всей стране. Существует ли какая-то критическая точка, отмечающая утрату доверия, точка, когда легитимность режима становится неустойчивой? Италия в этом смысле может представлять собой клинический случай. Из всех европейских демократий (за исключением, может быть, Греции) Италия является страной, где, начиная с 1973 г. ежегодно отмечают наиболее высокую пропорцию граждан, заявляющих о своем недовольстве тем, как действует демократия в стране. Так, например, в 1987 г. число недовольных составляло 72%, и лишь 26% заявили о своем удовлетворении режимом. По результатам 25 опросов, проведенных между 1973 и 1990 гг., отрицательное суждение высказали более 70% взрослых итальянцев; лишь в 1987 г. эта пропорция была несколько ниже — 67%. В огромном количестве книг и статей, написанных социологами и политическими деятелями, итальянскими и зарубежными, изобличались различные недостатки режима, от клиентелизма до коррупции и от неустойчивости кабинета министров до «власти партии». (Многочисленные опросы, проведенные за последние три десятилетия, обнаруживают суровость критики, высказываемой в адрес «системы» и в особенности — в адрес ее политических лидеров.) Однако Италия попрежнему остается демократией, и ее легитимность оспаривается, очевидно, лишь незначительным меньшинством. Лишь действия системы являются объектом критики. За последние 20 лет ежегодно «Евробарометром» проводились опросы итальянских граждан, где им предлагалось выбрать один из 3-х вариантов ответа 1) «необходимо радикально изменить всю организацию нашего общества революционным методом»; 2) «следует постепенно улучшать наше общество методом реформ»; 3) «необходимо стойко защищать наше современное общество от действий всех подрывных сил». За последние 20 лет абсолютное большинство граждан постоянно выбирало путь реформ, косвенно признавая легитимность режима. Число граждан (в процентном выражении), выбиравших «революционное дейст153 вие», тем самым косвенно ставя под сомнение его легитимность, колебалось от 6% до 10% и только дважды — в 1976 и 1977 гг. оно достигало 12% (по данным «Bolletino della Doxa» и «Евробарометра»). По результатам опросов, проведенных Институтом Докса, большинство итальянцев считало, что лучше «иметь посредственный парламент, чем совсем его не иметь». В этих же опросах они обличали «многопартийность как источник всех бед», в то же время признавая, что «партии необходимы в свободной стране». Таким образом, несмотря на критику, они не оспаривали легитимность демократического режима, поскольку Италия познала результаты экономического роста, более впечатляющего, чем в большинстве европейских стран. Итальянское общество чувствует себя здоровым, несмотря или же, что парадоксально, благодаря слабости государства. В нем осуждается режим партийной власти. Италия представляет собой лишь крайний случай общего явления. Хотя и значительно меньшая, нежели в Италии, пропорция граждан «недовольных тем, как действует демократия» остается значительной во многих странах; в 1985 г. она составляла: 43% — в Англии, 48% — во Франции, 38% — в Нидерландах, 45% — в Ирландии и в среднем 45% — для стран — членов Европейского Сообщества. [9, 1985, р. 7]. В этих странах значительное большинство населения не оспаривает легитимность режима. Теоретически это может быть объяснено тем, что недовольство и протест относятся лишь к действиями режима, а не к его легитимности. Липсет и Шнейдер пришли к такому же выводу. Проанализировав целую гору данных, она задаются вопросом: наблюдается ли кризис легитимности в Соединенных Штатах? Они констатируют, что «люди утрачивают доверие к своим лидерам значительно легче, чем доверие к системе... народ стал высказываться все более критически по поводу действий (и их результатов) главных институтов» [11, р. 378—379]. Они приходят к следующему выводу: «утрата доверия имеет свои положительные и отрицательные стороны. Она является реальным фактом, поскольку американцы высказывают активное недовольство результатами действий своих институтов. Оно (это недовольство) является в определенной степени поверхностным, поскольку американцы еще не достигли момента полного отрицания этих институтов» [Ibid., p. 384]. Резюмируем сказанное. Обширная эмпирическая документация, охватывающая своими данными 18 западных демократий, обязывает нас провести четкое различие между понятиями: легитимность режима, доверие к его институтам и популярность правителей. В демократической стране даже если в ней длительное время сохраняется большое число недовольных лиц, легитимность режима не ставится под сомнение; исключение составляет лишь случай его экономического, военного или политического краха. Демократический режим не разрушается, потому что не существует лучшей альтернативы, кроме как реформировать демократию... демократическим путем. Достоинство демократии в том, что она обеспечивает возможность перемен в соответствии с правилами политической игры. Политическая легитимность и экономическая эффективность Вследствие все возрастающей роли, которую приобретает государство в области экономики, легитимность режима во многом определяется его экономической эффективностью. В связи с этим Линц задает вопрос: насколько оправдано говорить о легитимности политической системы, взятой изолированно от системы социально-экономической? Изучая динамику взаимосвязи легитимности и экономики, Липсет обращается в первую очередь к экономической ситуации, хотя данное им определение является более широким: «способность режима обеспечить основные функции государственного управления» [1, р. 77]. В случае кризиса эффективности, наблюдаемого, например, при экономической депрессии, сохранение режима (его выживаемость) зависит в значительной мере от степени легитимности, которой он пользуется. X. Экштейн полагает также, что легитимность таит в себе резервы доброй воли, к которым власти могут обращаться в трудные моменты. Эту связь между легитимностью и эффективностью можно проиллюстрировать несколькими историческими примерами. Падение демократии в Чили объясняется в значительной степени экономическим кризисом в сочетании с уровнем инфляции, составившим 746% в год. [12, р. 55]. В последние годы существования Веймарской Республики кривая роста безработицы и роста числа сторонников крайне правых партий находилась в прямой взаимосвязи. Различные социологи, в частности Сеймур М. Липсет, сравнивали слабое воздействие экономического спада на стабильность режима в Соединенных Штатах и 154 Англии, где легитимность была прочной, с ее разрушительными последствиями в Германии и Австрии, где легитимность была слаба. , Длинная череда экономических неудач может ослабить легитимность режима или по крайней мере некоторые из его институтов. Восточный колосс рухнул не в результате военного поражения, но вследствие бедственной экономической ситуации. Последовательное падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы явилось результатом их экономической неэффективности, несмотря на существовавший весьма «эффективный» политический контроль. И напротив, экономический успех предоставляет оспариваемому режиму шанс утверждения его легитимности. Правители Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, благодаря своим экономическим достижением повысили уровень легитимности настолько, что получили возможность провести относительно свободные выборы. Но наиболее замечательные примеры являют собой Германия и Япония, где демократия была дарована оккупационными властями и утверждалась в атмосфере скептицизма и сомнений. «Экономическое чудо» вознесло эти режимы из состояния полного отсутствия легитимности и национального унижения, до уровня самых передовых в ряду легитимных плюралистических демократий. В передовых демократиях утрата доверия к государственным институтам или правителям выражается в том, что власть предержащие должны принимать решения под непосредственным и постоянным наблюдением общественности и средств информации. В условиях авторитарных режимов хозяева политической игры сталкиваются с проблемами другого характера; их слабость порождается не чрезмерными требованиями, но чаще всего теми скромными средствами, которыми они располагают. Отсутствие достаточной вертикальной мобильности в сочетании с серьезными показателями социального неравенства может также надолго подорвать легитимность режима. Кроме того индекс Гини, которым измеряется степень неравенства в обществе, является более низким в легитимных демократиях, нежели в странах с авторитарным режимом. Роль интеллигенции в процессах легитимации и делегитимации привлекала внимание многих исследователей. Когда интеллектуалы ставят под сомнение существующий режим, его легитимность оказывается более слабой. Проводя сравнительное исследование революционных движений в пуританской Англии, Соединенных Штатах в эпоху Вашингтона, во Франции в 1789 г. и в России в 1917 г., Крейн Бринтон подчеркнул опасность интеллектуального микроба, который широко распространился в народе, вызвав в итоге кризис легитимности. Внимание теоретиков, исследующих проблему легитимности, привлекали и другие социальные категории, например, рабочий класс в работах теоретиков марксизма. Церковь также сыграла важную роль в определенные исторические моменты в протестантских странах, а совсем недавно в виде «теологии освобождения» — в Латинской Америке. В последние три десятилетия армия оказалась могущественным фактором делегитимации во многих развивающихся странах. Итак, такие понятия, как власть, легитимность, доверие, эффективность не наполнены одинаковым смыслом в Лондоне и Джакарте, в Вашингтоне и Каире. Стремление заключить эти понятия в формулу, обладающую всеобщей значимостью, несомненно, изобличает грехи западного этноцентризма. Однако существуют показательные аналогии между странами, принадлежащими к одной и той же категории с точки зрения их экономического, социального и культурного развития. В передовых плюралистических демократиях происходят одинаковые изменения. Например, распределение институтов по степени доверия к ним во многом сходно в полутора десятках демократий. Наблюдается также много общего в попытках авторитарных режимов добиться легитимности. В последнее время мы явились свидетелями увеличения числа различных форм легитимации и делегитимации. Эмпирические исследования убедительно показали, что понятие легитимность связано с другими социологическими понятиями, так что легитимность в своей чистой форме больше не существует. Поиски идеальных типов легитимности следовало бы предоставить философам. Перевод с французского Т.Н. ШУМИЛИНОЙ 155 ЛИТЕРАТУРА 1. Lipset S.M. Political man. The social basis of politics. New York: Doubleday, 1959. Ch. III. Social conflict, legitimacy and democracy. 2. Lira J. Legitimacy of democracy and the socioeconomic system // Comparing pluralist democraties: Strains on legitimacy. Boulder Westview, 1988. 3. Hudson M.C. Arab politics. The search for legitimacy. New Haven: Yale University press, 1977. 4. Schaar A.H. Legitimacy in the modern state. New Brunswick: Transaction books, 1981. 5. Weber-Schufer P. Divine descent and sovereign rule: a case of legitimacy? // Legitimacy. Berlin: de Gruyter, 1986. P. 87—95. 6. Herz J. Legitimacy, can we retreive it? // Comparative politics. V. 10, April 1978. 7. Hastings E.H., Hastings Ph. K. Index to international public opinion, 1980—1988. Westport, Conn. Greenwood press. 8. Merkl P.H. Comparing legitimacy and values among avanced countries // Comparing pluralist democraties: Strains on legitimacy. Boulder: Westview, 1988. 9. Eurobarometre. L'Opinion publique dans la Communaute Europeenne (1971—1990). Commission de la Communaute Europeenne. 10. Gallup Report (The). Numeraux speciaux sur Confidence in American Institutions, et sur Honesty and Ethical Standards of Professions. 1973— 1990. 11. lipset S.M., Schneider W. The confidence Gap. Business, Labor and Government in the public mind. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1983. 12. Valehzuela A. The move to a socialist society // The breakdown of democratic regimes. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978. 156