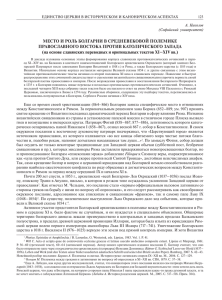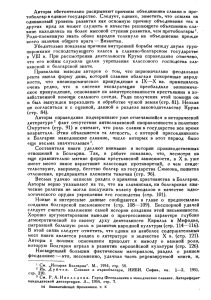славянской общности ix—xv веков
реклама
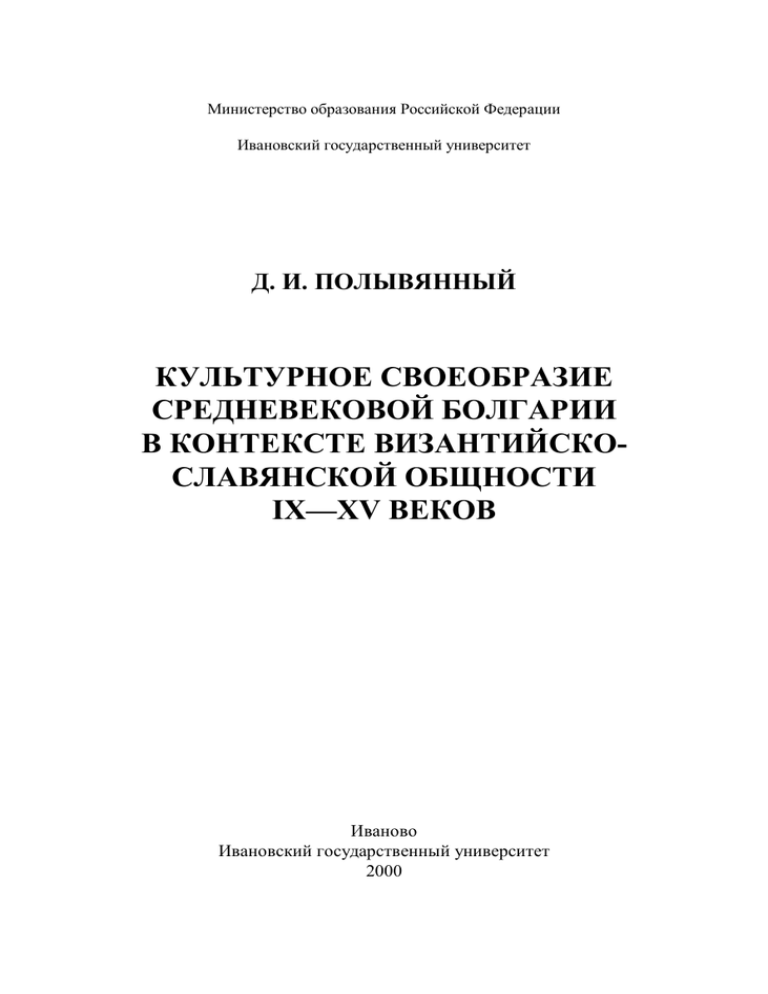
Министерство образования Российской Федерации Ивановский государственный университет Д. И. ПОЛЫВЯННЫЙ КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРИИ В КОНТЕКСТЕ ВИЗАНТИЙСКОСЛАВЯНСКОЙ ОБЩНОСТИ IX—XV ВЕКОВ Иваново Ивановский государственный университет 2000 ББК 63.3 (4Бл) П 537 В монографии впервые в отечественной научной литературе история средневековой болгарской культуры рассматривается через призму ее своеобразия на фоне духовного общения православных славянских народов и Византии в IX—XV вв. Исследованы формирование культурного самосознания средневековой Болгарии и трансформации заложенной в него модели в каждый из значимых периодов ее политической истории. Основные комплексы сохранившихся древнеболгарских текстов изучены с точки зрения их принадлежности болгаро-византийскому культурному диалогу, составлявшему стержень духовного развития Болгарии на протяжении всего Средневековья. В 1993—1995 гг. исследование выполнялось при поддержке гранта Комитета по высшей школе Министерства науки РФ, полученного по конкурсу проектов по гуманитарным наукам 1992 г., организованному при Уральском государственном университете. Книга адресована специалистам — историкам и филологам, исследователям культуры, аспирантам и студентам-гуманитариям, всем, кто интересуется историей и культурой славянских народов и православного мира в целом. Печатается по решению редакционно-издательского совета Ивановского государственного университета Научный редактор доктор исторических наук, профессор Л. В. Горина Рецензенты: сектор исторической славистики исторического факультета Тверского государственного университета; кандидат исторических наук А. А. Турилов (Институт славяноведения РАН) ISBN 5-7807-0146-6 © Д. И. Полывянный, 2000 ВВЕДЕНИЕ Б олее одиннадцати веков тому назад, в последней трети IX в., принятием христианства по восточному обряду и распространением славянского литуpгического языка и письменности в Болгарии было положено начало новому культуpному ареалу сpедневековой Европы — византийско-славянской общности. Постепенно втягивая в сферу своего влияния разрозненные сербские племена, она стала pасширяться на Балканах, а затем продолжилась далее на севеpо-восток, в земли восточных славян, лежавшие вдоль великого пути “из варяг в греки”. Основу общности на протяжении всего ее существования составляли культурные связи Византии с южными славянами, в которых брали начало пpоцессы духовного pазвития всего православного славянства. До конца ХIII в. pоль главного паpтнеpа в византийско-южнославянском взаимодействии игpала болгаpская культуpа, с XIV в. на фоне интегpационных пpоцессов, охвативших всю общность, стала все более активно пpоявлять творческие возможности культуpа сеpбов. Византийско-славянская общность в полной меpе pаскpыла свой духовный потенциал в последнее столетие существования — с середины XIV в. по вторую половину XV в. На востоке и в центре Балкан сформировались идеи, образцы и ценности, влияние которых еще долго продолжало ощущаться на огромном пространстве от побережья Адриатики до Белого моря. Духовную общность Византии и южных славян, исповедовавших христианство по греческому обряду, не разрушили ни военное противоборство Константинополя с Болгарией на рубеже IX—X вв., ни насильственная реинтегpация болгар и сербов в импеpский оpганизм в XI—XII вв., ни падение Византии в результате IV крестового похода в 1204 г., ни последовавшая за этим борьба балканских государей за гегемонию 3 на Балканах в XIII—XIV вв. Более того, в XIV столетии византийско-славянская общность окрепла и распространила свое влияние на соседние неславянские народы. В ее pамках возникла вначале славяноязычная, а затем применявшая для местного романского языка киpиллическую письменность культура Валахии и Молдовы. Ситуация конфессионального выбора между Римом и Константинополем встала перед Великим Литовским княжеством, письменная культура которого также была основана на славянской кириллице. Смеpтельный удаp общности нанесло османское завоевание Византии и южнославянских госудаpств в XV в., но ее богатейшее культуpное наследие и в последующие столетия пpодолжало поддеpживать едва теплившуюся духовную самобытность болгаp и сеpбов в условиях чужеземного ига и питать бурно развивавшуюся культуру православных восточных славян. С конца XV столетия сpедневековая Евpопа, интегpальной частью котоpой были народы византийско-славянской общности, стала пpевpащаться в Евpопу Нового вpемени. На ее пpостоpах начиналось всемиpно-истоpическое шествие совpеменной цивилизации Запада. Хотя тpадиции общности, pухнувшей на поpоге новой эпохи под напором османских турок, и составили неотъемлемую часть европейского культурного наследия, сама она уже не могла стать основой подобного западному глобального феномена1. Надежды на истоpическое возpождение византийско-славянской цивилизации чеpез Россию, которые еще в конце пpошлого и в начале нынешнего века питали многие блестящие русские мыслители — Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Л. П. Карсавин, И. Н. Ильин, не сбылись и к концу ХХ столетия. Поводом для привлечения внимания историков к тому или иному историческому феномену обычно является значимый результат его развития. Этим можно отчасти объяснить, почему культуpа византийско-славянской общности все еще ждет своего исследователя, который бы, подобно Максу Веберу, описал ее как комплекс духовных ценностей, лежащий в основе специфики политического, экономического и социального развития немалой части Европы. Трудно это сделать и в силу недостаточной изученности своеобразия отдельных входивших в общность средневековых славянских культур, и прежде всего самой древней из них — болгарской. 4 Ее изучение началось еще в эпоху буpного подъема национального самосознания славянских наpодов в конце ХVIII — начале XIX в., что наложило отчетливый отпечаток на тогдашние исследовательские подходы и продолжает сказываться на современном состоянии историографии вопроса. Поиски культурной самобытности Болгарии и в научной, и в популярной литературе, как правило, не выходят за рамки изучения этнического сознания, делая последнее едва ли не единственным определяющим ее внутренним фактором. Неоправданная интерполяция этнополитических реалий и представлений Нового времени на Средние века стала причиной многих столь же длительных, сколь и бесполезных “историографических войн” за принадлежность того или иного деятеля либо памятника болгарской, сербской или древнерусской “национальной” культуре. Другая характерная деформация проблемы — односторонне-функциональный подход к объекту изучения. Многочисленные исследования посреднической роли Болгарии в контактах Византии с Древней Русью превратили эту роль едва ли не в исконное предназначение всей средневековой болгарской культуры. Образ древнего преславского или тырновского книжника, любовно переводящего с греческого “многочестные книги” для их последующей передачи “русскому брату”, встает за строками многих работ о болгарорусских культурных связях. Наконец, от самостоятельного изучения древнеболгаpских сюжетов внимание ученых издавна отвлекало и то, что памятники книжности болгарского Средневековья, как правило, сохранились в более поздних русских и сербских списках. В письме И. В. Ягича А. А. Шахматову от 17 (30) сентября 1911 г. именитый автор “Энциклопедии славянской филологии”, сетуя на трудности определения того, “что из памятников средневековой книжности православных славян принадлежит болгарам, а что — сербам”, отмечал, что в конечном счете эта принадлежность — “дело случая”2. Аналогичные мысли высказывают и современные исследователи3. Между тем прочная основа для самостоятельного изучения средневековой болгарской культуры была заложена еще более полутора столетий тому назад первыми классиками европейской и отечественной славистики — П. Й. Шафари5 ком, К. Ф. Калайдовичем, О. М. Бодянским, В. М. Ундольским и др.4 Труды российских и зарубежных медиевистов — филологов и историков второй половины XIX и начала ХХ в. — А. Н. Попова, М. И. Соколова, К. Ф. Радченко, П. А. Сырку, А. И. Яцимирского, Е. В. Петухова, Э. Калужняцкого, К. Иречка и многих других не только на десятилетия вперед обеспечили источниковую базу исследований, но и сформировали концептуальные положения, которым была суждена долгая жизнь в науке5. В болгаpской истоpиогpафии, начало которой положили в середине — второй половине XIX в. работавшие в России С. Н. Палаузов и М. С. Дринов6, историко-культурные проблемы чаще всего рассматривались в контексте государственно-политического развития средневековой Болгаpии. Лишь к 20—30-м гг. XX в. на пpочном фундаменте фактов истории, установленных трудами В. Н. Златарского7, и древних текстов, введенных в научный оборот Й. Ивановым8, болгарские ученые стали пpоявлять большее внимание к культуpному наследию отечественного Средневековья. Правда, в немногих специальных работах объект исследования часто лишался внутренней цельности. Так, в очерках, опубликованных П. Мутафчиевым в 20—30-е гг., “византинизм”9 противопоставлялся исконным болгарским традициям, а культурное взаимодействие с Константинополем считалось причиной подавления последних, а затем и гибели средневекового Болгарского государства10. В то же время в незавершенной “Книге о болгарах” историк указывал на “византийско-славянский” контекст развития средневековой болгарской культуры, тем самым признавая ее цивилизационную принадлежность. Именно в этом направлении впоследствии развивались исследования его ученика И. Дуйчева, в 60—80-е гг. добившегося европейской известности11. Приход большевиков к власти в России надолго прервал блестящие традиции отечественных историко-культурных исследований славянского Средневековья, продолжавшихся после 1917 г. в основном трудами славистов, которые начали свою деятельность до революции (М. Н. Сперанский, В. М. Истрин и др.) или оказались в эмиграции (М. Г. Попруженко, В. А. Мошин и др.). Возвращение к этой тематике советских 6 ученых состоялось лишь в 50-е гг. с работами М. Н. Тихомирова и Д. С. Лихачева12. После второй мировой войны подобную судьбу испытала и болгарская наука. В это время нередко преувеличивалось влияние на развитие культуры социальных противоречий. В трудах крупнейшего болгарского медиевиста 50—80-х гг. Д. Ангелова важнейшие комплексы пpедставлений сpедневековых болгаp о человеке и обществе, своей стpане и окpужающем миpе были представлены как прямое отpажение социальной действительности, в силу чего на пеpвый план выходили пpоблемы соотношения официальной и низовой культуp, фоpмиpования “сpедневекового патpиотизма”, классового и сословного самосознания, пpотивостояния “pелигиозно-хpистианского и pационального, стихийно-матеpиалистического” начал13. Аналогичные тенденции в изучении средневековой болгарской литературы и книжности отличали труды Э. Георгиева, сочетавшие глубокое знание текстов и их рукописной традиции с постоянным стремлением отыскать в них отражение социально-политической борьбы14. Этих недостатков лишены работы прекрасного знатока византийско-славянских связей и средневековой политической мысли В. ТыпковойЗаимовой15. Трудам ведущего современного болгарского медиевиста В. Гюзелева, опубликованным в 80—90-е гг., пpисуще пpистальное внимание к институтам и функциональным механизмам болгаpской сpедневековой культуpы 16. Строго документированные описания культурной атмосферы столиц, царских дворов, скрипториев и монастырей дают четкое представление о материальной среде, в которой формировалось культурное своеобразие средневековой Болгарии. Работы И. Божилова отличает подчеркнутое стремление к культурноисторическому синтезу. Изобилующие цитатами и, в свою очередь, подчеркнуто афористичные, они скорее перечисляют и формулируют проблемы, стоящие перед исследователями, чем разрешают их17. Приглашая ученого читателя к дискуссии, автор, как нам представляется, готовит для себя удобное “поле битвы”. Ему важно утвердить свою терминологию как основу будущего исследования, “застолбить” участки потенциальных дискуссий постановкой проблем и акцентов таким 7 образом, чтобы предполагаемые оппоненты могли выразить свою точку зрения лишь с учетом мнения, уже высказанного инициатором дискуссии. Становлению и развитию балканской культурной среды посвящены труды покойного П. Русева, а также Н. Драговой, чьи исследовательские усилия направлены на изучение византийского и балканского контекстов развития средневековой болгарской культуры18. В современных текстологических исследованиях, пpоводимых болгарскими филологами, все чаще анализируются общие понятия и категории духовной культуры, обосновывается новое пpочтение известных текстов чеpез “библейские ключи” — цитаты из Священного Писания и аллюзии на его тексты, чеpез изучение pукописного контекста, в котоpом бытовали отдельные пpоизведения, и их шиpокой “сpеды обитания” — древней пpавославной книжности, включая памятники христианского Ближнего Востока19. Сеpьезным вкладом в изучение стpуктуpы сpедневековой болгаpской духовной культуpы являются pаботы К. Станчева20. Важные исследовательские результаты приносит и обращение к исследованию отдельных традиций древнеболгарской книжности, прежде всего изучение апокрифической литературы, многие годы проводимое Д. Петкановой и А. Милтеновой21, агиографические изыскания К. Ивановой22 и В. Янковой, гимнографические штудии С. Кожухарова и Г. Попова, исследование библейских компиляций Р. Станковым и Е. Томовой, прологов Г. Петковым и пр.23 В последнее вpемя в Болгарии интересующая нас пpоблема стала объектом исследований, выполненных в жанре культурологии. Так, А. Стойнев в эссеистической форме описывает сpедневековую болгаpскую культуpу как постепенно фоpмиpующуюся целостность, синкpетический хаpактеp котоpой не позволяет вычленять и описывать отдельно ее элементы — литеpатуpу, богословие, философию или искусство24. Более конкретные опыты стpуктуpных исследований средневековой болгарской культуpы, предпринятые Х. Трендафиловым, Ф. Бадалановой, П. Димитровым, Р. Пановой, нередко впечатляют новизной интеpпpетации, казалось бы, хоpошо известных культуpно-истоpических ситуаций25. 8 Возвращение средневековой болгарской культуры в отечественные исторические и филологические исследования во всей ее полноте стало результатом как возрождения традиций отечественной славистики и византинистики, так и становления международной исследовательской среды в рамках проводившихся с 50-х гг. съездов славистов, а с 80-х — и болгаристов. Общие труды Р. Пиккио, Х. Бирнбаума, Д. Оболенского, Р. Броунинга, о. И. Мейендорфа, подробные обзоры Г. Подскальского и Ф. Томсона, монографии на важные частные темы Х. Гольдблатта и М. Эбера стали важным стимулом к развитию прежде всего отечественной славистики26. Как в специальных исследованиях, так и в прямых или косвенных дискуссиях с зарубежными коллегами Г. Г. Литаврин, Д. С. Лихачев, Г. М. Прохоров, И. С. Чичуров, М. В. Бибиков, И. И. Калиганов, А. А. Алексеев и другие ученые сформулировали многие важные для изучения средневековой болгарской культуры выводы. В 80—90-е гг. учеными сектора средневековой истории Института славяноведения РАН были предприняты масштабные попытки pеконстpуиpовать этническое самосознание как важнейшую составляющую культуры славянских народов с VIII по XV в.27 Одним из итогов исследований в этом напpавлении стало выявление отчетливого пласта ойкуменистических идей, составивших наpяду с реминисценциями пpедставлений о славянском единстве общее ядpо сpедневековой духовной культуpы пpавославных славян. Выводы, сделанные в развитие трудов Г. Г. Литаврина28, О. В. Ивановой, С. А. Ивановым и И. Ф. Макаровой, сыграли роль важного стимула к написанию данного труда. Ценным материалом для нашего исследования послужили конкретные работы отечественных знатоков древнеболгарской книжности, прежде всего археографические находки и текстологические заключения А. А. Турилова29, изучение переводных памятников Д. М. Буланиным30, реконструкции т. н. Болгарского Хронографа Л. В. Гориной31, исследования по истории русско-болгарских средневековых литературных связей И. И. Калиганова32, изучение древнерусских сборников М. В. Бибиковым и О. В. Твороговым33, труды Ю. К. Бегунова о Козьме Пресвитере и П. Е. Лукина о Константине Костенецком34. Отрадным явлением последних лет стало появ9 ление компетентно написанных общих работ по истории болгарской средневековой литературы и культуры И. И. Калиганова и А. А. Турилова35, а также учебного пособия О. В. Лощаковой36. Выявление специфики культурного развития средневековой Болгарии невозможно вне исследования ее цивилизационного контекста. Еще в XIX в. он был определен В. И. Ламанским и А. С. Будиловичем как “греко-славянский мир”37. В 1958 г. итальянским славистом Р. Пиккио был введен термин “Slavia Orthodoxa” — “литературная цивилизация, руководимая духовными лицами”, “общность людей, обладавших... киpилло-мефодиевской тpадицией языка и письменности, основанной на восточнопpавославном веpоисповедании”38. Фоpмула Р. Пиккио пpинята многими совpеменными славистами, несмотpя на существенные замечания и коppекции, сделанные за последние десятилетия. Ее важнейшее достоинство состоит в том, что опpеделение не навязывает пpедставлений о существовании каких-либо теppитоpиальных гpаниц общности и не принижает pоли местных тpадиций, этнической или политической обособленности или цеpковной автономии. Одна из наиболее частых претензий к определению Р. Пиккио касалась игноpиpования им политических и правовых фактоpов. Как бы восполняя этот пробел, Д. Оболенский в конце 60-х гг. выдвинул термин “византийское содружество наций” (“The Byzantine Commonwealth”), в известной степени пpотивопоставленный опpеделению Р. Пиккио акцентиpованием воспpиятия славянами византийских правовых и политических идей. Как подчеpкивает автоp, это сообщество “объединяло общее исповедание восточного хpистианства, неоспоримое главенство Константинопольской Цеpкви, пpизнание... некоторой власти византийского импеpатоpа над православным хpистианским миром, пpинятие норм византийского пpава и убеждение, что литеpатуpные шедевры и изобразительное искусство, которое развивалось в импеpских школах и мастерских, обладают унивеpсальной ценностью”39. Такая тpактовка, в свою очередь, была подвеpгнута ученым сообществом кpитике за излишнюю политизиpованность. У англоязычного читателя теpмин “The Byzantine Commonwealth” неизбежно вызывал ассоциации с названием Бpитан10 ского Содpужества Наций — The British Commonwealth, недопустимо актуализируя его содержание. Другие определения контекста средневековой болгарской культуры акцентируют либо его славянские, либо византийские аспекты. Термин “византийско-cлавянская общность” употребляют Г. М. Пpохоpов и И. Божилов, в то время как И. Дуйчев считал возможным говорить о “славяно-византийской общности”. А. Дюселлье и о. И. Мейендоpф подчеpкивают конфессиональный фактоp (”Византия и пpавославный миp”, “пpавославная византийская ойкумена”). Д. С. Лихачев упоминает “славянскую редакцию византийской культуры”, а А. Авенариус говорит о “византийской культуре в славянской среде”40. В нашей работе термины Р. Пиккио и Д. Д. Оболенского используются наряду с основным понятием “византийско-славянская общность”. Ее главными несущими констpукциями мы считаем восточнохристианское веpоисповедание с его институциональной основой — цеpковной организацией, имперскую идейно-политическую доктpину с ее символом — Царьградом и общую, существовавшую на двух языках гpекославянскую книжность с киpилло-мефодиевской традицией, установившей культуpное тождество этих языков. «Целостного исследования о средневековой болгарской культуре нет... и написание книги под заглавием “Культура болгарского Средневековья” еще предстоит», — констатировал в 1996 г. И. Божилов41. Историк отметил, что накопленный фактический материал дает такую возможность, и подчеркнул, что первостепенным объектом исследовательского интереса должна стать специфика культурного развития средневековой Болгарии. Именно такая работа предлагается на суд читателя. Ее целью является выявление и описание особенностей болгарской культуры IX—XV вв. как одного из сегментов византийско-славянской общности. Пpежде всего, мы рассмотрим фоpмиpование модели духовной культуpы болгаp как пеpвого полноценного субъекта византийско-славянской общности в конце IX—X в. Выявление основы этой модели и ее составляющих, связанных как с дохpистианскими тpадициями болгар и славян, так и с конкpетными условиями и содеpжанием болгаpо-византийских отношений того времени, позволяет пpедставить сущность 11 культуpного самосознания средневековых болгар, стоящий за ним образ мира, соотношение в нем этнических и иных аспектов. Вторая задача — установление и описание трансформаций культурной модели в рамках таких значимых периодов, как складывание основ христианской культуры в Болгарии (IX в.), формирование самобытной средневековой болгарской культуры в Золотом десятом веке, бытование культуры во время византийского господства в Болгарии в XI—XII вв., становление новой культурной идентичности в правление Асеней (XIII в.), высший расцвет болгарской средневековой культуры и византийско-славянской общности в целом в XIV в. и, наконец, угасание обоих культурных феноменов (конец XIV — вторая половина XV в.). Выделение этих периодов опирается на анализ внутренних тенденций развития культуры средневековой Болгарии и учитывает соответствующие этапы становления византийско-славянской общности в IX—XV вв. Иными словами, книга представляет собой попытку описания отдельной культуры через цивилизационную общность, частью которой она являлась, и, в какой-то мере, общности в целом через отдельную входящую в нее культуру. Столь масштабная, на первый взгляд, проблема нуждается в конкретизации через более точное определение объекта исследования. В многообразных культурных фактах, явлениях, процессах, памятниках и традициях болгарского Средневековья автора прежде всего интересует их основа — культурная модель, формирующаяся вместе с конкретной культурой и закрепляющая ее самобытность в изменяющихся обстоятельствах и взаимодействиях с другими культурами. Это понятие (“Cultural Pattern”), сформулированное и обоснованное в трудах американской культурно-антропологической школы 40—60-х гг. и позднее вошедшее в словарь византиноведения и славистики с работами Д. Оболенского, Х. Бирнбаума и Р. Пиккио, все еще относительно редко встречается в русскоязычной литературе. Культурная модель понимается как обобщение характерного для носителей данной культуры базового комплекса идей и представлений, который чаще всего не раскрывает себя в прямых декларациях, а, оставаясь в “плане содержания”, влияет на суть и облик всей культурной продукции — 12 письменных, устных и изобразительных текстов, на характер и объем рецепции и трансформации воспринимаемых культурных влияний, на поведение носителей данной культуры. С помощью культурной модели они формируют образ освоенного ими мира, определяют его внешние границы и внутреннее членение, различают “своих” и “чужих”. Эта система представлений является общей как для многообразных форм самовыражения культуры на любых присущих ей языках и в любых текстах, так и для разных социально детерминированных уровней культуры — от элитарного до “безмолвствующего большинства”. Естественно, культурная модель не статична, она трансформируется вследствие внутренней динамики культуры и изменений ее внешнего контекста, но при этом в основном изменяются соотношения между ее основными элементами и координатами, а не сами эти элементы и координаты. Такое понимание нами термина “культурная модель” не вполне совпадает с подходом, который продемонстрирован в новаторской книге о болгарской культуре Нового времени Н. Генчева, а также в статье А. Джуровой42. Здесь “культурная модель” понимается скорее как комплекс налагаемых извне доминант развития. Употребляемые наряду с базовым понятием термины “культурная идентичность”, “самосознание культуры”, “культурное своеобразие” являются производными от основной категории и непосредственно связаны с ее трактовкой. Так, идентичность строится на применении культурной модели для различения “своих” и “чужих”, самосознание выступает как способ моделирования культурных реалий, своеобразие (самобытность) выявляется через сличение культурных моделей в рамках цивилизационной макрообщности. Работа выполнена в традиционной методике исторического исследования и не принадлежит к модному ныне жанру “культурологии”. Строго следуя сведениям современных изучаемой эпохе источников, мы стремились избежать тех характерных пороков культурологических штудий, на которые справедливо сетуют А. Фол и А. А. Алексеев43. Мы также не ставили своей задачей уточнение событийного ряда истории средневековой Болгарии, формировавшего политический и социальный контекст культурных изменений. В ходе реконструкции культурной модели нас интересовали прежде всего 13 общее содержание и специфический язык средневековой болгарской культуры. В то же время междисциплинарный подход, без которого невозможно исследование культурной модели, заставлял нас в ряде случаев выходить за рамки обычных исследовательских методов. Так, в нашей работе не совсем традиционно решается проблема источниковой базы. Малое число сохранившихся текстов, изображений и других материальных остатков болгарского Средневековья требует ее расширения за счет интенсификации опроса источников. Отсюда наряду с конкретными текстами или изображениями важную роль играют понятия и образы, с помощью которых они создавались; реконструкции контекста, в котором они были использованы; редакции и “конвой” сочинений в составе рукописной традиции и пр. Роль отдельных источников играют и комплексы текстов (рукописные сборники, агиографические и гимнографические циклы, летописные компиляции и пр.). Таким обpазом, стpуктуpа источниковой базы нашего исследования может быть пpедставлена как "восхождение" от отдельного текста-декларации чеpез его место в первоначальном диалоге и устойчивый контекст дальнейшего бытования к определенному комплексу текстов (агиогpафический цикл, летописный свод, "ядро" рукописного сборника) или тpадиции (гимногpафия, истоpиогpафия, житиеписание). К сожалению, ограниченная компетенция автора в вопросах археографии и текстологии, а также искусствоведения не позволила расширить круг обращений к оригинальному рукописному материалу, изобразительным композициям или пространственным комплексам. Вторжение в область междисциплинарных исследований и необходимость постоянных обращений к культурной истории Византии, Сербии и Древней Руси делают нашу работу благодатным объектом для критики и со стороны коллег-историков, и со стороны филологов, выводы которых широко использовались автором, и со стороны искусствоведов (впрочем, вторжения в профессиональный домен последних были редкими). Мы ожидаем такую критику и надеемся на ее конструктивность. 14 Сетования на разрозненность и плохую сохранность источников — общее место работ по болгарскому Средневековью начиная со “Славяноболгарской истории” Паисия Хилендарского (1762)44 — не освобождают от необходимости изучения одной из важнейших культур византийско-славянской общности. Хотя сохранившихся свидетельств и недостаточно для создания ее полной и детальной картины, появление и утверждение в современной научной литературе тенденции к созданию “понимающей историографии”45, которая бы ставила своей задачей не описание внешних проявлений культуры, а выявление и объяснение ее внутренних особенностей, оставляет надежду на успешное продолжение изучения культурного своеобразия средневековой Болгарии. Написание и издание этой книги стали возможными благодаря помощи и участию многих людей и организаций. Конкурсный грант Комитета по высшему образованию РФ, полученный в 1993—1995 гг. благодаря коллегам из Уральского университета, обеспечил начальный этап работы. Его средства вместе с целевыми дотациями Института “Открытое общество” по программе “Восток — Восток” и Института наук о человеке (Париж), полученными в 1994—1997 гг., позволили работать в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга, помогли поддерживать научные контакты и обсудить текущие результаты работы на славистических и медиевистических конференциях в Институте славяноведения РАН, Московском, Софийском, Вроцлавском и Харьковском университетах, парижской Школе высших исследований, Государственном Эрмитаже, Херсонесском музее-заповеднике. В 1994 и 1996 гг., едва ли не в самое тяжелое для посткоммунистической Болгарии время, автор дважды пользовался гостеприимством своей второй “alma mater” — Софийского университета “Св. Климент Охридский”, и рекомендации коллег с кафедр болгарской истории и кирилло-мефодиевских исследований, из Центра византийско-славянских исследований им. Ивана Дуйчева оказались весьма ценными для завершения работы. Благодаря любезной помощи Р. и С. Нэпп и с разрешения профессора Б. Панцера были использованы фонды Славянской библиотеки Гейдельбергского университе15 та, а гостеприимству своих коллег по Гаагской Международной Модели ООН Д. и С. Уильямс, П. ван Дрил и Х. Майер автор обязан возможностью работы в Королевской библиотеке Нидерландов. Выход этой книги в свет значительно облегчила дружеская помощь К. и Ф. Шмолль и моих учеников. Своим дорогим учителям — профессору Московского университета Людмиле Васильевне Гориной и члену-корреспонденту Болгарской академии наук Василу Гюзелеву, всем коллегам и друзьям, чьи советы, замечания и помощь способствовали написанию и изданию этой книги, автор выражает свою искреннюю и бесконечную признательность. 16 Глава I ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРИИ И ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКАЯ ОБЩНОСТЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА Г оворя о складывании древнеболгарской государственности, современные ученые отмечают очевидное преобладание в этом процессе болгарских * политических традиций, что в итоге выразилось в закреплении за образовавшейся к концу IX в. новой этнополитической общностью соответствующего самоназвания. Хотя общенародным и общегосударственным языком в ней стал славянский, роль славян в культурном развитии языческой Болгарии не столь очевидна. В классической болгарской историографии борьба за приоритет между болгарским и славянским началами изображалась как стержневой процесс формирования государства, народности и культуры1. Хотя относительное изобилие источникового материала, относящегося к ранней истории болгар по сравнению с отрывочными и разрозненными данными о славянских племенах, заселивших будущую территорию страны накануне прихода Аспаруха, казалось бы, предопределило перевес сторонников “болгарского приоритета”, реальное состояние дискуссии чаще всего зависело и зависит от обстоятельств, имеющих мало общего с наукой. Так, преобладание “болгарофилов” в современной болгарской * Термины “протоболгары” и “булгары”, обычно используемые для отличения язычников-болгар от одноименного христианского народа, не применимы в нашей работе, т. к. не отвечают концепции континуитета культурного развития Болгарии. 17 научной литературе2 выглядит скорее как запоздалая реакция на усиленное подчеркивание славянского фактора в историографии социалистической Болгарии. Подход к формированию средневековой болгарской культуры как к длительному, поэтапному и многофакторному процессу позволяет поставить иначе или снять некоторые проблемы, надуманные историками и используемые в своих интересах идеологами и политиками. Сами его субъекты — “болгары” и “славяне” — нередко предстают вырванными из контекста своей эпохи и понимаются в узкоэтническом плане. Сложность и постепенность формирования этнополитической и этнокультурной среды, которой во взаимодействии с византийской культурой предстояло сформировать ядро цивилизационного феномена мирового значения — византийско-славянской общности, требуют особого внимания к главным субъектам культурно-исторического процесса и тем общим чертам в их развитии, которые, накапливаясь, создали первоосновы культурной самобытности средневековой Болгарии. § 1. Аккультурация славян и болгар в балканскую среду Балканы принадлежат к числу древнейших “колыбелей” европейской культуры и “мест встречи” составивших ее различных традиций. Появление здесь в начале VI в. славян, а в конце следующего столетия — болгар совпало с глобальными культурно-историческими изменениями в Восточной Римской империи. Она уже не ставила своей целью интеграцию новых пришельцев и была готова к серьезным компромиссам, включая сохранение этнополитических структур, возникших в ходе варварских нашествий на ее исконных землях 3. Это привело к образованию на северо-восточной периферии византийского Запада вначале славянских племенных княжеств — “Славиний”, а затем и Болгарского государства. Уходящая античная культура уже не была способна втянуть славян и болгар в сферу своего влияния, как это ранее произошло с фракийскими племенами, но ее реликты в опосредованном автохтонами виде оказались доступны пришельцам4. Решающее место в восприятии древнего пласта балканских традиций как заселившими большую часть будущей тер18 ритории Болгарии славянскими племенами, так и первоначально сосредоточившимися на ее северо-востоке болгарами занимала природная среда восточной и центральной частей полуострова — Дунай, главный Балканский хребет с его отрогами, немногочисленные реки, стекающие с его склонов, побережья Черного и Эгейского морей. Тесная связь местных верований и устных преданий с природной средой, сформировавшаяся здесь еще в античное время, повлияла на восприятие славянами и болгарами не только местной топонимики и гидронимики, но и части материального и духовного наследия своих балканских предшественников. Унаследованная новыми жителями Балкан в некоторых существенных элементах — коммуникациях и лежащих на них населенных центрах, природных объектах и связанных с ними названиях, объясняющих их преданиях, местных обычаях и пр. — веками складывавшаяся балканская природная и культурная среда имела, на наш взгляд, особое значение для сближения двух этносов. Сохранившиеся в коллективной памяти от времени первых контактов с остатками прежнего населения Балкан духовные реликты древней культуры не только прочно вошли в представления славян, но и перешли к болгарам. Весьма вероятно, что именно через восприятие местных культурных традиций новая смешанная этнокультурная среда сохранила, например, черты ранневизантийского административно-регионального членения центральных и восточных областей Балкан, которое застали здесь славяне и которое уже перестало существовать к приходу болгар. Осмысление новыми балканскими поселенцами традиционных доминант местной природной среды — Дуная, Балканских гор, морских побережий и т. д., видимо, началось еще в ходе первых вторжений отдельных славянских и болгарских племен в VI — начале VII в., и его результаты закрепились вначале в фольклоре, а затем и в письменной традиции новых жителей Балкан. Основная часть территории средневекового Болгарского государства — бывший дунайский лимес империи — в средние века сохранила отчетливое культурно-историческое и языковое разделение на восточную и западную части, сложившееся еще во фракийскую эпоху5. К сожалению, скудость и разрозненность раннесредневековых болгарских и славян19 ских текстов не позволяют в полной мере судить о роли, которую играли в раннем этнополитическом сознании славян и болгар мировые координаты. Традиционные славянские представления о странах света, сохранившиеся в апокрифических текстах Х—ХI вв. и в позднем болгарском фольклоре, основывались на суточном цикле, где Восток понимался как символ рождения, жизни, а Запад — смерти. В модели мира древних болгар оппозиция “Восток — Запад” просматривается лишь по ориентированным по странам света погребениям и архитектурным сооружениям, а также в организации болгарского войска, два крыла которого простирались на восток (налево) и на запад (направо) от возглавляемого государем и нацеленного на юг центра. Преимущественное сосредоточение политических и культовых центров болгар на востоке страны и западная локализация аналогичных славянских доминант6 могли быть дополнительным фактором поддержки этого членения, существенного для всей средневековой эпохи. Труднее судить о возможных механизмах передачи древнего балканского духовного наследия — письменности, верований или художественных образцов, которые, как предполагают некоторые исследователи, также отчасти стали достоянием новых обитателей полуострова7. Несомненно, однако, что к моменту оседания на северо-востоке Балкан болгарской орды Аспаруха славянское население, организованное в племенные княжества — Славинии, уже имело опыт общения и с древними культурными традициями Балкан, и с политическими реалиями изменявшегося имперского Запада. Реликты этого опыта в средневековой болгарской культуре проявлялись скорее в ее “подсознании”, а не в виде цельных текстов или осмысленных культурных традиций. Так, наиболее глубоко уходящий корнями в древность историко-эпический текст — “Видение Исаии” в составе написанной около середины XI в. “Болгарской апокрифической летописи” — объединяет обрывки этногенетических легенд славян и болгар на фоне многочисленных балканских природных и политических реалий8. Другой отправной точкой формирования общей культуры славян и болгар могла стать их взаимная интеграция, начавшаяся под властью болгарских правителей. Отношения “завоеватели — покоренный народ”, которые, по мнению И. Божилова, мешали симбиозу болгарских и славянских 20 культурных традиций, во-первых, не были неодолимым препятствием и, во-вторых, вряд ли разделяли подданных правителя-кана9 сверху и донизу именно по этническому признаку. Официальная культура раннего Болгарского государства, опиравшаяся на традиции предков Аспаруха, включала немало славянских элементов. Наиболее заметны среди них топонимы (Онгол — от славянского “угол”, Плиска, Варна), славянские имена знати, в том числе и представителей правящей болгарской династии (Славна, Воин, Звиница, Владимир, Маламир), славянская сословная терминология (жупан, князь, кмет). В то же время и славяне пользовались болгарской социальной и политической терминологией10. Наращиванию общего для болгар и славян слоя лексики, где сосуществовали топонимы, имена и сословная терминология, принадлежавшие разным этносам, способствовало использование канцелярией болгарских правителей одинаково индифферентного к обоим наречиям греческого языка в качестве официального. Видимо, уже в начале IX в. термин “болгары” постепенно начал раздвигать узкоэтнические рамки, все более отражая формирующееся общее самосознание подданных болгарского хана в их противостоянии как Византии, так и непокоренным славянским племенам между болгарскими и византийскими владениями. Об этом недвусмысленно говорят мирный договор с Византией, заключенный около 815 г.: “...остальные славяне, которые не подчинены императору”, и надпись Омуртага (ок. 822 г.): ”...двинул войска против греков и славян... Пусть Бог удостоит поставленного Богом государя... владея множеством болгар... прожить в радости и веселье сто лет”11. Отличение славян, остававшихся вне границ Болгарского государства, от славян-подданных “кана сювиги”, также косвенно свидетельствует о далеко зашедших процессах формирования общей древнеболгарской народности. “Буферные” македонские Славинии в это время подвергались сильному натиску с обеих сторон. Болгары и ромеи активно ломали их политическую самостоятельность, превращая территории славянских племенных княжеств в административные земли и переселяя их обитателей во внутренние области своих государств. К середине IX в. отчетливо обозначились главные тенденции этнополитической организации земель будущего сред21 невекового Болгарского государства. В отличие от территории соседних сербских племен, разобщенных неблагоприятным рельефом центральной части Балканского полуострова и составлявших мало консолидированную, культурно неоднородную в приморских землях и во внутренней части Балкан среду, где лишь намечались контуры будущих центров и зон их влияния, Болгария благодаря сочетанию концентрической военно-политической организации болгар и системы периферийных областей, созданных на месте бывших славянских княжеств, становилась в известной степени аналогичной современной ей Византии с ее фемным устройством и, следовательно, более пригодной для политического и культурного взаимодействия с империей12, чем веками существовавшие на границах последней разрозненные Славинии. “Государство варварского типа”, как его называет И. Божилов, современный исследователь волен сравнивать с варварскими державами первых веков нашей эры, но на закате первого тысячелетия у самой Болгарии был лишь один реальный объект сравнения — Византия. Их политико-географическое сближение и формирование болгаро-византийской границы в Македонии и Фракии создавали предпосылки для складывания общей культурной среды. Аккультурация как приобщение “языческого”, закрытого для внешнего мира народа к открытой в мир и обладающей мощным притягательным потенциалом культурной общности принадлежит к числу культурно-исторических процессов, характеризующихся, по словам Ф. Броделя, ”длительной временной протяженностью”. Многообразие ее форм включает диалог и одностороннее культурное воздействие, конфронтацию и синтез13. Как правило, четкие хронологические рамки таких процессов не могут быть обозначены, а конкретные обстоятельства и механизмы приобщения к культурной макрообщности не всегда поддаются фактографическому описанию. Отчасти это можно объяснить не только сложным, разносторонним и многоступенчатым характером аккультурации, но и содержанием тех культурных традиций, которые, являясь непосредственным результатом этого процесса, доносят до поздних историков выборочную и одностороннюю информацию о его конкретных обстоятельствах. Так, книжность европейских народов, принявших христианство в ран22 нем средневековье, описывает аккультурацию в духе христианской традиции как акт нового рождения, обновления через крещение, естественным образом игнорируя при этом долгую предысторию обращения. Но в то же время реальные обстоятельства аккультурации находят выражение в легендах о выборе веры, в известной мере отражающих сложность, противоречивость и альтернативность этого процесса14. Его историческое исследование поэтому практически всегда ретроспективно и имеет исходной точкой уже осуществленный акт выбора, хотя при этом могут учитываться и не реализованные, но действительно существовавшие альтернативы. Отсюда, на наш взгляд, происходит настойчивое стремление историков найти фактические подтверждения деталям исторического предания о предопределенности выбора, лежащего у истоков культурной традиции того или иного народа. Специфика ранней культурной истории Болгарии состояла не только в исключительно сложном и многофакторном характере самого кульминационного этапа аккультурации формирующейся болгарской народности в складывающуюся византийско-славянскую общность, но и в сложности исторического контекста этих событий. На середину и вторую половину IX в. пришлись завершающие фазы целого ряда процессов, определявших развитие Юго-Восточной Европы в предшествующие столетия, — этнополитическая консолидация славян и болгар в древнеболгарскую народность и складывание полноценного средневекового государства; трансформация Восточной Римской империи в Византию и оформление византийского конфессионально-государственного сообщества; обострение церковно-политических разногласий между Римом и Константинополем и начало разделения средневековой христианской Европы на противостоящие “миры”. К середине IX в. укрепилось геополитическое положение Византии, одержавшей верх в длившейся более полутора веков борьбе с арабами. Во внутриполитической жизни империи наконец изжил себя раздиравший Церковь, государство и общество конфликт между иконопочитателями и иконоборцами. Не углубляясь в толкование внутренних социальных и политических пружин этого конфликта15, заметим, что его исход имел решающее значение для будущего формирования восточноправославной общности. Корни ее культурного отли23 чия от западного христианского мира во многом лежали именно в отношении к иконе и к месту последней в системе конфессиональных ценностей. Из эпохи кризиса Византия вышла уже не пережившим свое время рудиментом имперского Рима, а “вселенским царством Христа”. Этот новый тип мировой империи сочетал извечный универсализм римской политической доктрины с крепнущей идеей мирового сообщества православных народов, противостоящего как иноверным арабам, кочевым язычникам и прочим варварам, так и Западу, чьи претензии на “перенесение империи” после коронации Карла Великого и на общехристианское главенство римского первосвященника после основания Ватикана решительно отвергались Константинополем16. Как нам представляется, имперская доктрина оказала несомненное влияние на становление общего для болгар и славян культурного сознания. Еще в дохристианскую эпоху ими было осознано геополитическое положение болгарских владений на Балканах как части бывшей Восточной Римской империи. Дунай — естественная и традиционная граница Римской империи — был интериоризирован как славянами, так и болгарами в качестве северного рубежа имперских владений. Но уже в ранних болгарских надписях VIII—IX вв. Византия представлена не в качестве мирового универсума, каким она себя в то время видела, а как царство греков, делящих с Болгарией балканские земли, через оппозицию “болгары — греки” (реже “болгары — христиане”). Отражающее универсалистские притязания “Второго Рима” название “ромеи” встречается лишь в тех болгарских надписях, которые обозначали установленную договорным путем границу с империей и, видимо, буквально следовали тексту заключенного договора17. Важнейшей вехой формирующегося общего этнополитического сознания стал рубеж между проживанием славян и болгар “по ту сторону Дуная”, как пишется в созданном в конце VIII или в начале IX в. “Именнике болгарских ханов”18, и их поселением “от Дуная до моря”, по выражению “Болгарской апокрифической летописи” XI в.19 Записанное в середине XIV столетия сообщение о начале Болгарского царства в дополнениях к славянскому переводу хроники Константина Манассии также подчеркивает это обстоятель24 ство: ”Перешли болгары через Дунай и отняли у греков эту землю, в которой живут и доныне”20. Таким образом, территория, отвоеванная у Византии на Балканах, представала частью единого в прошлом целого, отныне разделенного между Болгарским государством и Греческим царством четкими взаимно установленными границами. Если ромеи продолжали считать завоеванные болгарами земли частью имперского Запада (Диса), то пространственная ориентация болгар в большей степени опиралась на представления о “верхе” и “низе”, соответствовавших северу и югу, или о “внутренней” и “внешней” территориях 21. Вхождение Болгарии в имперскую ойкумену, пусть непрошенное и насильственное, воспринималось болгарами в духе их древних традиций как законный, “по праву меча”, раздел бывших имперских владений. Так, в поминальных надписях хана Омуртага Колобору и Турдачису22, в цитируемом Константином Багрянородным протокольном вопроснике византийского двора, где упоминаются боилы (знать), живущие “внутри и вне”23, и в ряде других косвенных сведений термины “внутри” и “вне” явно соотносятся с землями, отвоеванными у греков на Балканах, и с территориями, оставленными за Дунаем. “Внутренняя область” болгар противопоставлялась “внешнему миру” — землям к северу от реки. Территория между Дунаем и Балканским хребтом воспринималась как “Верхняя земля”, а постепенно отвоевываемые у Византии области в Македонии и Фракии считались “Нижней землей”, как они назывались, например, в Хамбарлийской надписи хана Крума24. Этот термин сохранялся и в более позднее время; так, “Нижняя земля” упоминается в Вирпинской грамоте Константина Тиха (50—70-е гг. XIII в.) и в болгарских добавках к переводу хроники Константина Манассии25. Противостояние Византии и Болгарии в рамках общего геополитического пространства в VIII—IX вв. знало и периоды острого вооруженного противоборства, и мирные передышки, и союзные отношения. В начале VIII в. в обстановке сложного династического кризиса, охватившего Византию, император Юстиниан II Ринотмет в благодарность за военную помощь, оказанную ему болгарским ханом Тервелом, даровал последнему сан кесаря — одно из высших отличий империи, получение которого сопровождалось коронацией по христиан25 скому обряду. Хотя источники не говорят прямо о крещении болгарского государя, мы находим христианскую символику и аккламации к Богородице на греческом языке на печатях Тервела (700—721) и других болгарских государей, предметах, которые принадлежали болгарским вельможам VIII—IX вв., носившим византийские титулы патрициев26. Любопытно и то, что поздняя хронографическая традиция считает Тервела первым из христианских государей Болгарии, приписывая ему черты крестителя страны князя Бориса-Михаила27. Формула “от Бога государь” встречается в надписях болгарских ханов со времени Омуртага (814—831), причем примерно в то же время в канцелярский обиход болгарских ханов входит и крестное знамение перед именем хана или началом официальной надписи28. Важнейшим культурным фактом в данном случае является, на наш взгляд, не сама идея богопоставленности государя, широко распространенная у народов древности и средневековья, а ее выражение лингвистическими и символическими средствами византийской культуры. Многочисленные свидетельства VIII — первой половины IX в. говорят не только о складывании в империи значительной прослойки византинизированной славянской знати и об интеграции в среду имперской аристократии представителей болгарской родовой верхушки29, но и о начале распространения христианства среди живших на византийской периферии и в южных болгарских землях славян и болгар. Видимо, в это время Константинопольская патриархия постепенно восстанавливала сложившиеся еще до славянских переселений церковные диоцезы в балканских землях, хотя их полномасштабное функционирование здесь вряд ли было возможным30. Использование греческого языка в качестве официального в надписях болгарских ханов VIII—IX вв., где греческими буквами записывались болгарские и славянские имена, титулы и военно-политические термины, свидетельствует об углублении аккультурации. Употребление греческих букв для записи славянской речи, о котором говорится в сочинении Черноризца Храбра (конец IX в.), могло уходить корнями и в славяно-греческое общение на северной периферии балканских владений империи, но первую запись славянского слова греческими буквами в болгарском тексте мы находим в поми26 нальной надписи одного из приближенных хана Омуртага: “...Славна, багатур багаин, был моим сотрапезником и, заболев, умер”31. Другой пример — чаша жупана Сивина, где греческими буквами зафиксирован славянский титул владельца32. Как показывает эпиграфический материал IX—X вв., употребление греческих букв для записи болгарской и славянской речи и становление кириллической письменности, по сути дела, являются двумя сторонами единого процесса, достигающего кульминации к концу IX — началу Х в. — времени легендарного появления учеников свв. Кирилла и Мефодия в Болгарии. Судя по нескольким надписям, в начале IX в. болгары использовали все три принятые в Византии летосчисления — “от сотворения мира”, “от Рождества Христова” и по индиктам, видимо, еще не осознавая значения этих точек отсчета 33. Воспринимаемое наряду с греческим языком и письменностью летосчисление еще более консолидировало культурную среду болгаро-византийского общения задолго до принятия христианства. Таким образом, процесс аккультурации, который заложил основы для формирования средневековой болгарской культуры и в известной мере подготовил почву для образования византийско-славянской общности, включал накапливавшийся опыт контактов и сосуществования Болгарского государства, в рамках которого формировалась древнеболгарская народность, с Восточной Римской империей, превращавшейся в православную Византию. Геополитическая предопределенность вхождения Болгарии в сферу византийского влияния стала основой противоречивого сосуществования двух культур, характеризовавшегося на протяжении нескольких веков причудливым сочетанием симбиоза и конфронтации34. К началу своей общей культурной истории, крещению Болгарии, проживавшие на ее территории славяне и болгары подошли со значительным общим культурным багажом, который, впрочем, ни в коей мере не составлял завершенного и цельного комплекса. Субъектами достаточно далеко зашедшего процесса аккультурации в равной степени выступали как болгарская знать — носительница исконных болгарских традиций, так и возраставшее славянское большинство населения, которое, наряду с традиционной культурой, формировало общие с 27 болгарами представления, связанные с освоением балканской среды и сосуществованием в рамках одной политической общности. Признавая особое значение конфессиональных аспектов аккультурации, мы считаем, что абсолютизация влияния крещения Болгарии на складывание единой культуры ее обитателей, характерная для большинства работ по данной проблеме, неоправданно отодвигает на второй план перечисленные выше предпосылки, вытекающие из складывавшихся традиций болгаро-славянского культурного симбиоза и геополитического единства-противостояния Болгарии и Византии. Заметим, что большинство отмеченных свидетельств аккультурации относится к эпохе не только напряженного политического, но и острого конфессионального противостояния Византии с ее языческими соседями, отмеченного рядом ярких эпизодов — избиением ханом Крумом пленных христиан во главе с епископом Мануилом, истреблением византийцами отказавшихся принять христианство славян, принимавших участие в восстании Фомы в 822—823 гг., казнью в Болгарии принявшего христианство сына Омуртага и др.35 При этом, например, изображение на золотом медальоне самого Омуртага, прославившегося гонениями против христиан не менее своего отца Крума, который был прозван византийцами “вторым Сенахеримом”, снабжено всеми атрибутами христианского государя, включая увенчанные крестами стемму и скипетр36. В середине IX в. сведения о гонениях против христиан в Болгарии прекращаются. Видимо, следует согласиться с теми историками, которые полагают, что причины этого следует искать не только во временном урегулировании отношений с Византией, но и в состоянии болгарского государства и общества, переживавших острый культурный кризис. Его корни Г. Г. Литаврин видит в том, что “в стране одновременно существовали три вероисповедания: признанное официально и поддерживаемое верховной властью, но чуждое абсолютному большинству болгарское язычество; доминирующее в массах населения, но не признанное официально славянское язычество и терпимое отныне, но лишенное необходимых организационных форм христианство”37. Стимулом к обострению данного кризиса могли быть не столько допускавшая 28 исповедание христианства политика хана Пресиана (836—852), сколько значительное территориальное расширение Болгарии в течение всей первой половины IX в., когда под власть Плиски перешли обширные территории во Фракии и Македонии, населенные греками и славянами, немалая часть которых исповедовала христианство. Безусловно, языческой части новоприсоединенных славян были также глубоко чужды как традиционные, так и новые болгарские верования, в обрядовую систему которых с начала IX в. были втянуты и правители подвластных болгарскому хану Славиний, о чем свидетельствует знаменитый пассаж Феофана о ритуальных возлияниях из черепа убитого болгарами в 811 г. императора Никифора, к которым Крум принуждал славянских архонтов38. К этому времени и уже находившиеся под властью болгарских правителей, и вновь завоеванные ими славянские племенные княжества почти два века не были частью сколько-нибудь консолидированной славянской общности, что не могло не отразиться на их самосознании, культуре и, возможно, даже языке. Как в ромейском, так и в болгарском политическом сознании начала IX в. славянские племенные образования в буферной зоне между Болгарией и Византией воспринимались как отдельные формации, восходящие к некогда единому “народу славян”. Родовая и социальная дифференциация была характерна и для “завоевателей”-болгар, так что генеральной тенденцией развития обоих было не укрепление, а деградация традиционного этнического сознания. Межэтническое общение, в быту скорее всего двуязычное, а на официальном уровне использовавшее греческий язык, также не способствовало фронтальному противостоянию славян и болгар. Ни Византия, ни Болгария не могли бы успешно завершить подчинение разделявших их земель пестрого балканского мира без его культурной консолидации. С византийской стороны она происходила через распространение христианства, постоянно расширявшего число своих адептов среди славян и болгар, с болгарской — шла путем формирования общей этнополитической идентичности населения через подданство плисковским правителям и формирование смешанной верхушки. Поглощая новые Славинии на периферии имперских владений и, по-видимому, переселяя славян во внут29 ренние области государства, Болгария пополняла число своих подданных-христиан. § 2. “Болгарская миссия” учеников свв. Кирилла и Мефодия Задолго до кульминационных событий первой половины 60-х гг. IX в., приведших к принятию Болгарией христианства, важнейшей задачей ее правителей стало утверждение значительно расширившегося и консолидировавшегося в политическом отношении государства на международной арене. Стремительное сужение в течение первой половины IX столетия относительного государственно-политического вакуума в Центральной Европе и ликвидация “буфера” из подвластных империи Славиний между Болгарией и Византией требовали от болгарских государей самоопределения относительно сфер конфессионально-политического влияния между Римом, политически представленным в этом регионе Восточнофранкским королевством, и Константинополем. Однако внешнеполитическое лавирование, на наш взгляд, вряд ли могло реально повлиять на характер цивилизационного выбора средневековой Болгарии. В быстро изменявшейся внешнеполитической обстановке 50-х — начала 60-х гг. IX в., когда страна то выступала союзницей Византии и Великой Моравии (858—862), то помогала Восточнофранкскому королевству в его борьбе с бывшими союзниками (862— 863), доминантой ее международного положения оставалось неизменное и геополитически обусловленное противостояние Византии в конфликтных или мирных формах. С этой точки зрения болгарский государь был просто обречен на принятие веры, которую исповедовал его извечный соперник, и обряда, которого тот придерживался. В связи с этим уместно вспомнить мнение выдающегося болгарского историка П. Мутафчиева, к сожалению, высказанное им вскользь и не получившее развития ни в трудах этого безвременно ушедшего ученого, ни в работах его последователей, чье внимание сконцентрировалось на политических и социальных обстоятельствах цивилизационного выбора средневековой Болгарии. По его мнению, последняя, возник30 нув внутри восточноримского универсума и будучи связанной с Византией геополитическим противостоянием, через выбор восточного христианства выравнивала с соперницей свои идейно-политические позиции в этом противоборстве и, следовательно, укрепляла их39. К этому можно добавить, что принятием восточного обряда и греческого языка литургии Болгария нивелировала поле культурного взаимодействия не только с самой империей, но и с втягивавшимися в сферу влияния последней в IX в. отчасти христианизированными сербскими племенами, т. е. фактически создавала предпосылки для формирования славянского сегмента будущей общности. Принятые в историографии картина конфессионального самоопределения Болгарии в 60-е гг. IX в. и интерпретация известных колебаний Бориса I между Римом и Константинополем также нуждаются в некоторой коррекции. Иконоборческий период далеко развел догматические позиции двух основных христианских Церквей, а возвращение к иконопочитанию не улучшило отношений между ними. В то же время первый крупный конфликт Запада и Востока в понтификат патриарха Фотия (858—867) не вызвал резкого размежевания в новообращенном славянском мире, где еще длительное время преобладало ойкуменическое восприятие христианства40. Резко антиримская позиция Фотия осталась чужда даже его посланцам в Великую Моравию — свв. Кириллу и Мефодию, чья миссия, собственно, и привела в конечном счете к закладыванию основ византийско-славянской общности. Активно проповедовавшаяся патриархом Фотием в его посланиях к болгарскому государю идея противостояния православной константинопольской Церкви римской “ереси” не находила отклика у Бориса, склонного, видимо, воспринимать христианство как единую конфессию и искренне интересовавшегося в своих вопросах к папе Николаю I обоснованностью претензий константинопольского патриарха на вселенское главенство. Характерно, что приняв решение креститься, Борис известил о нем Людовика Немецкого 41. Будучи постепенным и длительным процессом, аккультурация Болгарии в формирующуюся византийскую общность переживала различные фазы. Продолжительные эпохи накопления опыта культурного взаимодействия сменялись куль31 минационными периодами, когда в течение одного-двух десятилетий находили конкретные и стабильные формы веками накапливавшиеся тенденции. Некоторые из кульминаций, пользуясь термином Ю. М. Лотмана, можно назвать “взрывами”, когда максимальная концентрация энергии, накопленной в ходе становления государства, народности и культуры и аккумулированной во взаимодействии с окружающим миром, разряжалась в ярких и значимых культурно-исторических сдвигах42. Принятие Болгарией христианства в 864—865 гг. было лишь началом такого сдвига. Новая религия с трудом укоренялась среди разнородного населения страны. Об этом свидетельствуют упомянутые выше вопросы, направленные князем Борисом папе Николаю I в августе 866 г. после разгрома новокрещеным государем мятежа сторонников болгарского язычества. Жестоко наказав пятьдесят два болгарских знатных рода — зачинщиков бунта и простив остальных, Борис, видимо, в целях поддержания общественной стабильности попытался кодифицировать некий минимум допустимых для христианина традиционных бытовых и социальных норм как славянского, так и болгарского происхождения43. Значение этой обширной анкеты может быть истолковано и в том смысле, что начавшаяся задолго до принятия христианства деятельность в Болгарии греческого духовенства мало способствовала восприятию веры большинством славянского и болгарского населения страны, которое не могло разобраться не только в нормативно-ценностной системе, но и в обрядовой стороне христианской религии. Не могло способствовать массовому утверждению христианства и соперничество между латинским и греческим духовенством, попеременно проповедовавшим в стране в 864—870 гг., и положение едва ли изменилось в лучшую сторону, когда каноническая принадлежность болгарской территории Константинополю в 870 г. была признана собором обеих Церквей — Восточной и Западной. Видимо, для большинства подданных, проживавших, по выражению современного эпохе текста — “Сказания о железном кресте”, “...не там, где жил князь, а вне, среди народа”44, греческая литургия оставалась лишь формальным обрядом официального характера. Даже приходские священники, по свидетельству жития 32 св. Климента Охридского, с трудом разбирали богослужебные тексты, хотя знали греческие буквы45. В то же время сохранились рисунки и надписи-граффити, предположительно датируемые второй половиной IX в., авторы которых пытались записать греческими буквами христианские формулы и молитвы46. В начале 80-х гг. для получения духовного образования в Константинополь была направлена группа знатной болгарской молодежи, куда входил сын Бориса-Михаила Симеон. Подготовка собственных кадров духовенства была частью политики князя. Если с внешнеполитической точки зрения его больше всего интересовало признание самостоятельности болгарской державы одним из двух мировых христианских центров, то во внутренней политике он не мог не озаботиться созданием духовных основ влияния на общество 47. Исповедание христианства по обряду и на языке Константинопольской церкви вряд ли создавало особые проблемы для владевшей греческим болгаро-славянской знати или формирующейся интеллектуальной элиты, о чем свидетельствуют надписи на камне и утвари, сведения о болгарских посольствах в Византию и на Запад в 50-е и 60-е гг. IX в. и другие источники48. Во всяком случае, нам неизвестны данные, опираясь на которые Р. Броунинг говорил о “почти шизофреническом положении” образованных славяноязычных болгар при греческом духовенстве, когда следование греческому языку и обычаям “сталкивало их и с низами, и с верхами общества, заставляя быть сопричастными другому государству и его культуре”49. Прозвище “полугрек”, данное Симеону в Византии, скорее подчеркивало непривычно свободное для болгарина владение греческим языком50, нежели имело негативный оттенок. Наиболее значительные последствия для культурного развития Болгарии имело принятие Борисом около 886 г. изгнанных из Великой Моравии учеников свв. Кирилла и Мефодия51. По меткому замечанию И. И. Шевченко, “история успеха кирилло-мефодиевской миссии начинается с изгнания” их последователей из Моравии52. Современное состояние обширной кирилло-мефодиевской историографии избавляет нас от необходимости доказывать, что значение эпохальной миссии славянских апостолов было обусловлено не 33 столько ее начальным конфессионально-политическим предназначением, сколько уникальными культурно-историческими результатами, проявившимися именно на болгарской почве. Вместе с тем миссию солунских братьев нельзя полностью вырывать из контекста амбициозной политики патриарха Фотия (858—867, вторично 877—886), в 60-е гг. IX в. нацеленной на противостояние римско-германской церковной экспансии в Восточную Европу и на формирование универсальной конфессионально-политической общности нового типа, ядро которой должно было составить сообщество Византии и славян Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы53. Последовавшие за моравской миссией (863) крещение болгар и т. н. первое крещение русов — варяжских наемников империи (866—867) сформировали остов политики, имевшей долговременные последствия. То, что И. И. Шевченко назвал “парадоксом” кирилло-мефодиевской миссии: сочетание провала основной цели — распространить влияние Константинопольской патриархии на славян Центральной Европы с “побочным” успехом — утверждением славянской церковной книжности и литургического языка в Болгарии — по сути, стало основой нового культурного сегмента христианской Европы. Важность последствий миссии свв. Кирилла и Мефодия для средневековой болгарской культуры уже многие десятилетия побуждает ученых к поискам ранних точек соприкосновения солунских братьев и их учеников с Болгарией. На наш взгляд, большей части предположений на этот счет так и предстоит оставаться в области недоказуемых исторических гипотез. Это касается мнений о славянском происхождении братьев54, о т. н. Брегальницкой миссии св. Кирилла55, о славянском княжестве Мефодия и якобы развивавшейся в нем книжности56, о пути миссии в Великую Моравию через болгарские земли в 863 г.57, о связи между рукоположением Мефодия и болгарским посольством в Рим в 869 г.58 и пр. Гораздо меньшее внимание уделяется другой стороне вопроса — становлению греко-славянской культурной среды, объединенной общим исповеданием восточного христианства. Первые монастыри в славянских землях Македонии были основаны еще в первой половине IX в. действовавшим здесь греческим миссионером св. Германом Косинецким. Монахи34 славяне жили в монастырях Константинополя, Фессалоник, Олимпа. Одна из таких обителей, где жил св. Мефодий, и стала местом создания глаголицы — азбуки миссионерского предназначения59. В то же время трудно предположить, что в обстановке, сложившейся вокруг болгарского церковного вопроса в 867— 880 гг., князь Борис и его окружение вообще не знали о деятельности кирилло-мефодиевской миссии в славянских землях Центральной Европы. Возможно, большего доверия заслуживает сообщение Феофилакта Охридского о контактах Мефодия с Болгарией в последние годы его земной деятельности: “...великий Мефодий... непрестанно одарял благодеянием своих слов и болгарского князя Бориса, что жил во времена византийского императора Михаила и которого он ранее сделал своим духовным сыном и окормлял своей прекрасной во всем речью”60. Небезынтересно также неоднократно высказывавшееся предположение о том, что кафедрой Мефодия, рукоположенного в 870 г. во епископа Паннонии, считался Сирмий, находившийся в непосредственной близости от болгарских пределов61. Этот древний церковный центр на Дунае был связан с родиной Мефодия — Фессалониками как общим почитанием св. Димитрия, так и славяно-болгарскими миграционными потоками VII в.62 После смерти Мефодия в 885 г. его ученики были изгнаны из Моравии. Как сообщает житие св. Климента Охридского, некоторые из них, построив плот, зимой 885/886 гг. спустились по Дунаю в принадлежавшую болгарам крепость Белград. К моменту их прибытия в Болгарию канонические позиции Константинопольской патриархии здесь значительно окрепли. Хотя в 865—880 гг. князь Борис неоднократно пытался добиться независимости Болгарской церкви, Константинополь подменял вопрос о ее самостоятельности формальным признанием автокефальности возглавляемой греческим иерархом Болгарской архиепископии, центром которой в это время по традиции считался Доростол (Дрыстр)63. Разветвленная иерархия новоучрежденной греческой архиепископии была весьма многочисленна, что вызывало завистливые нарекания римского престола64. Однако ученики Мефодия, прибыв в Белград, направились не к местному греческому епископу, а к княжескому наместнику, который “знал, что Борис 35 жаждет видеть таких мужей”. После краткого отдыха наместник препроводил Климента, Наума и Ангелария к князю “как драгоценный дар и сообщил ему, что это именно те люди, которых он так желал обрести”65. Древнеболгарское житие св. Наума Охридского говорит о еще одной группе славянских клириков из Моравии, проданных немцами в рабство и выкупленных византийским послом в Венеции, а затем переправленных в Константинополь. Оттуда некоторые из них “пришли в Болгарскую землю и с великой честью нашли покой”66. Легендарный характер известий об обстоятельствах появления в Болгарии подготовленных свв. Кириллом и Мефодием славянских духовников не мешает предположению о действительной ориентации болгарского князя на сотрудничество со славянским духовенством, изгнанным из Паннонии и Моравии. Одним из его представителей мог быть будущий преславский епископ Константин. Примерно в это же время из Константинополя на родину возвратились Симеон и другие клирики-болгары, которых князь Борис ранее отправил в Византию для получения духовного образования67. Изгнанные из Моравии ученики свв. Кирилла и Мефодия, видимо, рассматривали свою деятельность в Болгарии как новый этап апостольской проповеди среди крещеного, как и в Центральной Европе, но нуждавшегося в духовном окормлении на понятном славянском языке населения. Это соответствовало интересам болгарского князя, стремившегося укрепить свою власть в недавно присоединенных землях македонских славян, ранее крещенных византийцами. После краткого пребывания кирилло-мефодиевских учеников в Плиске Борис отправил Климента на юго-западную периферию Болгарского государства, в Кутмичевицу, в качестве “учителя”, т. е. клирика, чьими обязанностями были укрепление в вере новообращенных христиан и подготовка низшего духовенства для окормления этой паствы68. Деятельность по обращению язычников в христианство могла иметь место и здесь, но не играла главной роли. Рассказ Феофилакта Охридского подразумевает, что три с половиной тысячи учеников Климента знали греческий обряд и основы вероучения, но нуждались в славянских текстах проповедей и молитв, по36 нятных населению, и в разъяснении “более глубоких мест Писания”69. Ангеларий после недолгого пребывания в болгарской столице скончался, а Наум, судя по упоминанию в предисловии к “Учительному евангелию” Константина Преславского 70, оставался в Плиске и участвовал в становлении местного центра славянской книжности. Среда, в которой он работал, отличалась от условий деятельности Климента. Монастыри, создаваемые на востоке страны, в близости от Плиски, и при поддержке князя, черпали кадры в христианизированной прослойке болгаро-славянской знати. Здесь принимали постриг выходившие на покой вельможи, сюда же, видимо, поступали их дети. Первоначально здесь преобладал греческий язык, но с появлением славянских книг, по-видимому, начался сложный процесс совмещения славянского языка с греческой графикой письма. Возможно, поэтому Наум не пробыл здесь долго. После того как св. Климент был рукоположен во епископа Велики — области в Родопах (893), св. Наум стал его преемником на учительском поприще в Македонии, где и оставался до своей блаженной кончины в 910 г.71 На наш взгляд, нет оснований подвергать сомнению пространную оценку деятельности св. Климента как епископа, данную в его житии: “Он узрел, что народ прост и полностью не способен понять Св. Писание... и что на болгарском языке нет похвальных слов. Поняв это, он нашел противодейственное средство и разрушил стену непонимания своими делами. На все праздники он составил простые и ясные слова, где не было ничего ни глубокого, ни премудрого, но которые были понятны и самым простым болгарам. Ими он окормлял души простых болгар, напояя молоком тех, кто не мог принимать более твердую пищу, став новым Павлом для новых коринфян...”72 Поддержка, которую оказывал ученикам свв. Кирилла и Мефодия болгарский князь, могла быть обусловлена далеко идущими политическими намерениями, но вряд ли стоит видеть в свв. Клименте и Науме их непосредственных исполнителей, как, вслед за В. Златарским73, считали практически все болгарские исследователи. Будучи “учителем по апостольскому чину” — проповедником, целью которого было утверждение влияния Церкви, Климент вряд ли мог по особому 37 приказанию Бориса вдалеке от Плиски и недреманных очей греческого духовенства готовить кадры для будущей самостоятельной славяноязычной болгарской иерархии. Деятельность такого характера и масштаба не только противоречила духу кирилло-мефодиевской миссии, но и требовала благословения местного греческого духовного иерарха. Присущий славянским апостолам экуменизм в первом случае и элементарная каноническая дисциплина — во втором создавали бы неодолимые препятствия для беспрекословного следования Климента политике Бориса, направленной на раскол Константинопольского диоцеза. В то же время плисковский двор и местный правитель создали все условия для его учительской деятельности, снабдив особой грамотой, предоставив дома в Деволе и загородные владения в Охриде и Главинице, а также обязав проживавших там крестьян платить подати в пользу Климента и его сподвижников74. Деятельность Климента Охридского в юго-западных пределах Болгарии не могла носить оппозиционного характера по отношению к официальной, т. е. подчиненной Константинополю, Болгарской церкви. Именно в непосредственной близости к Фессалоникам, в землях, где сохранялось еще древнее епархиальное деление, славянские учителя в большей степени находились в поле зрения греческой иерархии, чем на северо-востоке страны, где систему диоцезов приходилось создавать заново. Сам характер книжной деятельности св. Климента — переводчика триодных песнопений, составителя многочисленных поучений на праздники, канонов и похвал святым — требовал постоянной связи с византийскими монастырскими библиотеками Фессалоник и Константинополя, а также с местной кафедрой, которую в то время мог занимать только епископ-грек. О иерархах-греках, подчинившихся приказу Бориса и его наместника, идет речь в приведенном с документальными подробностями в житии св. Климента рассказе о перенесении из греческого Тивериуполя в новоустановленную болгарскую епископию в Брегальнице мощей трех из пятнадцати местных мучеников — свв. Тимофея, Комасия и Евсевия. В то же время во вновь построенной церкви в честь святых служили по-славянски, для чего был подготовлен “особый клир, обученный богослужению на болгарском языке”75. 38 Период утверждения в Болгарии принесенных учениками свв. Кирилла и Мефодия славянской литургии и письменности был сравнительно кратким, но в то же время напряженным и творчески насыщенным. Его определяющее культурное содержание было связано не столько с изменениями политической обстановки в стране, сколько с продолжением процесса аккультурации Болгарии в восточноправославную общность под влиянием нового фактора — византийской по происхождению, общехристианской по сути и славянской по языку кирилло-мефодиевской традиции, перенесенной на болгарскую территорию76. Она взаимодействовала с местными традициями, продолжавшими развиваться и после прихода учеников Кирилла и Мефодия в Болгарию. Первоначально христианство как официальная религия греческого обряда распространялось из северо-восточных пределов страны с центром в Плиске. Если считать достоверной греческую надпись об основании монастыря близ с. Равна неподалеку от Плиски в 889 г., то связанный с этим центром богатый и разнообразный эпиграфический материал IX—XI вв., четко отражающий переход письменной традиции с греческого языка на славянскую кириллическую письменность, можно интерпретировать как свидетельство постепенного и естественного характера аккультурации77. В то время как язык первых славянских литургических текстов был несомненным наследием солунских братьев, письменность, продолжавшая традиции древней средиземноморской цивилизации, складывалась на территории Болгарии на основе употребления греческих букв для записи славянской и болгарской речи в течение предшествовавших десятилетий. Весьма сложно определить объем и содержание текстов, созданных между приходом в Болгарию учеников свв. Кирилла и Мефодия около 886 г. и т. н. Преславской реформой князя Симеона в 893 г., с которой обыкновенно связывается утверждение приоритета славянского языка и кириллической письменности. На наш взгляд, некорректно предположение о перенесении в Болгарию учениками свв. Кирилла и Мефодия всей книжной продукции, созданной в Моравии и Паннонии. Особенно это касается некоторых переводов Мефодия — книг Ветхого Завета и Номоканона78. Гораздо более плодотворным было бы представить себе поэтапное складывание основного 39 комплекса книжности, вне которого нельзя считать возможным возникновение и бытование отдельных крупных произведений, о создании которых на болгарской почве до 893 г. имеются более или менее точные сведения. Авторитетные исследователи кирилло-мефодиевского наследия считали, что первоначальные задачи славянской книжности в Болгарии ограничивались проповедью, и отсюда большинство ранних текстов, атрибутируемых первичному кругу славянских книжников — последователей свв. Кирилла и Мефодия, имели типично миссионерское предназначение 79. Однако открытия в области гимнографического наследия св. Климента и Константина Преславского показывают, что их раннее творчество было тесно связано и со становлением в Болгарии славянской литургии80. Рамки ее распространения первоначально вполне могли ограничиваться несколькими монастырями в окрестностях Плиски и Охрида, сведения о которых имеются в агиографической литературе, глоссах, данных археологии и эпиграфики81. Самые ранние гимнографические произведения следуют Студийскому уставу, что еще раз подчеркивает тесную связь с Константинополем. Нет сомнений, что для формирования новой ветви христианской культуры, как в свое время для ее византийского инварианта, литургия играла роль стержневого элемента, ядра, вокруг которого складывались остальные культурные формы и традиции. Исходя из этого можно выделить несколько первичных типов книжности, отражавших эти традиции и формы. Во-первых, это были тексты, необходимые для совершения текущих богослужений суточного, недельного и годового кругов, а также треб и таинств. В Болгарии минимальный комплекс таких текстов, принесенных учениками свв. Кирилла и Мефодия (паримийник, Евангелие — краткий апракос, изборный Апостол, Псалтырь), был дополнен Цветной и Постной триодями, Общей и Праздничной минеями, причем в создании и тех и других участвовали Климент Охридский и Константин Преславский. Среди первых служб были и службы Кириллу (новая редакция, составленная в Болгарии) и Мефодию (произведение его прямого ученика Константина Преславского). Особое внимание к гимнографии можно объяснить и тем, что славянская литургия, утверждавшаяся в Болгарии учениками Кирилла и Мефодия, вначале была 40 собственно славянской лишь в части обрядовых текстов неизменного характера, например евангельских чтений, в то время как песнопения продолжали возноситься по-гречески. Во-вторых, были переведены, а в отдельных случаях созданы заново проповеди на праздничные и воскресные дни, а также похвальные слова наиболее популярным среди новообращенных болгар фигурам христианского предания. Специфике конфессиональной ситуации отвечал также сделанный по указанию Константина перевод “Огласительных поучений” св. Кирилла Иерусалимского и “Церковного сказания” св. патриарха Германа. Характерно, что эта большая работа, начатая, вероятно, еще в дни совместного пребывания учеников свв. Кирилла и Мефодия в Плиске или ее окрестностях, продолжалась регулярно и целенаправленно и после того, как св. Климент был послан в Македонию, а св. Наум и привлеченный им к работе Константин Преславский остались на северо-востоке страны82. Гомилетическое творчество первых болгарских просветителей имело огромное значение для развития языка проповеди, которое, в свою очередь, оказало первостепенное влияние на всю средневековую болгарскую книжность, а с ней и на духовную культуру православного славянства. Похвальные и учительные слова Климента и Константина на многие века стали моделями образного и стилевого строения церковной книжности. В-третьих, с перенесением в Болгарию житийных текстов о свв. Кирилле и Мефодии были заложены основы славянской агиографии, корни которой также уходят в раннюю кирилло-мефодиевскую традицию. Создание служб и установление поминовения славянских апостолов (14 февраля, 6 апреля и 25 августа) означали их фактическую канонизацию в Болгарии. Зримым выражением общехристианского духа, который пронизывал деятельность первых славянских просветителей Болгарии, стало распространение в стране наряду с культами свв. Кирилла и Мефодия почитания св. Климента Римского — небесного покровителя Моравской миссии и соименного просветителю Болгарии святого. Похвала св. Клименту, созданная св. Климентом Охридским, подчеркивала общность его почитания для всех христиан: ”Ты взошел на Западе как незаходящее солнце, на Востоке же ради подвига праведности ты был увенчан наравне с Петром и Павлом...”83 Новый 41 праздник св. Климента Римского, связанный с преданием об обретении св. Кириллом его мощей в Корсуни, отмечен в синаксарях древнейших славянских списков Евангелия и Апостола, древнее последование под 30 января имеется в служебной Минее84. С почитанием первых славянских святых — равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и связанным с ними культом св. Климента агиографическая традиция смогла прочно войти в формирующуюся древнеболгарскую культуру как одна из ее несущих конструкций. Ее пополнили сборники монашеских житий — патерики, один из которых — Синайский — по-видимому, также был переведен в конце IX в. Этот перевод может быть отнесен к кругу Мефодия, “Пространное житие” которого упоминает некие “отеческие книги”85. В-четвертых, можно говорить и о появлении на славянском языке первых исторических текстов, дававших некоторые ориентиры для христианского понимания всемирной истории. Одно из таких произведений, восходящее к византийским кратким хроникам, — “Историкии” — помещено при древнейшем русском списке сборника проповедей на евангельские темы Константина Преславского — “Учительного евангелия”, составленного в самом конце IX в.86 В упоминании болгар в статье “Историкий” о гибели византийского императора Никифора в 811 г. (“Его... убили болгары 27 июня”) некоторые исследователи видят “попытку включить болгарский народ и государство во всемирную историю”87. Если это так, то “попытка” просматривается скорее не в дополнении византийского текста “Историкий”, а во включении их в состав проповеднического по содержанию сборника, который, возможно, открывало портретное изображение болгарского князя Бориса-Михаила, повторенное в том же русском списке XII в., где сохранились и “Историкии”. Сам же Константин в других текстах сборника склонен вслед за солунскими братьями называть свою паству “славянами”, как бы отделяя ее от язычников-болгар, убивших василевса ромеев и истребивших его воинов-христиан. Календарная дата в тексте, где в остальных случаях отмечен только год события, на наш взгляд, говорит о происхождении дополнения из агиографической традиции, содержавшей синаксарный рассказ об избиении Крумом христиан, бывших в войске Никифора88. В дальнейшем связь между агиографией и летописа42 нием станет одной из особенностей средневековой болгарской культуры. Наконец, переводом выборки из третьей части обширного богословского компендиума св. Иоанна Дамаскина “Источник знания” Иоанном Экзархом была заложена основа болгарской богословской литературы — адаптированная и систематизированная особым образом святоотеческая традиция. Предназначение произведения, известного в древнеболгарском переводе как “Небеса”, и принципы отбора материала переводчиком (из ста глав “Точного изложения православной веры” св. Иоанна Дамаскина болгарский книжник избрал только сорок восемь, дополнив их статьями из трудов свв. Феодорита Киррского, Григория Нисского и, возможно, Епифания Кипрского) требуют специального исследования. Другую возможность — перевод Экзархом уже сокращенного в греческом варианте компендиума — исследователи считают маловероятной89. На наш взгляд, важно отметить не только сюжеты, привлекшие внимание Иоанна Экзарха, но и те из глав первоисточника, которые не вошли в его перевод. Одно из его главных отличий от нормативного компендиума было отмечено еще русскими эрудитами XVI в. князьями А. М. Курбским и М. А. Оболенским: ”В третьей (части) 27 словес не было... против различных еретиков”90. На самом деле пропущенный Иоанном Экзархом комплекс статей третьего и четвертого разделов касался не только еретических заблуждений монофиситов, несториан и прочих еретиков, но и догматических трактовок сложнейших вопросов исповедания веры — соотношений естеств и ипостасей Божества, о Воле Божьей и ее действовании, о тленности Тела Господня до Воскресения и о сошествии Души Господней во ад. Тенденция к пропуску сложных богословских вопросов, как нам кажется, просматривается и в первом разделе “Небес”, куда не вошли главы, разъясняющие основные догматические положения о божественных именах, ипостасях и свойствах. Некая закономерность просматривается и в составе выборки из второго раздела, посвященного творениям Божьим и среди них человеку, где оказались пропущенными главы “О печали”, “О боязни”, “О гневе”, “О воображении”, а также главы о мыслительной способности, памяти, деятельности, о добровольном и невольном деянии. Нацеленность 43 всей выборки не на богословские диспуты и разоблачение ереси, а на проповедь представляется вполне очевидной91. Таким образом, первоначальный объем и характер славянской книжности, возникшей в Болгарии усилиями первых славянских просветителей, определялся не политической конъюнктурой или актуальными запросами общества, а нуждами проповедников-миссионеров, закладывавших прочные основы нового сегмента христианской общности. В своих первых шагах формировавшаяся в Болгарии славяноязычная христианская культура опиралась не на этнополитические славянские основы, а на провозглашавшее рождение нового Божьего народа — славян кирилло-мефодиевское наследие. Последнее, в свою очередь, принадлежало миссионерской традиции, специально приспособленной Византией для передачи народам, с которыми империя уже в течение нескольких столетий находилась не только в одном геополитическом пространстве, но и в многообразном и тесном культурном взаимодействии. § 3. Первые контуры модели болгарской средневековой культуры Благоприятная среда, подготовленная десятилетиями постепенной аккультурации Болгарии в византийскую ойкумену, и совпадение интересов болгарской элиты с целями кирилло-мефодиевской миссии, направленными на приобщение к христианству огромного славянского массива, часть которого находилась под властью болгарских правителей, обусловили завершение именно на территории Болгарии масштабной миссионерской деятельности византийского духовенства в центре и на юго-востоке Европы. Идейное содержание созданного в ее ходе в Болгарии первого пласта книжности на славянском языке, на наш взгляд, вряд ли могло выражать формирующееся болгарское этническое самосознание. Важнейшей проблемой, стоявшей перед первыми творцами болгарской христианской культуры, стало утверждение особой культурной идентичности через синтез двух составляющих: “достоинства” славянского языка в широком над44 этническом смысле слова и утверждения болгар как равноправного члена семьи христианских народов. Как известно, в конце 80-х и начале 90-х гг. IX в. развитие Болгарии было нарушено политическим кризисом, возникшим в правление Владимира (Расате) — сына и преемника удалившегося в монастырь князя Бориса. Историография связывает этот кризис с попыткой “возвращения к язычеству” или с возобновлением прозападной ориентации Болгарии, что выглядит более вероятным92. Видимо, кризис сопровождался ослаблением позиций кирилло-мефодиевского духовенства в Болгарии. Константин Преславский возвещал в одной из своих воскресных проповедей, вошедших в “Учительное евангелие”, возможно, имея в виду краткое правление Владимира-Расате: “Исполним заповеди Его, не боясь царя, не испытывая страха перед князьями, не стыдясь вельмож. Но пусть и гонениям будем подвергнуты, даже и муки пусть нам предстоят, пусть и принуждены будем — не должны мы ни бояться, ни отлучаться от любви к Нему”93. Последним актом кризиса в 893 г. стали возвращение в мир Бориса, детронация Владимира и проведение в Преславе собора, на котором княжеские регалии были торжественно переданы Симеону94. Считается, что на этом соборе новый болгарский государь перенес столицу в Преслав, утвердил славянскую литургию и кириллицу как официальное литургическое письмо и поставил епископами славянских клириков (Климента — в Велике, Марка — в Деволе, Константина — в Преславе), тем самым открыв новую эпоху в жизни средневековой Болгарии. Эти предположения, как и догадки историков, что такими действиями Симеон лишь реализовал на соборе 893 г. целую программу, над которой работал в болгарских монастырях вместе с учениками свв. Кирилла и Мефодия на протяжении нескольких лет перед своим вокняжением, стали общими местами историографии вопроса95. С различных точек зрения может быть оспорена достоверность практически каждого из якобы принятых Симеоном решений, но безусловно отвергнуто, на наш взгляд, должно быть представление об их одновременности и одномоментности. Греческая литургия в болгарских церквях совершалась наряду со славянской еще многие столетия, вытеснение глаголицы кириллицей было длительным и противоречивым процессом, вызвавшим в болгар45 ском обществе острую дискуссию, известную по “Сказанию о письменах” Черноризца Храбра, рукоположение Климента, Константина и Марка во “епископы славянского языка” не могло быть одновременным и не означало административную “замену греческого клира славянским”96. Вместе с тем несомненно, что воцарение Симеона — первого болгарского государя, воспитанного в христианской вере и глубоком знании византийской культуры, открывало новые возможности и средства как для дальнейшей христианизации духовной жизни, так и для развития официальной идеологии Болгарского государства. Став христианской державой, Болгария не только продолжила вековое соперничество с Византией, но и окончательно перенесла его в общее для двух стран культурное пространство. Основание новых храмов и монастырей и перенесение в них мощей святых из бывших греческих центров стало частью государственной политики болгарского князя97. Богослужение в новопостроенных храмах совершалось не только по-гречески, но и на славянском языке, в то время как в политической практике, видимо, продолжал доминировать греческий, на котором, например, Симеона приветствовало его войско 98. В дворцовом обиходе, династическом предании и летосчислении оставался в употреблении болгарский язык, о чем недвусмысленно свидетельствуют надписи, связанные с дворцовой канцелярией и “Именник болгарских ханов”99. Применение титула “князь” к последним государям языческой Болгарии100 и последовательное именование князем Бориса косвенно говорят о дальнейшем взаимопроникновении болгарских и славянских политических традиций в новой конфессиональной атмосфере. Из многочисленных свидетельств этого процесса можно отметить, например, погребение “великого жупана в Болгарии” Сивина, где была найдена серебряная чаша — элемент болгарского погребального обряда — с греческой владельческой надписью хозяина, еще при его жизни дополненной греческой же формулой “Господи, помоги”101. Такую могилу вполне могла венчать славянская эпитафия, которой сопровождалось другое, более позднее погребение — Симеонова вельможи “чъргубиля” (т. е. ичиргу-боила) Мостича102. В то же время в конце IX в. идентичность нового сегмента христианской культуры, созданного трудами последова46 телей свв. Кирилла и Мефодия в Болгарии, формировалась прежде всего через утверждение достоинства славянского языка в качестве не “lingua ethnica”, но нового литургического языка, принадлежащего всей новообращенной славянской христианской общности. Манифестом, возвещающим ее существование, звучит “Проглас Св. Евангелия”, несомненно, входящий в число самых ранних свидетельств славянской письменности в Болгарии и усваиваемый традицией самому св. Кириллу103: «Как предрекли пророки прежде, Христос “грядет собрать языки”... Того ради слушайте, славяне, сие... Слушайте, все народы славянские! Слушайте Слово, ибо оно от Бога пришло, Слово, что питает души человеческие, Слово, что укрепляет и сердце, и ум, Слово, что готовит всех к познанию Бога...»104 Этот текст, концептуальный для обоснования славянской общности как надэтнической и духовной через общее Слово для “всех славянских народов”, стал одним из первых выражений самосознания новой христианской культуры, субъектом которой был провозглашен новоизбранный народ Бога-Слова — СЛОВЬНЕ. Такой подход полностью решал проблему адекватности “природного” языка тому, на котором говорил с народом Бог, не однажды поднимаемую Писанием. “Собирание языков”, о котором шла речь в “Прогласе”, имело исходным пунктом не семьдесят два языка “вавилонского столпотворения”, а чудо Сошествия Св. Духа на апостолов105. Так начало истории славян как Божьего народа свидетельствовалось не Ветхим Заветом, а Новым и приобретало связь с апостольскими деяниями. В унисон “Прогласу” звучит “Азбучная молитва”, предваряющая “Учительное евангелие” Константина Преславского: “Летит ибо ныне и славянское племя, Целиком обратясь к крещению... Божественной Троице... Ей, что питает любой возраст... Новый язык хвалу воздает присно”106. 47 Авторство “Прогласа” большинство современных ученых отдают св. Кириллу, но продолжает существовать и мнение о его принадлежности Константину Преславскому. В любом случае оба текста объединены идеей о новообращенном славянстве как новой конфессионально-культурной общности, пополнившей число “Божьих народов”, которые славят Господа на своем языке, ниспосланном в числе прочих на пятидесятый день по Воскресении Христовом107. Формирующаяся в лоне восточного христианства новая европейская культурная общность начинала обретать и утверждать свою культурную самобытность через язык литургии и проповеди, отталкиваясь прежде всего от уже утвердившихся конфессиональных, а не этнических координат — латинского и греческого сегментов христианской культурной общности. Если рассматривать все древнеболгарские тексты конца IX — начала Х в., относящиеся к дискуссии о достоинстве славянского языка и дошедшие до нас в списках ХII— XV вв., как первоисточники, то в этой дискуссии можно выделить три главных аспекта. Первый из них связан с т. н. “триязычной ересью”. Как показали исследования Р. Пиккио и Ф. Томсона, версия о “триязычной ереси”, якобы поддерживавшейся частью западного духовенства и официально осужденной Римом, скорее всего сложилась в славянской среде конца IX в. и не отвечала тогдашней римской догматике и канонической действительности108. Она значительно преувеличивала препоны, воздвигавшиеся перед славянской проповедью и литургией на Западе, но в то же время приписывала осуждение идеи ограничения числа священных языков как еретической римскому первосвященнику. Обвиняя противников славянской литургии в еретическом заблуждении, что Слово Божье может звучать и записываться только на трех языках — латинском, греческом и древнееврейском, ученики свв. Кирилла и Мефодия — авторы составленных в конце IX в. “Паннонских легенд” — с помощью авторитета Рима утверждали Slavia Orthodoxa в христианском мире. Легендарное осуждение “триязычной ереси” папой Николаем I, описанное в “Паннонских легендах”, и утверждение о богоизбранности свв. Кирилла и Мефодия становились важными аргументами в пользу нового христианского народа — славян. Лития у гроба Мефодия, которую его 48 ученики отслужили по-гречески, по-латыни и по-славянски, стала первой полномасштабной манифестацией Slavia Orthodoxa109. Второе направление — полемика с греческим духовенством — менее отчетливо отражено в источниках, и сам характер дискуссии не столь ясен. Нет возможности даже точно установить, имелись ли в конце IX в. в позиции Константинопольской патриархии канонические отличия от Западной церкви, на практике разрешавшей использование местных языков для проповеди и вероучения и ограничивавшей их литургическое употребление. Ранний отголосок негативного отношения греков к славянским языку и письменности, возможно, чувствуется в одном пассаже “Учительного евангелия”, где Константин Преславский говорит о св. Иоанне Златоусте: “Не только греки обогатились отцом этим, но и славянский род, который считался попираемым всеми (МЪНИМЫЙ ПОПЪРАН БЫСТЬ ВСЕМИ)”110. Опосредованное отражение этой дискуссии можно видеть и в заявлениях Иоанна Экзарха и неизвестного автора в т. н. Гильфердинговом листке о состоятельности славянского языка как средства выражения через “неподобное подобие” смысла, заложенного в написанных по-гречески священных текстах111. Изложенные здесь принципы перевода опираются на твердое представление о равном достоинстве греческого и славянского языков, более того, у Иоанна Экзарха и Константина Преславского, как и у переводчика жития св. Антония — книжника Иоанна, не чувствуется особого пиетета к греческому языку, появившегося у южнославянских книжников позднее, в XIV в. Отстаивая принцип перевода по смыслу, а не дословно, Иоанн Экзарх заявляет: ”Не укоряйте меня, братия, если найдете где-либо не то же самое слово, ибо вложен в него тождественный смысл... Не всегда возможно точно перевести с греческого языка... Так бывает и со всяким языком, когда переводят на другой”112. Константин Преславский, переводя “Евангельские толкования” св. Иоанна Златоуста с греческого языка на славянский, видит “слова, превосходящие... понимание и силы” не “изяществом” греческого языка, о котором будут много 49 толковать поздние книжники, а принадлежностью святому автору113. Еще один возможный отголосок борьбы за утверждение нового “славянского” книжного языка — это именование в греческих текстах о свв. Кирилле и Мефодии языка трудов их учеников “болгарским”. Намеренное низведение надэтнического сакрального языка, каковым по происхождению и по определению был славянский, на уровень “языческого”, варварского диалекта здесь могло отражать позицию другой стороны в предполагаемом споре, хотя относительно более позднее происхождение греческих документов (XI—XII вв.) не позволяет высказаться на этот счет более определенно. Во всяком случае, если мы представим славянские акценты “Прогласа Св. Евангелия”, “Азбучной молитвы”, “Паннонских легенд”, предисловия Иоанна Экзарха к “Небесам” и греческую настойчивость в назывании славянского языка болгарским как части культурного диалога конца IХ в., то его смысл будет выглядеть отличным от конструируемой ранними кирилломефодиевскими текстами дискуссии с Западом и сведется в основном к спору о лингвистической возможности адекватного выражения по-славянски восточнохристианской культурной традиции, а не о правомерности самого этого деяния. Вместе с тем в данном диалоге закладывалась одна из основных структурообразующих бинарных оппозиций духовной культуры православных славян — противопоставление “славяне — греки”. Наконец, третий аспект становления культурной модели Slavia Orthodoxa на болгарской почве отразился в полемике по частным вопросам кирилло-мефодиевской традиции, отраженной в известном “Сказании о письменах” Черноризца Храбра, создание которого, несомненно, относится ко времени между приходом учеников свв. Кирилла и Мефодия в Болгарию и окончательным утверждением здесь славянской литургии и кириллической письменности. Принимая во внимание оправданные предостережения Р. Пиккио относительно сохранности текста данного памятника, самые ранние списки которого относятся к XIV в.114, мы коснемся только одной проблемы, которую итальянский славист намеренно оставляет без разрешения, — изначального адресата полемики. 50 Перечисленные Р. Пиккио десять полемических тезисов Храбра115 были одновременно актуальны не в XIV в., когда православная славянская культура переживала мощный духовный подъем, а именно во времена самоутверждения новообразованной славянской христианской общности, т. е. в конце IX в. Здесь к тезисам о равном достоинстве славянского языка перед греческим, латинским и древнееврейским и о его совершенстве как лингвистической системы добавляется еще один — защита исконной и богоданной кирилло-мефодиевской письменности (известной нам как глаголическая) перед сторонниками записи славянской речи усовершенствованными греческими буквами116. Черноризец Храбр подчеркивал, что славянское письмо создано богоизбранными мужами, историческая достоверность деяний которых подтверждалась точной датой обретения славянских букв и живыми свидетелями, лично видевшими свв. Кирилла и Мефодия117. Этот аспект также нельзя считать внутренним по отношению к проблеме утверждения славянской общности. По сути дела, речь в трактате Черноризца Храбра — убежденного защитника чистоты изначальной кирилло-мефодиевской глаголической традиции — идет о сложившейся к концу IX в. культурной альтернативе — сохранения полной самобытности славянской письменности или принятия сложившейся вне кирилло-мефодиевской миссии древнеболгарской практики письма усовершенствованной (видимо, не без помощи глаголицы) греческой графикой118. Сам факт появления полемики на культурно-богословские темы и споров вокруг дальнейших путей развития славянской христианской общности зафиксировал начало ее самостоятельного бытия. Из всей огромной территории славянской Центральной и Юго-Восточной Европы, на которой проходила апостольская деятельность свв. Кирилла, Мефодия и их учеников в конце IX в., именно в Болгарии выкристаллизовалась самостоятельная среда, получившая поддержку болгарского князя и знати и выработавшая собственную идентичность в тогдашнем христианском мире. Обоснование славянской самобытности, начатое в сочинениях свв. Кирилла и Мефодия и их болгарских последователей, строилось не на расколе уже весьма конфликтного в то время христианского европейского мира, а на обогащении христианской ойкумены 51 новым народом, на обретении еще одного “от великих языков”, на которых Церковь со дня Пятидесятницы славит единого Бога. Детальное обоснование достоинства славянского языка, выполненное учениками свв. Кирилла и Мефодия, не только ставило его в один ряд с утвердившимися в европейской христианской традиции латынью и греческим, но и подчеркивало особый, апостольский характер его истоков. Так усилиями учеников свв. Кирилла и Мефодия в Болгарии сформировался круг образованных клириков, которые, возможно, будучи по этническому происхождению как славянами, так и болгарами, считали себя и своих соплеменников, приобщенных к христианству через славянскую литургию, членами новой славянской христианской общности с особым культурным сознанием и языком. Продолжая дело своих святых Учителей, свв. Климент и Наум, Константин и Иоанн Экзарх, пресвитер Иоанн и другие просветители трансформировали славянское, по сути надэтническое, самосознание в конфессиональное, тем самым заложив фундамент, который в будущем придаст древнеболгарской культуре ее общеславянские измерения. Р. Пиккио провел четкую грань между славянским “апостольским диалектом” кирилло-мефодиевской миссии в Моравию и “древнеболгарским” языком учеников солунских братьев в Болгарии конца IX в., подчеркивая, как и болгарские ученые, связь их деятельности с государственной политикой Бориса и Симеона119. С точки зрения функционального подхода (в целом доминирующего в трудах итальянского слависта) это равнозначно признанию осознанной этнополитической направленности просветительской деятельности первого круга создателей древнеболгарской культуры. Действительно, новая культурная парадигма в конце IX в. еще не определяла все духовное пространство средневековой Болгарии. Даже на уровне “высокой культуры” монастыри — очаги славянской христианской духовности и княжеские резиденции — средоточия формирующейся болгарской государственной идеологии в конце IX в. еще оставались частями разных культурных миров. В обителях наряду с греческим языком звучал славянский, во дворце — болгарский. Мир “славян” — нового народа (“языка”) христианской общности — был открыт проникновению христианской культуры в ее многообразных 52 выражениях и традициях, мир “болгар” был по-прежнему более озабочен поисками собственной идентичности в новых условиях, когда религия уже не могла служить признаком для определения “своих” и “чужих”. Сама граница между сакральным, “славянским”, и светским, “болгарским”, не была абсолютной. Характерно, что и Борис, и впоследствии Симеон относительно легко преодолевали ее, то принимая постриг, то возвращаясь в свет, то составляя “многочестные” книги, то вероломно обманывая византийских противников. Как подметил Х. Трендафилов, детронация Владимира и вокняжение Симеона, давшие главный толчок развитию славянской христианской культуры в Болгарии, состоялись в полном соответствии с политическими традициями языческих времен120, но привели к становлению новой культурной среды, происходившему путем взаимной интеграции этих двух начал. Важнейшее значение для характеристики болгарской культуры первых лет правления Симеона имеет дошедшее до нас в поздних восточнославянских списках XV—XVII вв. “Сказание о железном кресте”. Оно основано на монастырских записях поклоннических рассказов о чудесах св. Георгия, которые были выполнены в начале Х в. по-гречески и впоследствии переведены на славянский. Центральный персонаж одного из сюжетов “Сказания” — болгарин Георгий принял крещение в зрелом возрасте и был воином-дружинником, “не почтенным никоим саном”. Георгий взывал к “Господу Богу христианскому” лишь в миг крайней опасности, но, будучи чудесно избавлен от гибели во время войны с венграми (894— 896), научился читать Псалтырь по-гречески и стал странствующим монахом, свидетельствующим о чудесах св. Георгия по всему христианскому миру. По мнению А. А. Турилова, цикл чудес о болгарах в “Сказании” “представляет редчайший образец древнеболгарской грекоязычной литературы эпохи Первого царства, позволяющий в какой-то мере судить о возможных путях ее развития вне кирилло-мефодиевской традиции”121. Действительно, в тексте вообще нет терминов “славяне” и “славянский”, зато последовательно упоминаются “болгары”: “Я происхожу из новопросвещенного болгарского народа, который недавно был удостоен Богом святого крещения через избранника своего Бориса, названного в святом крещении 53 Михаилом. Силой Христа и крестным знамением сумел он победить неотесанный и непокорный болгарский род, озарил светом благоразумия сердца, омраченные злокозненными проделками диавола, отменил темные и лживые, смрадные и богопротивные жертвоприношения и вывел болгар от тьмы к свету, от лжи и кривды к истине, отверг смрадные и нечистые жертвы и разрушил языческие капища. Он утвердил среди болгар православную христианскую веру святыми книгами, пригласил архиепископа Иосифа, учителя и наставника болгар, построил церкви и монастыри, поставил епископов, священников и игуменов, чтобы учили они людей и наставляли их на путь Божий. А потом сподобил его Бог принять ангельский образ, и преставился он, перешел от ложной нашей жизни в горний Иерусалим, ко Христу”122. Интересна и весьма сдержанная характеристика Симеона: “И был он [Борис] еще жив, приняв монашество, а на его месте правил Владимир, но благословение Божье и Михаилово было на Симеоне, и занял тот престол, согнав брата”123. Архаизм данного примера подтверждает его уникальность. Налицо попытка включить болгар в число свидетелей чудес одного из самых популярных христианских святых, вписав болгарские сюжеты в агиографический цикл, действие которого развивается на огромном пространстве восточнохристианского мира — от Северной Африки до Балкан. Предельно близкий к устной традиции и включающий массу реалий простого быта подданных болгарского правителя, живших "не там, где жил князь, а в миру, среди народа", этот памятник является редчайшим свидетельством формирующейся “массовой” болгарской христианской культуры, для которой славянская книжность еще не была единственным средством материализации. Синтез двух миров древнеболгарской культуры отражает и запись о смерти Бориса-Михаила, сопровождающая перевод “Четырех слов против ариан” св. Афанасия Александрийского, выполненный Константином Преславским. Глосса удивительно богата данными для историко-культурного анализа, отражая сразу несколько значимых культурных сдвигов124: “Благочестивые книги эти, называемые [словесами] Афанасия, перевел на славянский язык с греческого епископ Константин, 54 ученик Мефодия, архиепископа Моравского, по повелению нашего болгарского князя Симеона в лето от начала мира 6414-е [906], индикт десятый. А переписал их по повелению того же князя Тудор, черноризец Доксов, в лето 6415-е [907], индикт четырнадцатый, в ущелье Тичи, где воздвигнута тем же князем новая святая золотая церковь. В то же лето, во второй день месяца мая, в субботу вечером, почил раб божий, отец этого князя, живший в благой вере и добром исповедании Господа нашего Иисуса Христа, великий и почитаемый благоверный государь наш князь болгарский Борис, христианским именем Михаил. Крестил этот Борис болгар в пятый месяц года собаки (ЕТХЪ БЕХТИ). Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь”125 (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Д. П.). Помимо очевидных отсылок к двум традициям — кирилло-мефодиевской, олицетворенной в переводчике текста, и официальной болгарской, выраженной в летописной заметке о смерти Бориса-Михаила, глосса совмещает два летосчисления — христианское византийское и языческое древнеболгарское, хотя прототипы летописной заметки — частично сохранившиеся официальные надписи Бориса на каменных столбах датировали крещение болгар по христианскому летосчислению126. Болгарское обозначение года оставлено здесь без пояснения, как и в “Именнике болгарских ханов”. Не объясняемые читателю или слушателю древние болгарские координаты времени как бы обозначали границу между “этнической” и “славянской” культурными традициями. В глоссе датировка по болгарскому календарю подводит черту под языческим прошлым, последним представителем которого был Борис, принявший кончину уже в новом качестве и времени. В то же время приписка утверждает непрерывную преемственность болгарской истории. Итак, в конце IX в. подготовленная трудами учеников свв. Кирилла и Мефодия духовная среда только начинала интегрироваться с официальной культурой Болгарского государства. Действуя в этом направлении намного активнее своего отца, Симеон, как мы увидим ниже, стремился создать на этой основе цельную политико-конфессионально-культурную формацию, способную противостоять Византии на всех уровнях взаимодействия. Это было начало сдвига, приведшего 55 в действие тенденции, накапливавшиеся в развитии средневековой болгарской культуры на протяжении первых десятилетий ее развития в русле христианства. Через взаимодействие кирилло-мефодиевского наследия с его стремлением к обособлению славянской культуры в рамках единой христианской цивилизации и болгарской этнополитической идентичности с ее новыми религиозными координатами складывалось неразрывное единство восточноправославной духовной культуры, славянского языка и болгарского этнополитического сознания, которое просуществовало более пяти веков и стало образцом для культурного развития других славянских народов православного круга. 56 Глава II МОДЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В Х ВЕКЕ: СТРУКТУРА, СООТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ Б олгария князя Бориса, существование которой завершилось свержением Владимира и вступлением на трон Симеона в 893 г., оставила по себе не цельный культурный комплекс, а его разрозненные и в некоторой степени противостоящие друг другу элементы. Им предстояло слиться воедино на фоне постоянно усиливавшегося воздействия Византии в культуре Золотого века — правлений Симеона (893—927) и Петра (927—969)1. Именно в это время Болгарское государство окончательно оформилось в характерном для средневековой Европы сочетании признанных мировыми христианскими центрами политического суверенитета и церковной автономии, а древнеболгарская народность консолидировалась как этнополитическая и конфессиональнокультурная общность с цельным и упорядоченным самосознанием. Золотым веком закончился процесс аккультурации болгар и славян в византийско-славянскую общность, в результате которого оформилась цельная и самобытная культура, не абсолютизировавшая ни болгарскую этнополитическую ограниченность, ни “славянское” мироощущение нового христианского народа, ни ромейский “византинизм”, но сочетавшая их в присущем ей уникальном своеобразии. § 1. Оформление культурной модели: Симеонова Болгария (893—927) Персонифицированность культурной истории болгарского Золотого века, подчеркиваемая во многих памятниках этого времени, была обусловлена мощным личным импуль57 сом, заданным развитию христианской культуры в Болгарии усилиями князя, а с 913 г. — царя Симеона. Младший сын Бориса был живым воплощением синтеза культурных традиций и реалий, который дал славянскому и европейскому миру блестящую культуру болгарского Золотого века. “Дитя мира” между византийцами и болгарами, как называл его константинопольский патриарх Николай Мистик2, и ровесник христианской Болгарии, Симеон провел молодость в Константинополе, где не только получил прекрасное столичное образование, но и приобщился высших тайн вероисповедания, встав на путь монашеского служения (возможно, лишь в качестве послушника константинопольского подвижника Арсения)3. Как упоминалось выше, современники прозвали Симеона “полугреком”, т. е. фактически говорили о нем как о живом воплощении болгаро-византийского симбиоза. Антропоморфные образы такого рода были в это время достаточно распространены — как о “членах одного тела” писал о болгарах и ромеях, опираясь на новозаветную метафору (Римл. 12 : 4—5), Николай Мистик4. Одной из ярких византийских реминисценций этого симбиоза явилась впоследствии легенда о смерти Симеона, последовавшей якобы после того, как была обезглавлена находившаяся в Константинополе статуя, изображавшая болгарского государя5. Вернувшись в Болгарию почти одновременно с прибытием кирилло-мефодиевских учеников, Симеон из первых рук воспринял новую славянскую культурную традицию и принял личное участие в ее развитии, еще более углубив ее связь с первоисточником — византийской культурой. Его солидная подготовка в классических дисциплинах — риторике и грамматике, не раз отмечавшаяся современниками, документирована несколькими письмами Симеона к византийскому дипломату Льву Магистру6. О начитанности болгарского князя в древних исторических сочинениях неоднократно упоминал в своих письмах к нему Николай Мистик7. Однако основу мировоззрения Симеона составляла, судя по его творчеству и деятельности, не столько дворцовая культура современной ему византийской столицы, сколько культура константинопольских монастырей, не чуждых столичного блеска, но в то же время строго ориентированных на сохранение и поддержание древних традиций восточного православия. 58 Содержанием Симеоновой эпохи стало создание основы средневековой болгарской культуры через сложный синтез кирилло-мефодиевской культурной модели с ее идеей расширения общности равноправных христианских народов за счет нового славянского сегмента, византийских представлений о христианской ойкумене, возглавляемой императором и духовно окормляемой вселенским патриархом, и болгарских идей о законности власти государей Плиски (с 893 г. — Преслава) над частью балканских владений империи. Первой стадией этого длительного и многоэтапного процесса было накопление (путем перенесения с византийской на болгарскую почву) культурных ценностей, являвшихся важнейшими атрибутами самостоятельной духовной общности: письменности, книжного языка и написанных на нем сакральных и светских текстов, изображений, пространственных моделей. На второй стадии произошло оформление на основе этих ценностей значимых и устойчивых культурных комплексов, выражавших основные представления о месте Болгарии и болгар в населенном людьми мире и в его временном и пространственном континууме, о взаимоотношениях болгарского народа с Богом. Стадиальность в данном случае не исключала одновременности в решении этих задач, в сущности, сводившихся к освоению и пополнению культурного языка восточноправославной общности и формулированию с помощью средств этого языка идей болгарской культурной самобытности. П. Димитров предложил модель “двухуровневого сознания” самого Симеона, воспринимавшего ценности византийской культуры на “рецептивно-универсалистском” уровне, но строившего новую болгарскую христианскую культуру в “конститутивно-этническом” ключе8. Эта модель вполне приемлема для объяснения противоречивости византийско-болгарского культурного взаимодействия Х в., сочетавшего как интегральные элементы симбиоз и антитезу, присвоение целого через присвоение части или приписывание авторства и пр. Д. Оболенский видел парадокс в том, что очевидная “византинизация” болгарской культуры при Симеоне проходила в обстановке острейшего политического противостояния с Византией9. Ко времени Симеона относится создание нескольких либо точно датированных, либо привязываемых к конкретным 59 событиям памятников и их комплексов, которые позволяют подробнее проследить процесс формирования модели болгарской средневековой культуры. На наш взгляд, на первом месте следует назвать “Шестоднев” — второе крупное произведение Иоанна Экзарха — близкого сподвижника Симеона и одного из основоположников культуры Золотого века10. Последовательное именование Симеона князем в “Шестодневе” говорит о создании труда в первой половине его правления, до принятия царского титула. Иоанн Экзарх, возможно, стал после 893 г. местоблюстителем болгарского архиерейского престола, освободившегося в правление Владимира. Часто цитируемый пассаж автора о методе создания им “Шестоднева” — пространной компиляции из различных восточнохристианских сочинений о шести днях творения, дополненной собственными рассуждениями болгарского книжника, поражает своей искренностью в описании взаимодействия первого поколения творцов болгарской культуры с византийским наследием: «А эти шесть слов, господин мой, не сами мы сочинили, но [взяли] нечто и переписали теми же словами из “Шестоднева” святого Василия, а иное позаимствовали у него по смыслу; также из Иоанна [Златоуста] и из тех, кого в разные времена нам читать доводилось. Вот так и собрали целое: подобно человеку, мимо которого прошел бы Господин его, и тот пожелал бы построить Господину своему дворец, но не имея, из чего строить, пошел бы к богатым людям и попросил бы у них — у одного мрамор, у другого — кирпичи, и так возвел бы стены, а мрамором, выпрошенным у богатых, выложил бы пол. Когда же захотел бы тот дворец покрыть, не имея материала для кровли, достойного кирпичей, стен и мрамора, сплел бы сетку над тем дворцом и покрыл бы его соломой, а двери сплел бы из прутьев, так соорудив притвор...»11 Современный текстологический анализ сочинений Иоанна Экзарха полностью подтверждает признания болгарского книжника. Так, практически все его проповеди — компиляции и переводы из св. Иоанна Златоуста12. Но важна и другая констатация Экзарха: к началу эпохи Симеона средневековая болгарская культура благодаря усилиям первых болгарских учеников Кирилла и Мефодия располагала всем необходимым для успешного культурного строительства — пись60 менностью, литературным языком, навыками перевода, комплексом переведенных текстов, выражавшим основные духовные ценности восточнохристианской культуры, но действительно нуждалась в “кровле” — полномасштабных и оригинальных манифестах, выраженных в цельных культурных комплексах, и в “притворе” — идеях, способных отграничить и обособить самобытный болгарский сегмент в византийской общности. Как подметил еще А. И. Соболевский, в текстах Симеонова времени “нет почти ничего для характеристики болгарского быта IX—X вв.”13, однако тема культурной самобытности Болгарии звучит здесь вполне ощутимо и самостоятельно. Хрестоматийный пример этого — описание Иоанном Экзархом новой болгарской столицы, открывающее “Слово о шестом дне”: «Когда же некий смерд, или нищий, или странник придет издалека к башням княжеского дворца, при виде их он дивится и, приблизившись к вратам, изумляется и расспрашивает; войдя внутрь и узрев стоящие по обе стороны постройки, отделанные камнем, деревом и красками, а изнутри мрамором, медью, серебром и золотом, не знает он, с чем сравнить их, ибо не видел в земле своей ничего, кроме соломенных хижин. И, теряя рассудок, дивится бедняга на них. А случись ему лицезреть еще и князя в мантии, обшитой жемчугом, в золотом ожерелье на шее и с гривнами на руках, подпоясанного бархатом, с золотым мечом, висящим на бедре, и сидящих по обе стороны от него боляр в золотых ожерельях, поясах и гривнах, то, возвратившись в свою землю, скажет он тому, кто его спросит: ”Что видел ты там?” — “Не знаю, как рассказать про это, ибо лишь своими глазами сможете вы насладиться, как подобает, той красотой...”»14 Включение этого пассажа в главу о шестом дне сотворения мира подчеркивало сопричастность болгарской столицы, княжеского дворца и самого монарха к высшим творениям мироздания. Это могло быть обусловлено только новой по сравнению с эпохой книжников первого поколения культурно-исторической обстановкой, которая требовала особого выделения роли и места Болгарии, ее столицы и князя в сотворенном христианским Богом мире. Болгарская столица с ее великолепными дворцами была предназначена не для ромея, которого вряд ли можно было удивить роскошью. В 61 глазах болгар она представала убедительным манифестом самобытности и богоизбранности их государства и его правителя. И действительно, новая столица Болгарии — Преслав — стала первым и в то же время наиболее полным и всеобъемлющим выражением формировавшейся при Симеоне модели средневековой болгарской культуры15. Перенесение сюда престола из Плиски одновременно восходило и к болгарской традиции (до того как стать новой столицей, Преслав был одной из ханских ставок-аулов, по которым в языческие времена перемещался, объезжая свою “внутреннюю область”, болгарский государь16), и к библейской истории (перенесение ковчега завета царем Давидом в Иерусалим), и к византийской идее “translatio imperii” (создание новой имперской столицы на берегах Босфора Константином Великим) и могло быть истолковано современниками в контексте и на языке любой из них. Обращение к различным сторонам культурной деятельности Симеона показывает, как древнеболгарская, библейская и византийская традиции использовались болгарским государем для утверждения новой культурной парадигмы христианской Болгарии. В древнеболгарской традиции фигура Симеона вписывалась в династическую последовательность правителей, нередко точно повторяя запечатленные в исторической памяти болгар архетипы государя-воителя языческого времени. На это, например, указывает поведение Симеона и его воинов под стенами Константинополя в 923 г., обнаруживающее отчетливые параллели с походом Крума в 813 г.17 В “Слове о четвертом дне” Иоанн Экзарх прямо обратился к дохристианской истории Болгарии: “И у болгар с самого начала князья были поставляемы по наследству — сын на место отца и брат на место брата”18. Акцентируя внимание на преемственности и порядке болгарской истории “с самого начала”, т. е. с языческих времен, автор тем самым подчеркнул и законность не вполне обычной интронизации Симеона. В устной традиции, запечатленной в “Болгарской апокрифической летописи”, Симеон выступает справедливым правителем и продолжателем созидательной деятельности легендарных болгарских царей Слава и Испора, в образах которых запечатлены воспоминания о славянских и древнеболгарских истоках государ62 ства. Если принять мнение о переводе на славянский язык по инициативе Симеона династической летописи языческого времени — “Именника болгарских ханов”19, то этот ряд будет выглядеть вполне завершенным. Библейские параллели, отчетливо заметные в деятельности и творчестве Симеона, восходят к образам Моисея, выведшего богоизбранный народ из тьмы к свету (к этому примеру болгарский царь прямо прибег в переписке с Николаем Мистиком20), и царя Давида — песнопевца и творца, которому уподобляет Симеона одна поздняя глосса в рукописи XVII в., возможно восходящая к древнеболгарскому прототипу: “Симеон, царь болгарский многие книги написал и, как царь Давид, играл на златых струнах, но более всего любил книги”21. Отождествление слова с золотом — постоянный лейтмотив книжных памятников времени Симеона и их иллюстраций. “Честное и искусное слово — как обработанное золото”,— писал Иоанн Экзарх22. Золото, обильно представленное в тексте и иллюстрациях, не только уподобляло Псалтыри составленные в эпоху Симеона и при его личном участии книги, но и создавало параллель “Иерусалим — Преслав”, ставившую болгарскую столицу в положение наследницы мирового центра. Это подчеркивалось и наличием в Преславе аналога иерусалимского храма — “новой Золотой церкви”, которая упоминается в цитированной выше приписке к “Четырем словам против ариан”, переведенным Константином Преславским23. Другая параллель, связанная с Библией, точнее, с библейским текстом — уподобление Симеона “новому Птоломею”, опиравшееся на проведенную в Преславе новую редакцию богослужебных текстов и связанный с ней перевод ряда библейских книг24. Символика золота, столь весомо присутствовавшая в болгарской культуре эпохи Симеона, имела и непосредственную связь с идеей обновления Болгарского государства, наступившего с восхождением на престол Симеона и перенесением столицы государства в Преслав. Традиционная для новозаветной христианской литературы оппозиция “медь — золото”25 в средневековой болгарской культуре связывалась с противостоянием язычества и христианства. Главным символом языческой Болгарии, хорошо известным и византийской культуре, было “медное гумно”26. Идущая еще от трудов 63 П. Й. Шафарика и С. Н. Палаузова ученая традиция описания правления Симеона как Золотого века болгарской книжности и культуры, таким образом, имеет непосредственные средневековые основания27. Однако наиболее очевидной и для современников, и для исследователей Симеоновой эпохи была еще одна культурная параллель, корни которой лежали уже не в библейской традиции, а в легендарной истории Византии и христианской Церкви. В ее русле болгарский государь уподоблялся Константину Великому (306—337) — основателю Константинополя, первому императору-христианину, при котором был вновь обретен и воздвигнут утраченный Крест Христов. Первые сведения о проникновении Константиновой легенды в Болгарию связаны с распространением памятников кирилло-мефодиевской традиции — в цитируемом Пространным житием св. Кирилла послании византийского императора Михаила III великоморавскому князю Ростиславу последний уподобляется “великому царю Константину”28. К такому же сравнению прибег и Фотий в своем послании Борису-Михаилу29. Первые слова древнейшего славянского законодательного памятника — “Закона судного людем”, бытовавшего в Болгарии конца IX—X вв., также приписывают его составление Константину Великому30. Апокрифическая и фольклорная традиции связывают крещение Болгарии с праздником Воздвижения Креста Господня — памятью освященной православной Церковью Константиновой легенды, согласно которой вновь обретенный матерью Константина Великого Еленой в Иерусалиме Крест Христов был воздвигнут в восстановленном иерусалимском храме 14 сентября 335 г. В славянском “Житии свв. Константина и Елены” упоминаются три “Крестовоздвиженья”: помимо обретения Креста в Иерусалиме говорится о воздвижении в Константинополе под названием “Аникитос”, т. е. “победоносный”, второго Креста, помощью которого Константин одержал победу над Максенцием, и об установлении третьего креста на Дунае. Болгарская книжная традиция XIV в. помещает это событие в Никополе, волей судьбы ставшем последней резиденцией убитого там турками в 1395 г. болгарского царя Ивана Шишмана31. Cтроительство Никополя устная традиция также приписывает Симеону. Главной же заслугой болгарского кня64 зя, позволявшей уподобить его Константину, было строительство Преслава, которое якобы продолжалось 28 лет32. В Преславе как цельном манифесте культурного сознания Симеоновой эпохи вполне органично сочетались “болгарская”, “иерусалимская” и “константинопольская” традиции, дополняя друг друга и составляя новую болгарскую “политическую мифологию”. Среди них наибольшее значение, напрямую связанное с политическими претензиями Симеона, на наш взгляд, имела Константинова легенда с ее идеей “translatio imperii”. Перенесение столицы из утратившего благочестие Рима в “Новый Иерусалим” — Константинополь находило отчетливые параллели в перемещении болгарской столицы из Плиски в Преслав. Само название новой столицы — “ПРЬСЛАВЬ[НЪ ГРАДЪ]” могло связываться с идиомой “ПРЬЯТИ СЛАВОУ” — прямым вербальным выражением идеи “translatio imperii”. Архетипическая для Византии роль образа Константина — первого императора-христианина также диктовала Симеону — первому болгарскому “василевсу” использование Константиновой легенды в качестве модели для построения болгарской политической идеологии. Немногочисленные сохранившиеся изображения Симеона рисуют его в облачении византийского императора с Константиновым скипетром-лабарумом, а усваиваемые ему сохранившимися печатями титулы повторяют титулатуру византийских государей, возводимую имперской традицией также к Константину33. Почетное место, которое занимает образ Константина в дальнейшей древнеболгарской литературной и устной традициях, подчеркивает устойчивость воспринятой из Константинополя и трансформированной в Болгарии Константиновой легенды с ее важнейшими акцентами — обновлением столицы, воздвижением Креста и основанием христианского царства. Увенчание столицы патриаршеским достоинством, произошедшее уже после смерти Симеона34, завершило формирование Преслава как цельного манифеста новой — болгарской — христианской этнополитической и культурной общности. Пример Преслава говорит о преодолении Симеоном важного противоречия, характерного для времени Бориса, — отрыва официального, все еще греческого вероисповедания от многообразной культурной деятельности славянских клири65 ков, сосредоточенной в монастырях на востоке и западе страны. Преслав стал первой христианской столицей Болгарии, соединившей в единый культурный (по определению И. Божилова, цивилизационный) комплекс резиденцию светской власти и средоточия христианской духовности — монастыри. Их в Преславе и его окрестностях, по археологическим данным, насчитывается восемь. Количество преславских обителей, даже по неполным сведениям, впечатляет не только в сравнении с Плиской, где открыт всего один монастырский комплекс, непосредственно связанный с княжеским дворцом, но и в сопоставлении с известными нам данными по византийским городам. Всего втрое больше монастырей в это время было в Фессалониках — втором по величине городе империи, с которым Преслав невозможно сопоставить ни по размерам, ни по населению35. Характерно, что внутригородские преславские обители (их известно четыре) не представляли собой закрытые архитектурные комплексы, они не были обособлены от города и являлись его интегральными частями36. Роль преславских монастырей не исчерпывалась прагматическими функциями, связанными с нуждами государства или Церкви. Престольный город искал подтверждения своему авторитету не только у земной власти, но и у небесных сил. Существовавшее в Византии (как, впрочем, и на Западе) представление о накапливавшейся в городе вместе с храмами, монастырями, иконами и мощами божественной благодати было воспринято и Преславом. Внушительная коллекция реликвий — частиц мощей святых Марии Антиохийской, Ионы, Симеона Столпника, Варвары, Поликарпа, Евстратия, Киприана, Кира и Иоанна, судя по обнаруженным остаткам керамических реликвариев, хранилась в одном из преславских монастырей, где принял постриг и был погребен близкий соратник царя Симеона Мостич37. Подобно византийской столице, Преслав был посвящен Богородице. Одной из наиболее почитаемых святынь болгарской столицы была чудотворная икона Богоматери, впоследствии перенесенная в Константинополь императором Иоанном Цимисхием и выставленная в качестве главного трофея во время его триумфа по случаю взятия болгарской столицы в 971 г.38 Преслав, созданный как реплика Константинополя, выполнял роль полномасштабного манифеста новой христиан66 ской общности, но культурная самобытность болгар нуждалась в закреплении с помощью вербально выраженных идеологем, сведенных в детально разработанный комплекс. Поиски этой стержневой концепции культуры запечатлелись в известной переписке Симеона с ведущими представителями константинопольской элиты — Николаем Мистиком, Львом Магистром и Романом Лакапином (от имени последнего корреспондентом Симеона выступал столичный эпарх Феодор Дафнопат). Материалы переписки датируются концом IX в. (письма к Льву Магистру) или периодом 913—925 гг. (переписка с Николаем Мистиком и Романом Лакапином). Письма конца IX в., относящиеся к войне между Болгарией и Византией в 894—896 гг., посвящены частным военно-дипломатическим проблемам и с точки зрения культурной истории интересны, пожалуй, лишь как свидетельства того, насколько свободно болгарский князь-”полугрек” чувствовал себя в диалоге, не только охотно вступая в полемику по вопросам обмена пленными или заключения мира со своим высокоученым корреспондентом, но и давая вовлечь себя в риторический или филологический диспут39. Намного характернее и значимее с точки зрения нашей темы переписка с “первыми лицами” ромейской столицы. Ключевой сюжет прямой и скрытой полемики с Николаем Мистиком в переписке 913—925 гг.— модель “византийской ойкумены”, в которую болгары были приняты благодаря усилиям своих духовных родителей и учителей — ромеев. “Вы, как чада, признайте отцов, от которых получили дар святого крещения, а ромеи как отцы признают болгар своими чадами во Христе, — писал Симеону патриарх, — и тогда Ромейская империя вновь восстановит свои владения, а болгарская мощь будет править своими областями”40. Что касается реакции Симеона, то, как писал, видимо, тот же Николай Мистик в “Слове о мире с болгарами”, “река славолюбия и вихрь первенства... ворвались в душу князя... Сразу были подняты победно венец и престол... Чадо отвергло родителя, отторгнув отцовство и дух — залог сыновности”41. Иными словами, болгарский князь вполне воспринял идею византийской ойкумены с той существенной разницей, что видел претендентом на главенство в ней себя. 67 Оставив в стороне многочисленные политические обстоятельства, сосредоточимся на тех особенностях болгарского культурного самосознания, которые позволяли Симеону с полной уверенностью претендовать на имперское главенство. Как мы писали выше, еще в языческие времена у болгар вполне сформировалось представление о политическом единстве балканского пространства, подвластного ранее “грекам”, а с приходом болгар “по праву меча” перешедшего под их руку. Это выглядело как “обратное прочтение” византийской теории о том, что “Второй Рим” снисходительно уступил варварам право проживать на его балканской периферии, охраняя подступы к имперским границам42. “Западные волки”, как величает болгар автор “Слова о мире”, не ограничились доверенным им правом “пасти стадо, отгоняя и отбивая нападающих вепрей”43. Обосновывая право болгар на имперский Запад и равный императорскому титул, Симеон ссылался на традиционный языческий обычай болгар “брать чужое и не отдавать его”44, т. е. признаваемое болгарами право на целое, если присвоена его часть. Об этом же писал Симеону разгневанный Роман Лакапин: “Не думай, брат мой духовный, что раз ты опустошил весь Запад и захватил в плен его жителей, то можешь называть себя василевсом ромеев”45. Присвоение целого через присвоение части не только проявилось в политических претензиях Симеона, но и отразилось в болгарской культуре его времени. Упоминания о болгарском прошлом в переведенных с греческого всемирно-исторических повествованиях (кратких хрониках, произведениях Иоанна Малалы и, возможно, Георгия Амартола) позволяли видеть в мировой истории и историю болгар46. Развитие болгарской агиографии, начавшееся с отмеченного гимнографическими сочинениями Климента Охридского и Константина Преславского почитания персонажей, соименных Борису-Михаилу и Симеону, — Михаила Архангела и св. Симеона Богоприимца, было дополнено в конце IX в. введением в церковный календарь особых праздников — 26 марта (“победа Михаила князя Болгарского ЕГДА БЕ СБОР НА НЬ КРЕСТА РАДИ”) и 26 апреля (освящение церкви св. Петра, по-видимому, построенной Симеоном в честь рождения второго сына)47. Начавшееся включение болгарских 68 святых в диптихи Восточной церкви (“святым” называет Бориса-Михаила в письмах к Симеону сам Вселенский патриарх Николай Мистик; как святые в Болгарии и Византии почитались Климент и Наум; имеются предположения о причтении к лику святых Иоанна Экзарха)48 как бы передавало болгарам право на всю агиографическую традицию и помещало их в христианский временной континуум, уподобляя явленные ими образцы святости древним христианским архетипам. Естественно, становление цельной и жизнеспособной культуры не могло ограничиться прямым присвоением частей византийского культурного комплекса через переложение на свой язык или через заимствование моделей и образцов. Требовались обособление, проведение четкой границы, выработка культурной идентичности. Результатом решения этого круга проблем стало создание симметричной модели болгаро-византийского культурного симбиоза, получившей в правление Симеона полное, хотя и специфическое выражение. Принцип формирования этой модели, вслед за Д. Оболенским, можно уподобить глядению в зеркало, причем в качестве последнего выступала не современная болгарам реальная Византия, а их представления о византийской христианской цивилизации. Понимая неточность и ограниченность такого сравнения, рискнем уподобить византийское “зеркало” не обычному предмету быта, а тому мифологическому и сказочному объекту, который позволяет видеть не столько себя, сколько то, что смотрящий в зеркало хотел бы увидеть 49. Важная особенность такого “зеркала” — его проницаемость. Болгарская культурная модель строилась симметрично византийской православной культуре, но не ее реальному содержанию, которое далеко не исчерпывалось “монастырской” или “школьной нормой”, а тем константинопольским конфессиональным, политическим, правовым, этическим и эстетическим доктринам, которые были специально адаптированы для византийской духовной экспансии во внешний мир50. Наряду с жесткими и конкретными образцами (церковная обрядность, владетельская титулатура, каноническое законодательство) она включала тексты легендарного и даже апокрифического характера, пронизанные мистикой и осно69 ванные на образах, нередко далеко отстоявших от своих прототипов из библейской и византийской истории. Необходимо заметить, что из всех славян, смотревшихся в византийское “зеркало”, лишь Болгария постоянно стремилась перешагнуть (и перешагивала) грань “зазеркалья”, создав еще в эпоху Симеона культурную модель, существование и развитие которой всецело зависело от византийского образца, находясь с ним в постоянном и динамичном диалоге. Трансформация содержания этого симбиоза-противостояния и составила суть всего дальнейшего развития средневековой болгарской духовной культуры. § 2. Культура Симеоновой Болгарии в византийско-славянском контексте Цельной манифестацией модели средневековой болгарской культуры, сформированной при Симеоне, являлась, несомненно, преславская царская библиотека, и прежде всего та ее часть, которая была создана книжниками из Симеонова окружения в конце IX — первой четверти X в.51 Ее состав восстанавливается, хотя и не полностью, по отдельным книгам, которые попали на Русь между 971 и 1073 гг., были переписаны здесь или послужили основой для древнерусских компиляций52. Их принадлежность хорошо продуманной и цельной программе, как и причастность Симеона к их созданию, принимается в научной литературе на уровне аксиомы. Почетное место в Симеоновой библиотеке принадлежало фундаментальной подборке “Слов” св. Иоанна Златоуста, легшей в основу славянского “Златоструя”. Характер выборки, состоящей из нескольких десятков тематически сгруппированных текстов, соответствует свидетельствам современников об эрудиции будущего болгарского государя и безукоризненном владении им греческим языком. Глубокая начитанность болгарского князя в трудах Иоанна Златоуста была известна и в Константинополе. В своих тщетных попытках убедить “духовное чадо” оставить претензии на имперскую власть Николай Мистик придавал особое значение ссылкам на труды и деяния константинопольского архиепископа53. 70 Личное участие монарха в составлении “Златоструя” и способ работы книжника описываются в “Прилоге самого христолюбца царя Симеона” к этому сборнику, следы древней редакции которого дошли в сербских и древнерусских списках: «Когда изучил благоверный царь Симеон все старые и новые книги, постиг внутренний и внешний смысл Священного Писания, нравы и обычаи всех учителей и всю премудрость разума блаженного Иоанна Златоуста, был он изумлен красноречием его и лежащей на нем благодатью Святого Духа. И привыкнув читать его творения, выбрал он из них все поучения и собрал их в одну книгу, назвав ее “Златоструйной”». Дальнейший текст идет уже от имени составителя сборника, возможно, самого Симеона: «И хотя “златоструйным” называли другого, я полагаю, что мы не ошиблись, дав имя этой [книге]. Ведь учение Святого Духа, подобно золотым струям, спасительным покаянием омывает с помощью человеческих сладких речей все грехи и приближает нас к Богу... Для вящего успеха и к побуждению большинства, а также дабы не устали и не обленились люди, читая творения Златоуста в полном собрании, выбрали мы малое из многого — только те из них, что пришлись нам по душе...»54 Подчеркиваемые здесь обращение к первоисточникам и избирательность подхода к творчеству Златоуста декларативно противостоят приведенному выше описанию способа составления “Шестоднева” Иоанна Экзарха. Однако при всей ответственности и авторитетности такого заявления наблюдения над текстом древнейшей славянской редакции “Златоструя” раскрывают иную картину. Хотя споры о конкретном составе Симеонова “Златоструя” продолжаются, установлено, что общее ядро трех известных в настоящее время славянских редакций памятника из примерно трех с половиной десятков статей восходит к византийским выборкам из произведений Иоанна Златоуста55. Как предполагает Ф. Томсон, Симеон не переводил произведения Златоуста сам, а лишь указал и объединил тексты, вошедшие в не сохранившийся полностью компендиум56. Наиболее известный из сборников, связываемых с именем Симеона, сохранился в русском списке 1073 г., сделанном для киевского князя Святослава Ярославича (ГИМ. 71 Син. 1043) и точно отразившем древнеболгарский архетип, созданный между 913 и 927 гг.57 Этот сборник с полным правом можно причислить к тем культурным образцам, которые сформировались в благодатной среде болгарского Золотого века и на протяжении многих столетий бытовали в православной славянской культуре, оказывая на нее непреходящее воздействие. Но даже в их числе Симеонов сборник уникален. Этот огромный компендиум из трехсот восьмидесяти трех различных статей на протяжении более пятисот лет многократно копировался полностью (из двух десятков сохранившихся списков XIII—XVII вв. почти половина точно воспроизводят его не сохранившийся архетип58) в различных регионах православного славянского мира. Попытки объяснить этот феномен через функциональное предназначение книги, рассматривавшейся то как “энциклопедия”, то как “хрестоматия”, то как “учебник для высшей школы” или даже “библиотека”59, не убеждают хотя бы потому, что многочисленные комплексы текстов вышеупомянутых типов не пережили столь долгую историю и, как правило, распались в рукописной традиции на отдельные памятники и блоки. На наш взгляд, одно из возможных объяснений исключительно долгой жизни Симеонова сборника следует искать в его соотношении с моделью средневековой болгарской культуры в процессе ее формирования. После тщательного исследования М. В. Бибикова60 можно с уверенностью утверждать, что Симеонов сборник был точным славянским соответствием византийскому компендиуму, составленному в IX в. и известному по многочисленным греческим спискам, причем болгарская версия начала Х в., практически буквально воспроизводящая греческий прототип, хронологически отстоит от него весьма недалеко. Греческая компиляция имела в основе “Вопросы и ответы” — пространный катехизис, приписываемый св. Анастасию Синаиту (VII в.) и снабженный дополнениями и извлечениями из других христианских и византийских авторов. Сборник содержал ответы на вопросы о христианской догматике, морали и практике, а также тексты по философии, истории и риторике и был своеобразным выражением “экспортного минимума” византийской культуры, специально предназначенного для приобщения к ней неофитов. 72 Как гласит заглавие сборника, в нем были собраны “толкования для запоминания и готового ответа”61. Этот заведомо предназначенный для “экспорта” компендиум, аналоги которого имеются в древнегрузинской и арабской христианской книжности, стал одной из основ формирующейся болгарской культуры, действительно выполняя едва ли не все предполагаемые исследователями функции. Отражая самую суть культуры, общей для всех принявших христианство из Константинополя народов, Симеонов сборник многие столетия сохранялся в православной славянской книжности целиком именно как манифест изначальной культурной модели, общей для болгар и других славянских народов византийского круга. Характерно, что в эпоху их наибольшего сближения в XIV в. болгарская книжная традиция вновь обратилась к тому же источнику — был выполнен новый перевод с одного из “потомков” греческого архетипа Симеонова сборника 62. С Симеоновым сборником связано и само утверждение термина “сборник” в древнеславянской книжности. Его заглавие в древнерусском списке XI в., несомненно принадлежащее болгарскому переводчику (“СЪБОР ОТЪ МНОГЪ ОТЕЦЬ”) — перекликается с послесловием киевского дьяка Иоанна, где книга названа уже “Изборником” (“НАПИСА ИОАН ДИАК ИЗБОРНИК СЪ”63). Очевидная семантическая разница двух заглавий может быть истолкована через различие восприятия сборника в болгарской и древнерусской среде. “Собранный” в Византии для целей катехизации архетип в Болгарии воспринимался как средоточие, хранилище, модель христианской культуры. Полтора века спустя в Древней Руси, доступ которой к византийской книжности вначале шел в основном через болгарское посредничество, в нем увидели лишь некую выборку из представлявшейся неисчерпаемой греческой православной литературы. Но и в эту архетипическую для культуры православного славянства форму были заложены отдельные черты специфики, присущей болгарской культурной модели. Новое самосознание болгарской культурной среды требовало подчеркивать активное взаимодействие с византийской культурой, что отразилось в Похвале в составе “Изборника”. В ней “великому от царей” Симеону приписывается, видимо, с полным на то правом, повеление “переменить язык... многотрудной сей 73 книги... сохраняя тождество мыслей”64. Через “перемену языка” и личную причастность Симеона, подчеркнутую, вероятно, присутствовавшей в протографе ктиторской миниатюрой65, византийский компендиум был помечен и присвоен болгарской культурой, а честь его создания перешла к “великому в царях” “державному владыке” Симеону, который представлялся не только равным византийскому василевсу по титулу и положению государем, но и “новым Птоломеем”66 — продолжателем кодификации Священного Писания. Особенности Симеонова сборника как выражения культурной модели болгаро-византийского симбиоза особенно ярко выступают на фоне второго известного “Изборника”, дошедшего в киевском списке 1076 г. (РНБ. Ерм. 20). Хотя он был также составлен из переводов византийских произведений, характер их компиляции и отбора был иным, нежели в первом сборнике. Здесь составитель, заимствуя отдельные тексты из первого “Изборника” и “Златоструя”, дополнил их выборками из заново переведенных византийских сочинений. Под одним переплетом были сосредоточены в основном нравоучительные тексты, адресованные светскому читателю67, в частности выборка из обращенного к властителям трактата весьма популярного впоследствии в православном славянском мире византийского писателя VI в. Агапита. Протограф не сохранившегося до наших дней болгарского сборника, частично отраженный в киевском списке 1076 г., который У. Федер предложил назвать “Княжьим изборником”68, а Д. М. Буланин, в связи с тем, что часть входивших в него статей читаются под 29 февраля в Великих Четьих-Минеях, — “Минейным изборником”, был, по выражению последнего, “собранием моралистических гном общечеловеческого характера”69 и быстро распался на отдельные части, попавшие в состав “Измарагда”, “Златой цепи”, ЧетьихМиней и других сборников смешанного состава. В отличие от “Изборника” 1073 г. отсутствие стоящей за архетипом сборника жесткой византийской модельной структуры, несомненно, было одной из причин быстрого распада этого комплекса в рукописной традиции. Однако этот предполагаемый Симеонов сборник интересен и с другой стороны. Как заметил Д. М. Буланин, его составитель внимательно относился к содержанию источников 74 компиляции, опуская политические акценты, которыми был столь богат, например, труд Агапита, приписанный им св. Максиму Исповеднику70. “Жертвой” этой редакторской работы стало даже обращение “к благоверному царю”, удаленное из славянского текста. Вероятно, при этом неизвестный переводчик-компилятор руководствовался хорошо ему известной идейной обстановкой преславского двора, принимая во внимание одну из сформировавшихся к тому времени тенденций взаимодействия средневековой болгарской культуры с византийскими моделями. Как известно, попытки внедрить константинопольскую политическую доктрину в Болгарию начались еще с послания патриарха Фотия Борису-Михаилу, содержавшего развернутое изложение основных позиций византийской императорской идеологии71. Славянский перевод послания был выполнен гораздо позже, т. е., видимо, политические идеи Фотия, в основном сосредоточенные на нормативных характеристиках государственного порядка, власти, благочестия, справедливости, не были в полной мере востребованы общественным сознанием “новопросвещенного” Болгарского государства в правление Бориса-Михаила. Не увенчались успехом и попытки другого константинопольского патриарха — Николая Мистика заставить сына Бориса — Симеона признать и разделить другую часть имперской идеологии — теорию византийской ойкумены, подвластной “семейству государей” во главе с василевсом ромеев. Более того, факты и свидетельства поведения Симеона в отношениях, переписке и переговорах с Константинополем и его духовными и светскими представителями скорее говорят о намеренном и демонстративном пренебрежении навязываемыми образцами72. Видимо, состав сборника — источника “Изборника” 1076 г. может быть еще одним аргументом в пользу того, что прямой культурный диктат Византии при Борисе и Симеоне не давал непосредственных результатов, хотя, как мы увидим далее, отразился на болгарской культуре остального Х в. и в конечном счете принес весьма ощутимые плоды. С точки зрения поиска соотношений формирующейся болгарской культуры с византийскими моделями весьма интересен еще один сборник, гипотетически восстанавливаемый по древнерусским хронографическим компиляциям ХIII— 75 XVII вв. Он уже целиком опирался на переводы, выполненные в первые годы Симеонова правления или сделанные еще раньше и содержал не только переводные, но и собственно болгарские сочинения. Этот сборник, называемый то “Болгарской энциклопедией Х в.”, то “Болгарским хронографом”, то “Симеоновым историческим сборником”, то “Григорьевым Изборником” по имени его возможного составителя 73, реконструируется по оглавлению, сохранившемуся в русских хронографических компиляциях, и также может быть датирован второй половиной правления Симеона. Он походил на хронографический свод и включал выдержки из “Шестоднева” Иоанна Экзарха, выборки из хроник Иоанна Малалы и Георгия Амартола, пространную компиляцию из Пятикнижия, Книг Царств, Иисуса Навина, Судей, Руфи, некоторые мелкие библейские тексты, отрывки из патристических и апокрифических произведений и, наконец, “Именник болгарских ханов”74. Как бы ни определяли исследователи возможный первоначальный состав сборника, несомненными остаются, во-первых, его исторический характер и, во-вторых, сосуществование в нем библейских и византийских исторических текстов с древнеболгарской языческой “летописью”, видимо, также переведенной на славянский язык при Симеоне. Связка “Именника” со священной историей оказалась удивительно прочной, и малопонятный древнерусским книжникам исторический перечень, изобилующий болгарскими терминами и построенный на восточном летосчислении, сохранялся в древнерусской рукописной традиции до XVI в. вместе с записью составителя — пресвитера Григория. Между тем, весь сборник распался, видимо, сразу же по переходе его на Русь в XI или XII в., при этом оказав большое влияние на древнерусские хронографические компиляции. Судьба сборника также может быть связана с его модельным характером, и на этот раз отражавшим не византийский инвариант, как в случае с “Изборником” 1073 г., а уникальную культурную ситуацию эпохи и места своего создания — Симеоновой Болгарии. Помещенная в архетипе сборника глосса, воспроизведенная в двух русских списках XV и XVII вв., несмотря на возможные искажения, заметно напоминает цитированную 76 выше заметку Тудора Доксова к переводу “Четырех Слов против ариан”: “Книги Божьего Ветхого Завета, свидетельствующие истинность образов Нового Завета, переведены с греческого языка на славянский при князе болгарском Симеоне, сыне Бориса, Григорием — пресвитером и монахом, церковником всех болгарских церквей, повелением этого книголюбца князя Симеона, справедливо называемого боголюбцем”75. На наш взгляд, и этот сборник Симеоновой эпохи можно считать одним из непосредственных выражений культурной модели болгарского Золотого века. В нем составители совершили смелую и небезуспешную попытку обозначить место болгар в мировой истории. Сведение в одну книгу (адекватность Книги и Мира — общее место средневековой православной культуры) описания сотворения мира, истории богоизбранного народа израильтян, истории Рима и Византии и, наконец, языческой истории болгар не только было осознанно сформулированным аргументом в непрекращавшемся споре Симеона с Византией, но и противоречило существовавшей в ранней книжности христианской Болгарии тенденции к отграничению от языческого прошлого. Практически не исследовался в общекультурном плане еще один компендиум Симеоновой эпохи — сохранившийся в русском списке XII в. “Ипполитов сборник”76. В его составе — “Слово о Христе и Антихристе” и “Толкования на Книгу пророка Даниила” св. Ипполита Римского — раннехристианского писателя III в., чьи сочинения были весьма популярны в Болгарии начала Х в. и входили в “Изборник” Симеона (“О Песни песней”, “О мудрости, создавшей себе дом”, “О Данииле”, “О двенадцати апостолах”), а также, возможно, в рассмотренную выше хронографическую компиляцию Григория. О непосредственной связи сборника с текущей книжной деятельностью этого времени может говорить и сама его тематика — комментарии на политико-эсхатологические темы, содержащиеся в библейской Книге пророка Даниила — смену четырех царств, завершаемую “последним царем”, пришествие Антихриста и пр. В дальнейшем именно канонические комментарии и апокрифические реминисценции на книгу пророка Даниила составили особый пласт средневековой болгарской книжности — “исторические проро77 чества” о судьбе страны и мира77. Об особом значении сборника свидетельствует и ктиторская миниатюра, изображающая государя78, держащего в руках миниатюрную модель храма с золотым куполом. Роль образцов для последующего культурного развития играли не только сборники, но и отдельные вошедшие в них тексты. Среди первых пространных исторических сочинений, переведенных на славянский язык, была хроника Иоанна Малалы, в легендарной форме излагавшая события античного и библейского прошлого и в то же время содержавшая четкую концепцию всемирной истории. Хронике Малалы была суждена долгая жизнь в летописной традиции православных славян, т. к. ее структура, концептуально объединенная идеей смены царств и одновременно распадающаяся на ряд обособленных сюжетов, где священная библейская история переплеталась с историей древних царств в “невероятный конгломерат событий”79, идеально подходила для составления компиляций на исторические темы. С переводом Малалы в славянскую лексику вошли сам термин “историк” и представления о двух возможных видах описания исторических событий — по годам и по царствованиям: “Хронографу нужно описывать все, как есть, какой царь когда царствовал и когда был наречен царем, ибо удобно будет читающему погодные записи [ЛЪТНЫЕ СПИСАНIА] смотреть, сколько прошло лет, а не только описания царствований”80. Важной чертой культурной деятельности эпохи Симеона, свидетельствовавшей о изменениях культурной парадигмы, стало редактирование текстов, созданных в первые десятилетия христианства в Болгарии. Кроме уже упоминавшейся новой редакции богослужебных книг и новых библейских переводов81, преславские деятели обратились и к небольшому, по-видимому, комплексу ранней болгарской книжности на греческом языке. Так, если в “Чуде о болгарине Георгии” Симеон, история его вокняжения и первой неудачной войны с венграми — всего лишь фон для описания чуда, то в другом тексте “Сказания о железном кресте”, где героя зовут Климент, в его уста вкладывается пророчество о возвышении Симеона: “Услышь же, Климент, по сем же одолеет Симеон князь врагов своих силою Христовой и попрет их подножие ногами 78 своими, и так его Бог прославит, как никого в роду болгарском”82. Здесь налицо не только новая попытка включить болгар в число свидетелей чудес одного из самых популярных христианских святых, вписав болгарские сюжеты в агиографический цикл, но и использование чуда о железном кресте в целях укрепления авторитета Симеоновой Болгарии. В первом рассказе болгарский государь представлен лишь современником чуда, во втором — само чудо явлено как предзнаменование возвышения Симеона. Важно и сохранение в новой редакции самого характера рассказа и всего цикла в целом — предельно близкий к устной традиции, изложенный простым языком и включающий массу реалий быта болгар, живших “не там, где жил князь, а вне, среди народа”, он выражал те же тенденции и идеи, которые были присущи т. н. элитарной культуре. Это можно считать свидетельством формировавшегося духовного единства болгарской народности. Ранее актуальный для кирилло-мефодиевской традиции вопрос о достоинстве славянского языка перед греческим, видимо, утратил свою злободневность перед насущными политическими задачами, требовавшими утверждения иной степени достоинства — государственного суверенитета и церковной автономии. Язык книжных памятников в соответствии с кирилло-мефодиевскими традициями продолжал называться славянским, хотя в них упоминались болгарские государи, Болгарская церковь, болгарская земля, болгарский народ. В то же время не следует игнорировать такие известные факты, как греческие надписи на печатях самого Симеона83, маркировка им болгаро-византийской границы столбами с надписями на греческом языке84, провозглашение болгарского князя василевсом под стенами Константинополя в 924 г. при помощи греческой формулы аккламации85 и пр. Таким образом, в первой четверти Х века оформилась целостная модель средневековой болгарской культуры. Главными координатами культурной идентичности болгар стали трансформированные элементы византийской культурной модели: идея империи — Константинова наследия, разделенного на греческий Восток и болгарский Запад, на соответственное обладание которыми греки и болгары имели равные права; столица Преслав, аналог Константинополя и возможный 79 претендент на то, чтобы “ПРЬЯТИ СЛАВОУ” византийского Царьграда; царство и церковная иерархия — непременные атрибуты политического, церковного и культурного суверенитета; книжность на языке, адекватном греческому по способности передавать смысл Писания и использующем аналогичную ему графику письма, усовершенствованную в Преславе. Эта модель, переживая определенные трансформации, и определяла самобытность болгарской культуры в византийско-славянской общности в течение всего времени ее существования. § 3. Динамика болгарской средневековой культуры в Х веке: диверсификация и социальные измерения Общим местом многих оценок значения Симеоновой эпохи в истории средневековой болгарской культуры, наряду с признанием блестящих достижений Золотого века, является подчеркивание противоречивого характера формировавшейся болгарской культуры — элитарной и мало связанной с населением, подавляющая часть которого была лишь формально воцерковлена и овладела только внешней стороной христианского вероучения. Культура Золотого века была пронизана византинизмом и поэтому противостояла исконным славянским и болгарским культурным традициям86. Симеон истощил своим грандиозным порывом силы Болгарии, обусловив ее упадок при преемнике Петре (927—969)87. Наконец, при Симеоне Болгарское царство внесло разлад в создававшуюся веками восточноправославную цивилизацию, что подготовило ее гибель88. Черты кризиса в духовной жизни Болгарии середины и второй половины X в. очевидны, как бесспорно и то, что в это время продолжалось развитие традиций Симеоновой эпохи. Болгария Петра унаследовала от предшествующего правления статус царства с претендующей на патриаршеское достоинство Церковью, столицу, соперничавшую в глазах болгар с Царьградом, книжные и художественные богатства. Именно в правление Петра Византия официально признала (естественно, в рамках своей трактовки имперского универсума) царский титул преславского государя и статус патриарха за главой Болгарской церкви, послы Петра пользовались при 80 византийском дворе высшими почестями89. Известное по византийским письменным памятникам и печатям изменение в титулатуре болгарского царя (“василевс болгар”, или по болгарским источникам, “ЦАРЬ БЛЪГАРОМЪ”), не оставлявшее места характерным для Симеона претензиям на имперское главенство, свидетельствует, что “симметрично-зеркальная” болгаро-византийская модель обрела при Петре стабильность и завершенность. Адаптируя византийские образцы, средневековая болгарская культура именно при Петре выработала механизм разграничения между “болгарским” и “греческим” сегментами формирующейся византийско-славянской общности. Осознанный отказ от попыток перешагнуть эту границу уравновесил основу культурного самосознания болгар и, в свою очередь, стал приемлемым примером для новых членов византийско-славянского сообщества. В начале правления Петра освободились от власти болгар сербские земли, а в самый разгар полувекового военного противостояния византийцев и болгар в конце X в. приняла христианство от Константинополя Древняя Русь. Исследования последних лет обнаруживают в культуре Петровой части Золотого века не менее сильное, чем при Симеоне, персонифицирующее начало. Царь Петр выступает кодификатором всей системы византийско-болгарского политического симбиоза, инициатором отхода от греческого языка в канцелярской практике, покровителем монашества и отшельничества, обличителем не только моральных, но и социальных пороков современного ему общества, борцом против невежественности духовенства и ереси90. Траектория его жизненного пути, однако, была обратна отцовской: если Симеон сменил рясу на монаршее одеяние, то Петр в конце жизни из дворца пришел в монастырь, что могло косвенно отражать одну из реальных тенденций современного ему культурного развития — смещение центра духовной жизни из столичного города в уединенную обитель. Как и его предшественник, царь уделял большое внимание книжным занятиям и, как предполагают, сам писал проповеди, сохранившиеся под именем Петра Черноризца91. К сожалению, от времени Петра сохранилось немного датированных или датируемых памятников книжности. Исследовате81 ли относят к этому времени переводы ряда византийских монашеских сборников (“Лествица” св. Иоанна Синайского, “Паренесис” св. Ефрема Сирина, “Пандекты” св. Антиоха Черноризца и др.), а также распространение близких к апокрифическим сочинениям библейских компиляций и толкований — “Исторической Палеи” и “Откровения св. Мефодия Патарского”. Даже учитывая предварительный или предположительный характер некоторых выводов, можно с уверенностью говорить о расширении репертуара переводимой византийской литературы, прежде всего за счет апокрифов и близких к ним толкований Св. Писания. Этому могли способствовать как рост числа образованных болгар и умножение монашества, так и обстановка последних лет правления Петра, наполненных напряженностью и эсхатологическими ожиданиями на фоне реального политического упадка страны и вторжений византийских и русских войск. Важной стороной трансформации болгарской культурной модели в правление Петра было возвращение кирилломефодиевских ойкуменических традиций, оттесненных на второй план в этнополитически акцентированной атмосфере поздней Симеоновой эпохи. Память царя Петра, канонизированного вскоре после смерти, праздновалась 30 января — в день обретения св. Кириллом мощей св. Климента. В календари Болгарской церкви, оформившиеся в Х в., перешли из кирилло-мефодиевской традиции памяти западных святых — пап Григория Великого, Климента, Мартина и Ипполита, св. Бенедикта Нурсийского и др92. Служба царю Петру, возникновение которой связывают с Преславом конца X в., совмещалась со службой св. Клименту или св. Ипполиту Римскому, чья память также праздновалась 30 января93. Видимо, с этим обстоятельством или с контаминацией царя и его небесного покровителя связаны предания о том, что Петр умер в Риме, сохранившиеся в более поздних источниках — “Болгарской апокрифической летописи”, письмах в Болгарию папы Иннокентия III в конце XII — начале XIII в. и записях венецианского печатника XVI в. — болгарина Якова Крайкова94. Так расширение культурного кругозора болгар, при Симеоне сосредоточенного на византийском “зеркале”, возвратило в число координат средневековой болгарской культуры Рим. В качестве места паломничества болгарских монахов его, наряду 82 с Иерусалимом, называет антибогомильская “Беседа” Козьмы Пресвитера95, написанная в последние годы правления Петра. Важнейшую, хотя и не столь заметную сторону Золотого века в правление Петра составило развитие христианской культуры в Болгарии “вглубь”. И болгарский царь, и немногие известные по именам книжники его эпохи — христиане уже во втором-третьем поколении, получившие образование на родине, были своеобразным результатом предшествующего культурного развития. Учительные произведения Петра Черноризца и обличительные инвективы его младшего современника Козьмы Пресвитера основывались на фонде переводной литературы, созданном в предшествующие десятилетия, но отличались от гомилетики Климента Охридского, Константина Преславского и Иоанна Экзарха своей оригинальностью и актуальностью, акцентированием нравственных аспектов христианской жизни96. На основе проникавших в болгарскую книжность компиляций на библейские темы и византийских отреченных сочинений возникают оригинальные болгарские апокрифические произведения, одним из создателей которых был еще один современник Петра — пресвитер Иеремия97. Трансформацию распространенных в Византии дуалистических ересей на болгарской почве книжная традиция связала с именем попа Богомила, последователям которого было суждено приравнять этноним “болгарин” к понятию “еретик” во многих странах средневековой Европы 98. Углубленное знакомство с практикой монашеской жизни привело к появлению болгарского отшельничества, основателем которого стал рильский старец Иоанн99. Проповеди Петра и Козьмы, жития св. Иоанна Рильского, творчество Иеремии и, тем более, учение ересиарха Богомила были объектами многих специальных трудов, выводы которых нет нужды повторять. Для целей нашего исследования важны лишь некоторые стороны указанных феноменов, и прежде всего, выражение в них модели средневековой болгарской культуры, сложившейся в правление Симеона и пережившей определенные трансформации при Петре. Все эти люди (нет оснований считать св. Иоанна Рильского более реальной личностью, чем Иеремию, или подвергать сомнению существование попа Богомила) были современниками, чье формирование происходило в русле Золотого века. Их дея83 тельность и культурное наследие, на наш взгляд, позволяют проследить трансформации болгарской культуры в различной социальной и духовной среде. По мнению Иоанна Экзарха, простой болгарин из “внешнего” мира, созерцая мощь и величие болгарской культуры Симеонова века, воплощенной в Преславе, должен был по возвращении домой рассказывать о своих впечатлениях землякам и, следовательно, расширять социальный диапазон влияния официальной культуры. На деле распространение грамотности и текстов, появление новых культурных очагов и миграции образованных людей в масштабах страны могли вести к самым различным последствиям. Характерно, что все перечисленные выше культурные явления непосредственно связаны с монашеством и монастырской жизнью, т. е. обозначают главные тенденции бытования христианской культуры в той социальной и духовной среде, в которой она возникла и развивалась. Однако само болгарское монашество при Петре претерпело большие изменения. Его явное численное увеличение привело к переполнению богатых городских и пригородных монастырей людьми, далекими от идеалов иноческого служения. Нередко обители становились местами изоляции политических противников. Слонявшиеся “через грады без места”100 монахи-паломники были подходящей средой для распространения ересей. Обители, хранившие идеалы монашеского служения, отдалялись от городов в потаенные местности, оставаясь центрами книжной деятельности. В литературе еще со времен П. Мутафчиева наметилась тенденция обобщать перечисленные явления, включая даже уход в монастырь и легендарное бегство в Рим самого Петра, как протест или оппозицию наступлению “византинизма”. Действительно, культурная политика Симеона, стремившегося к глобальному присвоению известного и понятного ему византийского культурного комплекса через его воспроизведение на болгарской почве, способствовала закреплению культурной модели, ставившей духовное развитие Болгарии в зависимость от византийского “зеркала”. В эпоху Петра расширение диапазона болгаро-византийского культурного взаимодействия втянуло в его орбиту уже не только “экспортный” миссионерский минимум византийской христианской культуры, но и другие ее слои, лежащие на грани канона и апокри84 фа, а иногда и за ней. Наряду с книжностью взаимодействие происходило и в сфере устного общения, а монашеские паломничества способствовали появлению и распространению еретической проповеди, по всей видимости, преимущественно устной101. Все это не могло не привести к новым трансформациям болгарской средневековой культурной модели. Написанное в первой половине XII в. в Западной Болгарии102 и сохранившееся в списках XV—XVIII вв. “Пространное житие” св. Иоанна Рильского содержит данные к единственной известной нам биографии простого болгарина Х в. При всех условностях агиографического канона текст поздней записи сохранил некоторые особенности первоначального предания, составленного под влиянием библейской Книги Иова и патериковых рассказов об отшельниках103. Христианин во втором поколении, родившийся в крестьянской семье в последней четверти IX в., Иван в начале Х в. оставил дом в родном селе Скрино в окрестностях Средца и, пробыв недолгое время в монастыре неподалеку от родных мест, стал отшельником. В начале царствования Петра уже широко известный своими иноческими подвигами святой основал в Рильской пустыни монастырь, игуменом которого оставался до своей смерти в 946 г.104 Если судить по приписываемому святому “Завету” 941 г., дошедшему в поздних списках XIX в., по начитанности и богословской культуре св. Иоанн Рильский вполне соответствовал уровню своего времени. Его духовная насыщена прямыми и косвенными цитатами из пророческих книг, Псалтыри и Нового Завета, содержит ссылки на жития св. Антония и св. Феодосия, “отеческие книги” — патерики, “Лествицу” св. Иоанна Синайского и “Паренесис” св. Ефрема Сирина105. Учитывая то, что Рильский монастырь в рассматриваемое время находился лишь в начале становления, можно предположить, что переводы этих сочинений в первой половине Х в. уже можно было найти и в библиотеках небольших провинциальных обителей. Восточнохристианский опыт иноческого уединения, практиковавшийся в Болгарии еще с конца IX в., также был своеобразным “зеркалом” для его адептов, однако он не был связан с какой-либо земной идентичностью, этнической или политической106. Что еще более существенно, он не порож85 дал, как в модели официальной культуры, стремления к присвоению или превосхождению оригинала. О неприемлемости и греховности такого стремления повествуют многие рассказы из патериков, известные в Болгарии в Х в.107 Напротив, “уподобление” в том смысле, в котором это понятие употреблялось в известных болгарам уже в то время, хотя и в отрывках, сочинениях св. Дионисия Ареопагита, входило в число универсальных механизмов православной культуры108. Воплощая своим подвигом один из восточнохристианских идеалов святости — аскетически-монашеский, св. Иоанн Рильский в то же время традицией своего посмертного почитания укреплял культуру “единокровного” ему болгарского народа, заботу о котором он завещал своим последователям. Местное почитание св. Иоанна в основанном им Рильском монастыре фактически обозначило новый этап формирования собора болгарских святых. Посмертное почитание Бориса-Михаила не получило развития в болгарской книжной традиции. Не приобрело официального характера, на наш взгляд, и почитание свв. Кирилла и Мефодия, традиции которого были установлены их учениками. Даже свв. Климент и Наум, видимо, до конца XI в. были местночтимыми святыми в Охриде. Лишь в двух рукописях (под 31 января и 31 июля) встречается память св. Иоанна Экзарха109. Возможно, следует поддержать предположение о том, что первоначально принятая в Болгарии агиографическая традиция отторгала попытки болгарского придворного клира ввести в пантеон святых “национальные” фигуры. С этой точки зрения культ св. Иоанна Рильского более подходил для вписывания в сложившиеся рамки агиографии. Жития основателей пустынножительства св. Антония и св. Павла Фивейского были переведены еще в начале Х в., многочисленные жития подвижников первичного, “дометафрастовского”, агиографического канона распространялись в сборниках минейного типа — собраниях житий и похвал святым, чья память праздновалась в данном месяце. Древнейшие примеры такого рода — известный Супрасльский сборник и февральская Минея из собрания Московской духовной академии, протографы которых восходят ко времени Петра110. Интересна четкая связь культа св. Иоанна Рильского с болгарским Западом. Еще до основания Рильской обители 86 отшельник, по свидетельству раннего жития, приготовил себе гроб в пещере на г. Витоше, но не остался там по ангельскому благовествованию. В Средец, желая познакомиться со старцем, прибыл из Преслава царь Петр, но отшельник отказался от прямой встречи с государем и беседовал с ним через посредников, находясь на противоположном склоне горной долины, по которой протекала Рильская река. Иоанн не принял царев дар — золотую чашу и вскоре после встречи отошел от мира сего. Его мощи, утверждает житие, были перенесены Петром в Средец. На наш взгляд, предание, связавшее двух болгарских святых — Иоанна Рильского и царя Петра, донесло и смутные отголоски противостояния между двумя историко-культурными зонами средневековой Болгарии. Возможно, оно было связано с реальными историческими событиями — заточением Петром своего младшего брата Ивана111 или с тенденциями к обособлению западных болгарских земель в конце правления Петра, но скорее всего здесь отразилась биполярность культурного пространства средневековой Болгарии, издревле тяготевшего к двум центрам — восточному (Преслав и монастыри в его окрестностях) и западному (Охрид, Средец). Характерной чертой распространения вширь христианской культуры в Болгарии и еще одним неизбежным последствием византийско-болгарского культурного симбиоза было усиление интереса к апокрифической литературе — неканоническим сочинениям на библейские темы, пророчествам, катехизисам, молитвам, гаданиям и пр. В византийской книжности апокрифические сочинения присутствовали не только в виде самостоятельных текстов (часть из них фигурировала в специально составлявшихся и обновлявшихся списках отреченных книг, которые невольно играли роль каталогов для определенной категории читателей), но и в отдельных извлечениях, цитатах и мотивах, наводнявших вполне ортодоксальную литературу. Граница между последней и апокрифами нередко выглядит произвольной: например, в число отреченных книг включалось “Пророчество Даниилово” — один из первых памятников такого рода, переведенных в Болгарии, и в то же время во вполне канонические четьи сборники входило “Откровение св. Мефодия Патарского” — одно из самых 87 популярных в православном славянском мире пророчеств, также переведенное в Болгарии Х в.112 Апокрифические сюжеты встречались еще в произведениях Климента Охридского и в других памятниках первого пласта славянской книжности в Болгарии113. Сборники, включавшие отреченные сочинения, создавались в монастырях114. Многочисленные апокрифические вставки дополняли тексты компиляций на библейские темы — старозаветной части хроники Иоанна Малалы, известной в Болгарии еще в начале Х в. и переведенной позднее полностью, и “Исторической Палеи”115. Многие из апокрифов попали в византийскую книжность из ближневосточных литератур — сирийской, коптской, арамейской — и несли на себе отпечаток древних восточных ересей и дуалистических воззрений. Апокрифические сочинения были неотъемлемым элементом массовой христианской культуры и, не являясь специальным объектом культурного “экспорта”, неизбежно попадали в расширявшийся круг интересов двуязычных болгарских книжников Золотого века. Время перевода многочисленных апокрифов, перешедших из средневековой Болгарии в древнерусскую и сербскую книжность, неизвестно, но собственные болгарские опыты на этом поприще датируются более или менее точно. К концу правления Петра или к первым годам после его смерти относится “Повесть о Крестном древе” пресвитера Иеремии — обширная компиляция из нескольких ветхозаветных и евангельских апокрифов, посвященная истории Крестного древа, на котором был распят Христос. Крест и его история — один из наиболее востребованных ранней христианской культурой в Болгарии сюжетов византийской христианской мифологии. История Крестного древа берет свое начало с Моисеева жезла, в интерпретации “Повести”, заимствованной из других библейских апокрифов — первого крестного знака, представлявшего пронзенную копьем медную змею. Очевидна параллель с известной болгарской и византийской мифологии метафорой победы христианства над болгарским язычеством — копьем, вонзенным в медное гумно. Второй сюжет — восстановление Давидом Иерусалимского храма — также был распространен в болгарской культуре Симеонова времени116. 88 Помимо тематической переклички “Повести о Крестном древе” с содержанием болгарской книжности “Золотого века” характерен и сам механизм компиляции. Использование более десятка апокрифических сюжетов Иеремия умело сочетает с выстраиванием отчетливой сюжетной линии — истории Крестного древа от Ветхого до Нового Завета. Прямые ссылки на устную традицию, как и актуализация явлений и событий, обычно вневременных или целиком принадлежащих хронотопу священной истории, роднят “Повесть” с фольклорной традицией. Упоминая поле, вспаханное Христом — сюжет ряда апокрифических сказаний, Иеремия заключает: “А ниву, которую Господь Бог пахал... некто из сильных взял и устроил загон для скота; он там стоит и поныне и будет стоять вовеки”117. В этом эпилоге, видимо принадлежащем самому составителю “Повести”, помимо нередкой в апокрифах социальной актуализации (возможно, иносказания о церковной иерархии), обращает на себя внимание выход за рамки хронологии апокрифа и связь событий с современностью. Свидетельством о чуде становится не само дело рук Господних, а памятник совершенного “неким от сильных” святотатства. Компиляция в целом, как кажется, не только отражает начитанность Иеремии в апокрифической литературе и особенности его социального самосознания, но в целом также выражает характерные особенности сформировавшейся в X в. модели средневековой болгарской культуры. Апокрифическая книжность, широко бытовавшая в Болгарии в рамках Золотого века, в известной степени подготовила появление и распространение богомильской ереси — уникального и имевшего общеевропейские последствия культурного феномена. Его оценки в существующей обширной научной литературе различны до взаимоисключения. Усилиями Д. Ангелова выстроена концепция богомильства как социальной ереси — идейной основы борьбы низов. М. Лоос и Дж. Файн118 склонны скорее видеть в нем одно из проявлений традиционного для Балкан дуализма, облеченного в мистические формы. По словам Д. Оболенского, богомильство носило “народный характер” и свидетельствовало о том, что “активное неприятие чужеродной византийской культуры... перешло в среду болгарского крестьянства”119. На наш взгляд, в этом выводе ученый разделяет неправомерные оценки тех 89 специалистов, которые под влиянием преимущественно антибогомильских по происхождению и содержанию источников автоматически приписывают еретикам все те деяния и помыслы, в которых их обвиняли противники. Следует напомнить, что основными источниками реконструкции богомильской доктрины и практики являются разного рода инвективы против еретиков — трактаты болгарина Козьмы Пресвитера и византийца Евфимия Зигавина, письма византийских иерархов и постановления константинопольских и тырновских церковных соборов. Немногие же сохранившиеся богомильские тексты не содержат прямых антиимперских или антифеодальных деклараций. Известное сведение, что богомилы считали столичный храм св. Софии жилищем диавола120, скорее говорит об их следовании характерным для средневековой восточнохристианской культуры представлениям о Константинополе как мировом центре. Считая тленный мир порождением Сатаны, богомилы естественно заменяли Христа, земным домом которого была св. София, на его антипода. Интересной деталью является пребывание главы богомильской иерархии — “дедца Средецкого” в центре западноболгарских земель, кафедральным храмом которого издавна также была церковь св. Софии. В целом же связь богомильства с болгарской средневековой культурой, на наш взгляд, определяется скорее через сходство и единство некоторых моделей, чем через “антисистемность” или “негативность”, как считал Л. Н. Гумилев121 или неприятие христианской культуры, сформировавшейся в Болгарии под византийским влиянием. Восходившая к дуализму древних восточных учений и ересей фронтальная противопоставленность богомильства христианской модели мира — от космогонии до эсхатологии, от альтернативной экзегезы евангельских притч до толкования современных ереси социальных противоречий — не должна скрывать того факта, что богомилы формулировали свое учение на том же культурном языке, что и официальная книжность, апокрифы и, видимо, устная народная традиция. Еретики обращались к тем же центральным сюжетам, что и христианская болгарская культура, как официальная, так и народная, но подходили к ним с противоположных позиций. Например, одним из центральных положений бого90 мильской доктрины было отрицание святости Крестного древа. Как между разрешенной и апокрифической книжностью часто нельзя установить четкие границы даже с помощью неполных и, скорее всего, достаточно произвольных “Списков отреченных книг”, так апокрифическую и богомильскую традиции на практике очень трудно отделить друг от друга. Можно согласиться со словами М. Лооса, что почвой богомильства был «целый слой византийской культуры, пронизанный апокрифическими легендами и народной демонологией, самостоятельной “медитацией” простых умов, не отягощенных знанием “отцов церкви”»122. Богомилы использовали для своих идейных построений как канонический, так и апокрифический материал, причем если в первом случае его приспособление к нуждам ереси осуществлялось через новое толкование евангельских притч (о блудном сыне, о насыщении страждущих пятью хлебами и пр.), то многие апокрифы (“Тивериадское море”, “Книга Еноха”, “Видение Исаии” и пр.) целиком входили в богомильское предание123. На наш взгляд, основная проблема культурно-исторического изучения болгарского богомильства лежит не столько в рассмотрении взаимодействия между каноническими и апокрифическими традициями, сколько в исследовании особенностей проникновения христианской культуры в глубь болгарского населения. Если для первых двух-трех поколений новообращенных христиан противостояние пережиткам язычества было намного более актуальной проблемой, чем сохранение чистоты вероучения, то почти через столетие после принятия христианства ситуация коренным образом изменилась. Язычество было сильно потеснено (хотя его следы сохранялись еще многие столетия, а борьба против них была актуальна и во времена возникновения и распространения богомильства), а на освобожденном от него пространстве развернулось соперничество между ортодоксией и отклонениями от нее. Будучи проникнуто мистикой и эзотеризмом, богомильское учение, насколько мы можем судить о нем по сохранившимся источникам, редко актуализировало свои положения в применении к реальности. Знаменитая инвектива Козьмы Пресвитера, часто цитируемая в доказательство социальной направленности богомильства: “Они учат своих последователей не повиноваться господам, хулят богатых, царя ненави91 дят, ругают старейшин, укоряют боляр, считают богопротивными слуг царских и всякому рабу не велят работать на своего господина”124, во-первых, вырывается ее комментаторами из общего контекста, где говорится о провозглашении богомилами скорого прихода Антихриста, во-вторых, рассматривается в отрыве от противоречий с некоторыми другими местами “Беседы”, где Козьма подчеркивает скрытность и замкнутость еретиков, а также их внешне благочестивые речи, и, в-третьих, целиком принимается на веру вопреки очевидной пристрастности автора и отсутствию вне текста “Беседы” прямых свидетельств, подтверждающих его обвинение. Характерно, что на болгарской почве богомилы не оставили сколько-нибудь заметной собственной литературы, и единственный дошедший до нас богомильский катехизис — “Тайная книга” — сохранился только в латинском переводе, не найдя продолжения в славянской рукописной традиции125. Возможно, как полагает Л. Денкова, и богомильская проповедь, и антиеретическая полемика в средневековой Болгарии принадлежали прежде всего устной традиции126. Скрывая от новообращенных адептов свои “тайные книги”, богомильские ересиархи занимались устной экзегезой Писания и интерпретацией известных в устной традиции апокрифических текстов. Границы реального присутствия богомильства в духовной культуре средневековой Болгарии, которые Дж. Файн уподобил масштабам влияния меннонитов на историю США127, на наш взгляд, не выходили за пределы апокрифической книжности с ее ярко выраженным дуализмом. В свою очередь, именно ее раннее и широкое распространение могло быть причиной того, что богомильство не породило в Болгарии собственную культурную традицию и осталось замкнутой сектой. Воспроизводя во многих отношениях широко распространенные дуалистические представления, богомильская проповедь вряд ли могла поразить воображение паствы сильнее, чем насыщенные апокрифическими сюжетами, подобно “Повести о Крестном древе”, речи “сельских попов”. Недаром на последних, наряду с еретиками, нередко были обращены инвективы официальной церкви, а русская средневековая традиция даже считала Иеремию сыном Богомила. Однако народное христианство, широко использовавшее апокрифические тексты, на деле противостояло главным догматам ереси, 92 примером чему может быть вышеупомянутая “Повесть о Крестном древе” Иеремии. В некоторых сборниках (“Киприанов индекс запрещенных книг” презрительно называет их “толстые сборники сельские”128) апокрифические тексты переписывались вместе с антибогомильскими инвективами Козьмы Пресвитера129. Важно отметить, что после падения Болгарского царства в начале XI в., когда отдельные части духовного наследия раннесредневековой Болгарии получают развитие в других православных культурах, его элитарная страта отчасти “трансплантируется” на Русь и в Сербию, а богомильство получает широкое распространение на периферии византийских владений на Балканах, именно апокрифическая книжность, трансформируя и элитарную, и еретическую традиции, становится основным видом рукописной продукции в немногих уцелевших культурных очагах в самих болгарских землях. Интересно также, что все три новых культурных явления второй половины Х в. — отшельничество, распространение апокрифических сочинений и богомильство — территориально тяготели к западным областям Болгарии, и особенно к Средцу. По-видимому, усиление культурного потенциала западных болгарских земель подготовило перенос в Средец политического и церковного центра Болгарии после падения Преслава и Дристра (Доростола) в 971 г. Наряду с Охридом город играл первенствующую роль в возобновленном Болгарском царстве Самуила130. Таким образом, установление византийской власти в Болгарии в 1018 г. застало акценты культурного развития смещенными к западу. На “время ратных бед”, как его называл свидетель начала византийско-болгарского поединка Козьма Пресвитер, пришлось и дальнейшее развитие кризиса культуры Золотого века, которая лишалась мощной поддержки государства и самостоятельной Болгарской церкви. 93 Глава III КУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ БОЛГАР В УСЛОВИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА XI—XII ВЕКОВ П адение Болгарии под натиском Византии в конце X — начале XI в. сопровождалось сокрушительными ударами по основам болгарской средневековой культуры. В 971 г. император Иоанн Цимисхий (969—976) взял штурмом болгарскую столицу Преслав и переименовал город в Иоаннополь. Феодорополем был назван захваченный позднее Дристр (Доростол) — резиденция патриарха Болгарской церкви. Во время триумфального вступления императора в Константинополь центральное место в процессии занимала увезенная из Преслава чудотворная икона Богородицы-градозащитницы, символизировавшая возвращение в византийскую столицу незаконно присвоенного болгарами имперского достоинства. Плененный болгарский царь Борис II был торжественно лишен знаков царского сана — отделанной золотом и жемчугом короны, пурпурной мантии и красных сапог. Болгарская церковь утратила патриаршее достоинство, а первоиерарх Дамиан бежал в Средец, один из центров владений мощного рода Комитопулов, продолжившего сопротивление Византии на западе страны. Последовавшая за этим почти полувековая борьба болгар во главе с Самуилом против Византии лишь продлила агонию болгарской государственной и церковной независимости. Отказавшись от переговоров с противником, болгарские государи из рода Комитопулов приняли императорский титул “автократоров” и повели борьбу с Византией не на жизнь, а на смерть. Силы оказались неравны, и вскоре противоборство вылилось в ожесточенное сопротивление болгар войскам Василия II, которое осложняли внутренние распри. Последний 94 “самодержец”, “болгарин родом” Иван Владислав (1015— 1018), вверив покровительству Богородицы свой последний оплот — укрепленный монастырь Битолю, погиб в бою, и вскоре все земли Первого Болгарского царства оказались под властью Константинополя. § 1. Имперская политика и болгарская культура в XI—XII вв. Завоеванные Василием II (976—1025) болгарские земли были организованы в несколько провинций: возвращенные под власть империи в самом начале XI в. северо-восточные земли образовали фему Паристрион с центром в Дристре; из большей части владений Самуила был образован катепанат Болгария; третью административную единицу составили сопротивлявшиеся дольше других северо-западные окраины, где была образована фема Сирмий. Тем не менее болгарская духовная культура продолжала сохранять внутреннее единство в условиях административного расчленения государственной территории и без поддержки ликвидированных официальных светских и церковных учреждений. Основой этого, несомненно, была высокая степень зрелости этнокультурного самосознания болгар, но немалую роль играла политика, проводившаяся в болгарских землях византийскими императорами начиная с Василия II. В отличие от своего предшественника Иоанна Цимисхия Василий, хотя и удостоенный ромеями грозного эпитета “Болгаробойца” за победы над болгарами и кровавые расправы с пленными, не только не стремился стереть само воспоминание о Болгарской державе, но и использовал ее политическое и культурное наследие в своих целях. Аренга первой из его грамот1 Охридской архиепископии, регулировавших церковную организацию вновь присоединенных земель (1019 г.), гласила: “Многообразны и велики блага, которыми человеколюбивый Бог одаривал нашу царственность в разные времена, но есть одно, превосходящее остальные, и это — присоединение Болгарской державы к Ромейской под единым ярмом”2. 95 Последнее выражение, повторенное и в грамоте, изданной годом позже, в 1020 г. (“Не без крови, не без труда и пота, но многолетним терпением и Божьей помощью подарена нам от Бога эта страна... дабы соединить под одним ярмом разделенное, не нарушая границ и установлений, хорошо устроенных царствовавшими до нас”3), восходит к описанию характерной для византийского и болгарского быта парной воловьей упряжки и рисует образ двух “держав”, объединенных общей властью. Как убедительно показал Г. Г. Литаврин, речь здесь не идет о какой-либо форме автономии или о договорных отношениях византийской администрации с болгарской знатью4. В византийской номенклатуре термин “Болгария” обозначал лишь небольшую часть владений бывшего Болгарского царства. Уничтожив политический суверенитет Болгарии, Василий II cохранил некоторые элементы автономного устройства Болгарской церкви. После гибели Ивана Владислава болгарский патриарх, кафедра которого находилась в Охриде, лично явился к императору молить о снисхождении к его пастве. Византийские власти образовали из епархий ликвидированной Болгарской патриархии особую Охридскую архиепископию, чаще также называвшуюся Болгарской. Первоначально во главе ее был поставлен болгарин — игумен Дебрского монастыря Богородицы Иоанн. В официальном названии архиепископии имя “Болгария” распространялось на значительную часть бывших владений Петра и Самуила5. Императорские грамоты 1019—1020 гг. восстанавливали, подтверждали и расширяли имущественные и фискальные права вошедших в Болгарскую архиепископию епархий, а сама она была подчинена непосредственно Константинополю и наделена широкой административной автономией. (“И все стратиги в Болгарии и остальные чиновники и архонты да чтут высоко и да внимают слову и наставлениям архиепископа, да не вмешиваются в дела ни болгарского монастыря, ни церкви, ни в какие бы то ни было церковные дела, и да не мешают ни ему, ни подчиненным ему боголюбивым епископам”6). Различия в политике Василия II в отношении болгар по сравнению с политикой его предшественника очевидны, хотя, насколько нам известно, они не стали предметом специально96 го исследования. Данные сфрагистики и письменные источники позволяют утверждать, что еще в начале XI в. Преславу и Дристру, подвергнутым Цимисхием “деноминации”, были возвращены прежние имена. В текстах грамот Василия II постоянно упоминаются “Болгарская держава”, “Болгария”, “Болгарский диоцез”, “болгарские пределы”. Император сохранил высокий социальный статус фамилий болгарской знати, перешедшей на византийскую службу, но в большинстве случаев переселил их в Малую Азию или на Пелопоннес. Лишив болгар политического суверенитета и социальной элиты, Василий II и его преемники сохранили упоминания о Болгарии в административно-политической номенклатуре, но передали это название церковной организации, которой были подчинены епархии центральной части Балкан — от Белграда через Средец и Ниш до Охрида7. Политику Василия II относительно Болгарии можно объяснить с учетом культурно-исторического контекста византийско-болгарских взаимоотношений. В силу понятных причин Византия не была способна воспринять сформировавшуюся в течение Х в. болгарскую культурную модель в симеоновской трактовке, но ее коррекция при Петре повлияла на складывание в Константинополе новых представлений о византийско-славянской общности, которые учитывали присутствие на исконной имперской территории христианского народа — болгар. Насильственно избавленная от политических амбиций Болгарская держава вместе с Ромейской вновь составили единую империю под скипетром Василия II. Так византийский император как бы осуществил “с точностью до наоборот” грандиозные замыслы Симеона Болгарского8 и, добавим, внес в них коррективы в духе его сына. Вряд ли следует связывать византийскую политику в Болгарии первой половины XI в. с необходимостью противостоять экспансии Рима9, т. к. в это время еще не было прямых поводов для обострения отношений Константинополя и Ватикана. Несколько позднее, в середине XI в., общая культурно-конфессиональная обстановка в христианском мире действительно актуализировала вопрос о единстве восточного исповедания веры в обстановке прямого конфликта с папством, приведшего к схизме 1054 г.10 Обострившийся к середине XI в. спор византийского духовенства “с латиною” про97 ходил при активном участии иерархов Охридской архиепископии — уже преемник Иоанна Дебрского Лев Пафлагонит сыграл одну из ведущих ролей в конфликте с Римом11. В обстановке споров с Западной церковью византийское духовенство уделяло немалое внимание антилатинской пропаганде в славянских диоцезах Так, полемику Льва Охридского об опресноках продолжили современные ему греческие епископы на Руси — Лев Переяславский и митрополит Георгий12. Однако свидетельств того, что эти усилия как-то повлияли на болгарскую паству, нет. В конце 30-х — начале 40-х гг. XI в. византийская политика в Болгарии претерпела определенные изменения. Болгарская церковная иерархия стала заменяться греческой (на место умершего Иоанна Дебрского в 1037 г. был рукоположен грек Лев Пафлагонит13). Разгром восстания Деляна, принявшего в 1040 г. имя и титул последнего преславского государя Петра, сопровождался высылкой болгарской знати в Малую Азию14. Однако ни после этих событий, ни после нового восстания в 1072 г., когда остатки местной знати вновь выступили против империи под знаменем “нового Петра” — правнука Самуила сербского князя Константина Бодина15, в болгарских землях, вопреки мнениям некоторых ученых, не проводилась т. н. “ромеизация” — фронтальное наступление на болгарскую культуру и самосознание16. Напротив, не только главные проводники византийской культурной политики в Болгарии — охридские иерархи, но и светские чиновники продолжали последовательно акцентировать болгарские сюжеты. Шестой после Иоанна Дебрского охридский архиепископ Феофилакт Ифест (1089—1126) посвятил ряд агиографических сочинений христианизации болгар, а византийский сановник XII в. Георгий Скилица создал житие св. Иоанна Рильского, мощи которого, видимо, были перенесены в Средец при Михаиле VII (1071—1078)17. Византийские правящие круги в Болгарии, и прежде всего охридское греческое духовенство, предприняли широкомасштабную ревизию древнеболгарской культурной традиции, в первую очередь переработав и использовав в написанных по-гречески трудах большой пласт ранней славянской книжности, связанный с деятельностью в болгарских землях свв. Кирилла и Мефодия и их первых учеников — Климента и 98 Наума. Рассматривая эти сюжеты как часть истории Охридского диоцеза, византийские иерархи проводили идею “этнополитической” ориентации деятельности славянских апостолов. По их описаниям, крестив языческий народ болгар, просветители создали для него местную церковную организацию с адекватным этническому “болгарским” языком проповеди и литургии. Фактически эта ревизия была направлена против общеславянского духа кирилло-мефодиевской традиции. Упорное употребление терминов “болгарский язык” (в значении как “lingua”, так и “populus”), “алфавит болгарского языка”, “болгарская земля” (как обозначение места деятельности свв. Кирилла и Мефодия) и др. явно очерчивает контуры “болгаризации” греческими иерархами Охридской архиепископии дела славянских апостолов. Противопоставление “болгарского” языка “славянскому” и намеренное игнорирование самих упоминаний о последнем византийской иерархией ставило болгар в ряд народов, которые использовали в рамках общей восточнохристианской литургики свои языки (грузин, армянхалкидонитов, сирийцев). Это было направлено против кирилло-мефодиевского понимания православного славянства как третьего культурного сегмента христианской Европы. Не оспаривая мнения И. Божилова о том, что появление болгарских святых в византийской агиографии было выражением идей единства восточнохристианской общности18, заметим, что трактовка этой общности у византийских клириков XI— XII вв. в корне отличалась от взглядов свв. Кирилла и Мефодия, духовными наследниками которых они себя считали. Так, “Житие св. Климента”, написанное Феофилактом Охридским с использованием не сохранившихся древнеболгарских памятников, создает и всячески усиливает впечатление о изначальном предназначении кирилло-мефодиевских письмен и переводов Писания болгарам. В полном противоречии не только с византийской историографической традицией, но и с собственными представлениями о болгарах, характерными для столичного сановника-ромея и отраженными в его переписке19, Феофилакт изображает принявший христианство “славянский, в сущности болгарский народ” как благочестивую православную паству, а его государей, даже ярого врага ромеев Симеона, как благоверных и мудрых вла99 стителей. Более того, автор “Жития” не раз прямо отождествляет себя с болгарами (“Климент передал нам, болгарам, все относящееся к Церкви...”20). Одной из центральных тем другого агиографического памятника, вышедшего из-под пера Феофилакта и также интерпретировавшего не сохранившиеся древнеболгарские агиографические памятники, “Жития пятнадцати Тивериопольских мучеников”, является перерождение грубого и жестокого племени язычников-болгар после их крещения21. Традиции, заложенные в деятельность Охридской архиепископии св. Феофилактом, продолжались его преемниками вплоть до ее упадка во второй половине ХIII в. Архиепископ Димитрий Хоматиан (1216—1234) написал “Краткое житие св. Климента Охридского”, а также канон и службу святому, переведенные на славянский язык, по-видимому, на Афоне. Ему приписывается и установление праздника свв. Седмочисленников — Кирилла, Мефодия и их учеников — Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангелария22. Труды Димитрия Хоматиана также насыщены “этническими” акцентами (“болгарский светильник”, “болгарский язык” в значениях “populus” и “lingua”, “царь болгар Михаил” и пр.). Еще один охридский архиепископ — Константин Кавасила (1255—1260) написал пространное житие, службу и канон св. Науму Охридскому, где болгарские реалии также представлены весьма подробно и отчетливо23. Если рассматривать произведения Феофилакта Охридского и его преемников как выражение определенной позиции в продолжавшемся византийско-болгарском культурном диалоге, который теперь проходил в отсутствие государственного и церковного суверенитета Болгарии, то можно сделать вывод, что византийская сторона не только продолжила попытки навязать болгарам свое представление об имперской ойкумене, но и вновь занялась опровержением тезиса о равноценности двух сегментов православной общности — греческого и славянского. Расширение последнего в это время за счет Руси, славянская основа которой, несомненно, была ясна Константинополю, как и продолжавшаяся христианизация сербов, объективно усиливали позиции сформулированной еще первыми болгарскими последователями Кирилла и Мефодия “славянской доктрины”, актуальность которой в самой 100 Болгарии Х в. была заметно потеснена внедрением этнополитически ориентированной модели болгарской культуры. Как нам кажется, реальных оппонентов ни в Болгарии, ни в иных славянских землях XI—XII вв. у византийских идеологов не было, но тем не менее, диалог продолжался. Охридские иерархи противостояли продолжавшей существовать в духовном наследии болгар традиции свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия — самостоятельной славянской конфессиональной общности. Вряд ли основательно мнение о намеренном уничтожении славянских рукописей греческими иерархами и чиновниками. Если о составе сохранявшейся в официальных библиотеках Средца и Охрида древнеболгарской книжности судить трудно, то в самом факте ее наличия сомневаться не приходится. Помимо древних кирилло-мефодиевских текстов, которые подвергались переводу и переработке, в деятельности византийских идеологов в Болгарии был использован целый ряд болгарских сочинений Х в. Н. Драгова полагает, что при составлении “Жития пятнадцати тивериупольских мучеников” были привлечены “Житие Бориса-Михаила”, повести о крещении болгар, обретении и перенесении мощей тивериупольских мучеников, хроника посвященного им монастыря и пр.24 До середины XIII в. в архивах Охридской кафедры сохранялось древнеболгарское “Житие Наума Охридского”, которое положил в основу своего написанного по-гречески жития Наума Константин Кавасила25. Известны попытки имперской политики использовать в своих интересах культы святых отшельников, популярных среди населения болгаро-сербского пограничья и сопредельных албанских областей. Важное место среди них занимала трансформация в официальный культа св. Иоанна Рильского, мощи которого после падения Болгарского царства находились в Рильском монастыре. Вскоре после подавления восстания болгар под руководством Георгия Войтеха по указанию Михаила VII Дуки мощи были перенесены в Средец. Их торжественное возложение в важнейшем центре византийской власти в болгарских землях, несомненно, было актом официальной политики, направленной на замирение болгар. Монастырь построил на мощах святого в Средце свое подворье — храм св. Иоанна и получил городское владение — метох. 101 Об особом внимании властей к монастырю в начале XII в. косвенно свидетельствует как находившийся там императорский акт — симиома, так и упорная защита его прав от притязаний местного епископа Феофилактом Охридским, который посвятил этому незначительному, на первый взгляд, делу целый ряд писем26. Вряд ли храм бедствовал, если средецкий епископ обвинял его настоятеля в даче императорскому препозиту взятки в 72 золотых номисмы. Мощи святого считались целительными, и их чудотворную силу столетие спустя, в 70-е гг. XII в., довелось испытать на себе посетившему город византийскому императору Мануилу I Комнину (1143—1180). Его наместник в Средце Георгий Скилица по возвращении в Константинополь принял монашество и написал в одном из столичных монастырей “Житие св. Иоанна Рильского”, сохранившееся только в славянском переводе, а также службу и канон святому27. Судя по последующему распространению этих произведений, именно они впервые составили весь необходимый комплекс для литургического почитания святого и означали его официальную канонизацию греческой Церковью. Об официальной роли мощей косвенно свидетельствует то, что их включил в состав военной добычи и увез в Эстергом венгерский король Бела III, захвативший город в 1183 г. Культ св. Иоанна Рильского издавна сочетался в болгарских землях с почитанием его последователей — свв. Гавриила Лесновского, Прохора Пшинского и Иоакима Осоговского (Сарандапорского). Начав, как и их учитель, с отшельничества, в XI в. они основали свои обители в горах Северной Македонии, где по кончине почитались как святые28. Умножение пустынножительского образца святости, видимо, получало поддержку имперских властей и охридских иерархов, способствовавших укреплению этих культов. Сохранившиеся чаще всего в более поздних славянских списках жития новых отшельников связывают некоторых из них с византийскими императорами. Так, св. Прохор Пшинский предсказал софийскому наместнику Роману Диогену императорскую корону и посмертно удостоился почестей василевса, занимавшего константинопольский престол в 1067—1071 гг.29 Культ св. Иоакима Осоговского, по свидетельству его жития, получил особое развитие при Мануиле I Комнине, которого якобы удержал от 102 отпадения в ересь еще один почитавшийся здесь святой — епископ г. Меглена Иларион. Мощи св. Гавриила Лесновского, по свидетельству позднего жития, были также перенесены в XII в. в Средец30. Популярность новых отшельников вышла за пределы болгарских земель. В Албании близ Эльбасана их почитание вошло в систему местных верований, связанных с памятью учеников свв. Кирилла и Мефодия Горазда и Ангелария и св. Иоанна Владимира — сербского князя, убитого по приказу болгарского царя Ивана Владислава в 1015 г.31 Значение, придававшееся византийскими властями культу св. Иоанна Рильского, прослеживается и в политических акциях конца XII в. В 1186—1187 гг. мощи святого были возвращены в Средец примирившимся с венграми императором Исааком II Ангелом. Возвращение мощей местными властями, произошедшее в обстановке уже начавшегося восстания братьев Петра и Ивана Асеней против Византии, несомненно, было призвано укрепить пошатнувшееся имперское влияние и противопоставить Средец новому политическому центру повстанцев — Тырнову. Последовательное стремление византийских церковных и светских властей в Болгарии интерпретировать в выгодном для себя направлении элементы болгарского культурного наследия не означало полного подавления ими самостоятельного развития духовной жизни болгар. Сохранившиеся в поздних списках XVIII—XIX вв. болгарские пространные жития святых отшельников — сподвижников Иоанна Рильского по форме и стилю напоминают его древнейшее житие и, видимо, также были составлены в монастырях, где первоначально сохранялись мощи святых. Они отличаются особым вниманием к местной топонимике и содержат фольклорные и апокрифические мотивы. В “Житии св. Прохора Пшинского” четверо пустынножителей представлены как “четворица, богоизбранное содружество”, а их подвиги описаны как единая деятельность “исшедших ралом веры бразду возделать и сеять семя духовное”32. Еще более четкая оценка деятельности болгарских подвижников XI в. как продолжателей кирилломефодиевских традиций дана в триодном песнопении, сохранившемся в списках XII—XIII вв.: “Похвалами да увенчаются Кирилл Философ, что с братом Мефодием привел к Господу новоизбранное множество языка 103 словенского, а с ними же петь будем Рильскому Иоанну и Иоакиму Сарандапорскому и Прохору Пшинскому новоосвященным”33. Подводя итоги сказанному, следует заметить, что развитие болгарской духовной культуры в условиях византийского господства было сложным и по-своему динамичным процессом. Если культурная деятельность иерархов Охридской архиепископии, являясь в известной мере продолжением византийско-славянского диалога IX—X вв., опиралась на унаследованные от Болгарского царства кирилло-мефодиевские и официальные тексты, то собственно болгарская культура в XI—XII вв., видимо, довольствовалась лишь разрозненными отрывками книжной традиции, дополняя их преданиями, взятыми из устного наследия. Отдельные примеры, свидетельствующие об использовании в монастырях Западной Болгарии, где была в основном сосредоточена в XI—XII вв. болгарская книжность, древнейших источников (ранние переводы евангельских и богослужебных текстов, сведения о строительстве Борисом-Михаилом церквей по реке Брегальнице и на Овчем поле в рассматриваемых ниже апокрифических текстах и пр.), лишь подчеркивают бедность письменной основы продолжавшихся древнеболгарских культурных традиций. Показательно, что среди в целом небольшого количества сохранившихся среднеболгарских рукописей XII в. много славянских палимпсестов, записанных по стертым греческим текстам X—XI вв. (Григоровичев паримейник, фрагмент Кюстендилского евангелия, Слепченский апостол, пергаменная часть сборника из собрания Тишендорфа и пр.)34. Битольская триодь XII в. (Библиотека Болгарской АН. № 38), восходящая к гимнографическому наследию Константина Преславского, интересна не только использованием одновременно кириллицы и глаголицы, но и тем, что сохранила глоссы ее создателя — грамматика Георгия, переписывавшего книгу зимой в “столпе” — башне монастыря свв. Козьмы и Дамиана — при активном содействии местных жителей, приносивших самоотверженному книголюбу пергамен и пищу35. Ряд рукописей (Супрасльский сборник, Саввина книга, Енинский апостол) свидетельствует о непосредственном продолжении традиций Преславской книжной школы в Восточной Болгарии XI в.36 В эпоху византийского господства и на западе страны был 104 переписан с древнеболгарских рукописей целый ряд славянских богослужебных книг, среди которых первый известный кириллический список четвероевангелия — Добромиров37. Таким образом, в интегрированных в имперскую территорию болгарских землях на протяжении двух столетий византийской власти не прекращалась, пусть и в достаточно скромном объеме, духовная жизнь, не только продолжавшая традиции Золотого века, но и подготовившая обновление средневековой болгарской культуры в правление первых Асеней в конце XII — начале XIII в. § 2. Культурное наследие Болгарского царства и славяно-византийские контакты X—XII вв. Гибель Первого Болгарского царства совпала с событиями, которые прорвали эмбриональную оболочку византийско-болгарского культурного симбиоза и привели к расширению византийско-славянской общности. Еще во время существования Болгарского государства политико-географический ареал последней значительно расширился. Обретение самостоятельности от Болгарии в начале правления Петра сербскими землями, где к тому времени уже более полувека активно утверждалось христианство38, и крещение Руси в разгар болгаро-византийского противостояния конца Х в. обозначили два наиболее важных в будущем направления этого расширения, которыми оно, однако, не ограничилось. Сведений о ранних болгаро-сербских культурных контактах крайне мало. Учитывая существовавшую при Симеоне зависимость сербских земель от болгарской короны, можно предположить, что туда ушла часть книжного наследия Первого Болгарского царства, впоследствии востребованная сербской культурой эпохи Неманичей. Об этом свидетельствуют не только сделанные в XIII в. с древних болгарских оригиналов сербские списки сочинений Иоанна Экзарха, Климента Охридского и других писателей Золотого века, но и недавно обнаруженные А. А. Туриловым в месяцеслове сербского Изборного евангелия-апостола записи о древнейших болгарских праздниках. 105 Реминисценции ранних сербско-болгарских связей запечатлены в “Дуклянском анониме” — своде устных преданий и письменных сведений о раннем прошлом Далмации и прилегающих славянских областей с V по середину XII в., который был написан анонимным автором в XII в. по-латыни и сохранился в поздних списках XV—XVII вв.39 В числе источников хроники, как предполагают некоторые авторы, могли находиться и древнеболгарские памятники40, но, как нам представляется, ее составители, подобно создателям “Болгарской апокрифической летописи”, в части болгарских сюжетов пользовались в основном устной традицией. Наиболее интересно с точки зрения нашей темы включенное в хронику “Житие Иоанна Владимира” — зетского князя, женатого на дочери болгарского государя Самуила Косаре и предательски убитого по приказу последнего монарха Первого Болгарского царства Ивана Владислава. “Житие”, несмотря на антиправославную направленность “Дуклянского анонима”, построено на представлении об общей истории сербов и болгар в конце X—XI вв. Пересказываемые в хронике легенды сербского Приморья (Зеты), в том числе и рассказ о кирилло-мефодиевской миссии, опираются на устные стереотипы болгарской культурной традиции, так что в фигурах легендарных зетских правителей Святопелека и Светолика узнаются черты Бориса и Симеона41. Резко антиболгарская в рассказе о правлении Самуила интонация “Жития” смягчается в истории любви и брака Владимира и дочери Самуила Косары и становится положительной при описании краткого правления Гавриила Радомира. Злодеяния Иоанна Владислава объясняются кознями Византии и православного духовенства, за которыми стоит диавол. Автор сочувствует болгарам, угнетаемым греками. Болгарская и сербская (зетская) истории объединяются в династических перипетиях преемников Иоанна Владимира, одному из которых, Бодину, якобы досталась в наследство завоеванная византийцами Болгария42. Как мы уже упоминали, Константин Бодин неудачно попытался реализовать это право, будучи провозглашен царем под именем Петра в ходе болгарского антивизантийского восстания 1072 г.43 Если общность болгарской и сербской (зетской) истории в “Дуклянской хронике” восходит к болгарским представле106 ниям, то династическое видение общего прошлого двух народов представляется нам одной из наиболее ранних манифестаций сербской культурной модели44, которая полностью сформируется во времена вытеснивших зетскую династию Неманичей. Сложившееся примерно в это же время почитание св. Иоанна Владимира как главы местного собора святых, включавшего свв. Иоанна Рильского, Гавриила Лесновского, Прохора Пшинского и Иоакима Осоговского (Сарандопорского), о котором мы говорили выше, обозначило начало общей агиографии православных южных славян. Заметим, что хотя эти черты общности сформировались вне влияния Охридской архиепископии, которой после завоевания Болгарии были переданы и сербские земли, резкие выпады против восточнохристианской Церкви в “Житии” и продолжающем его тексте “Дуклянского анонима” вполне могли быть отголоском ожесточенного спора Рима и Константинополя за каноническое подчинение Сербии, длившегося до начала XIII в. Бесспорно огромное влияние культурного наследия Первого Болгарского царства на Древнюю Русь. Однако, несмотря на обилие работ на эту тему, источниковая база раннего этапа болгаро-русских связей выглядит немногим лучше документальных свидетельств о болгаро-сербских контактах. Многочисленные легенды на эту тему, питающие обширную историографию вопроса45, восходят в лучшем случае к позднему средневековью и в массе своей сформированы русской славистикой XIX в., значительная часть представителей которой тяготела к славянофильству. Не выдерживают критики предположения о болгарском происхождении княгини Ольги, о присылке царем Симеоном на Русь болгарских книг, об участии болгарского клира Охридской архиепископии в крещении Руси и массовой эмиграции болгар на Русь после падения Первого Болгарского царства46 и пр. Высказанные в литературе более вероятные версии о вывозе преславских книг на Русь воинами Святослава Киевского, о передаче древнеболгарского книжного наследия Киеву, в связи с крещением Владимира, в составе приданого его жены — принцессы Анны, о столичном византийском происхождении болгарских прототипов древнейших русских иллюминированных рукописей, о попавшей в Ростов части Симеоновой библиотеки и др.47 также не опираются на документальные свидетельства. 107 Первые засвидетельствованные источниками непосредственные контакты Болгарии с Русью — балканские походы киевского князя Святослава — совпали с последними годами правления Петра. Как предполагают некоторые исследователи, в начале 70-х гг. Х в. именно вытесненные из Болгарии византийцами воины Святослава Игоревича унесли на берега Днепра взятые в качестве военных трофеев книги из преславской царской библиотеки. Цитированные выше известия о триумфе Цимисхия, как и текстологические наблюдения над древнейшими русскими рукописями, однако, указывают на иное направление миграции — вывоз преславских художественных и книжных богатств в Константинополь, откуда они либо непосредственно, либо через афонские монастыри могли достичь Руси уже в начале XI в. Предположения о массовом переходе на Русь болгарских книжников и с ними книжного наследия и культурных традиций Первого Болгарского царства после его падения в конце X— начале XI в. или после замены высшего болгарского клира Охридской архиепископии на греческий, не только не находят никакого документального подтверждения, но и базируются на неправильных исторических построениях о “ромеизации” Болгарии в эпоху византийского владычества и особом характере болгаро-русских отношений. К сожалению, не подтвердилось и было отвергнуто самими авторами предположение о прибытии на Русь в 5570 (1061/1062) г. болгарского клирика “Григория Философа пришедшего из Царяграда с митрополитом Георгием при князе Ярославе, сыне Изяславовом”, основанное на глоссе к группе проповедей на семь дней недели, сохранившейся в списке XV в.48 Остальные сведения, нередко приводимые в работах по истории ранних болгаро-русских связей, чаще всего восходят к Иоакимовской летописи — ныне утраченному памятнику конца XVII или даже первой половины XVIII в.49 или к русским родословным легендам того же времени (генеалогическое сказание рода Философовых о приходе на Русь болгарина Марко)50. Первое же документальное подтверждение обстоятельств передачи из Болгарии на Русь рукописного памятника — тырновского списка Номоканона св. Саввы Сербского датируется лишь XIII в.51 108 Хотя обстоятельства появления на Руси древнеболгарских книжников и их творений остаются неизвестными, почти точное совпадение периода становления русского христианства с последними десятилетиями ранней болгарской государственности на Балканах обозначило исходную точку “продолжительного и незаметного” проникновения на Русь болгарских книг, которое “вначале могло быть более интенсивным, но так и не остановилось” до самого исчезновения Болгарского государства в результате османского завоевания52. Одним из его результатов стало сохранение книжного наследия Первого Болгарского царства в древнерусской рукописной традиции как в виде русских списков древнеболгарских сочинений и переводов или даже копий целых сборников, так и в цитатах из творений болгарских писателей Золотого века53. Все это позволяет говорить о непосредственном и значимом присутствии наследия Первого Болгарского царства в древнерусской культуре54. Проблема болгарского участия в оформлении раннего пласта христианской культуры Древней Руси в целом далеко выходит за рамки исследовательских задач данной книги, и мы ограничимся лишь общими замечаниями. Несомненным культурным фактом является присутствие на Руси уже с середины XI в. болгарских иллюминированных рукописей, принадлежавших преславской дворцовой библиотеке. Среди них были прототипы упомянутых выше “Изборника” 1073 г., “Учительного евангелия” Константина Преславского и “Ипполитова сборника” с ктиторским царским изображением55. Нет никаких данных ни о времени, ни об обстоятельствах перенесения на Русь преславской библиотеки, что делает все предположения на этот счет сколь вероятными, столь и недоказуемыми. Неизвестно также, была ли эта библиотека перенесена на Русь однократно или в несколько приемов. Принадлежность сохранившихся кодексов киевским и новгородским скрипториям XI в. и книжным центрам Северо-Восточной Руси XII в. скорее говорит в пользу последнего пути. Судить о характере рецепции древнеболгарского культурного наследия на Руси очень трудно прежде всего из-за того, что основой для выводов могут служить только сохранившиеся русские списки памятников и произведений Первого Болгарского царства. Однако можно предположить, что 109 культура Киевской Руси, целиком приняв ортодоксальные богословские, полемические и учительные сочинения болгарских книжников X в. и горячо откликнувшись как на отреченные тексты, так и на направленные против ереси инвективы, гораздо слабее отреагировала, например, на болгарские переводы и опыты в области историографии. Так, связывавший языческое прошлое болгар со священной и мировой историей “Именник”, несмотря на механическое воспроизведение в составе сборников, остался на Руси непонятым. Основную часть перешедшего на Русь наследия болгарских книжников составили переводы с греческого как канонических, так и апокрифических сочинений. Активное восприятие на Руси древнеболгарских переводов можно объяснить сходством культурно-исторических ситуаций, связанных с принятием христианства (общий источник — Константинополь, роль монарха-крестителя, богатая предыстория контактов с Византией, общие литургические порядки и пр.). Как пишет Ф. Томсон, “корпус древнеболгарских переводов, доступных в Киевской Руси, напоминал библиотеку большого провинциального византийского монастыря... и это объясняется тем, что выбор работ, переведенных в Болгарии, определялся самим характером миссии в Болгарию и литургическими требованиями церковного устава”56. Таким образом, Древняя Русь, воспользовавшись древнеболгарским наследием, стала второй обладательницей “школьной нормы” восточнохристианской культуры. Безусловно конъюнктурный оттенок носит широко распространенное в отечественной и болгарской научной литературе мнение об особом и взаимно осмысленном характере болгаро-русских связей. Упоминания о Руси и русских в текстах эпохи Первого Болгарского царства отсутствуют, сведения же о болгарах в древнерусских памятниках XI—XIII вв. не выделяют их среди прочих соседей Руси на фоне в целом слабого интереса древнерусской книжности к таким сюжетам. Несколько резко звучащий вывод И. И. Калиганова: “В эпоху Средневековья болгары и русские знали друг о друге не больше, чем о других народах Европы и Азии”57 — следует признать в общих чертах верным. Механизм рецепции переведенных или созданных в Болгарии сочинений был основан не на прямых связях болгарских и русских книжников, как это 110 продолжает подчас изображаться в научной литературе, а на поглощении новообращенной Русью адаптированной в Болгарии части общего византийско-славянского духовного наследия, главным источником которого и для Руси, и для Болгарии оставался Царьград. Концепция “трансплантации” древнеболгарской книжности на Русь, вызвавшая справедливую критику своей односторонностью, содержала, на наш взгляд, рациональное зерно. Встречные потоки византийских миссий, в которых участвовали и болгары, и древнерусских “хожений” в Византию, с которыми на Русь попадали древнеболгарские сочинения и книги, черпали их из одной и той же переложенной на славянский язык и дополненной древнеболгарскими произведениями и компиляциями части византийских духовных богатств, хранившейся в Константинополе, Фессалониках, позднее — на Афоне. Она содержала элементарные, классические церковные, исторические, политические и иные тексты, т. е. отражала общее для болгар и русских, а позднее и для сербов “ойкуменическое” ядро культурной модели, сформировавшейся в Болгарии Симеона и Петра. Как мы видели ранее, состав “Изборника” 1073 г., отвечавший этим требованиям, сохранялся в древнерусской, а затем и в средневековой сербской культуре целиком, в то время как его аналог (прототип части “Изборника” 1076 г.), актуализированный в Симеоновой Болгарии отдельными политическими сочинениями, утратил на Руси первоначальное единство и был востребован лишь в тех частях, которые входили в упомянутый “минимум”. Памятники Симеоновой эпохи, выражавшие этнополитические акценты болгарской культурной модели, вошли в состав древнерусской книжности лишь в форме глосс и вставок, которые составляли “конвой” общепринятых текстов и воспроизводились книжником в силу обычая. Таковы, например, цитированные выше глосса Тудора Доксова к “Словесам” Афанасия или послесловие пресвитера Иоанна к переводу жития св. Антония. Если ранний этап болгаро-русских культурных связей издавна привлекал внимание исследователей, то еще один важнейший аспект становления византийско-славянской общности — формирование ранних центров культурного взаимодействия в монастырях византийской столицы и христианско111 го Востока — остался почти вне поля зрения ученых. Многократно высказывалось предположение, что первым результатом славяно-византийского книжного сотрудничества в Константинополе было составление славянского простого Пролога — Синаксаря в XII в.58, что, однако, не исключает и других таких контактов, в том числе, более ранних. Целый ряд популярнейших в дальнейшем в славянской книжности сочинений (“Житие Алексея человека Божьего”, “Житие св. Феодора Студита”, “Пандекты” св. Никона Черногорца и др.), дошедших в ранних русских списках XII в. и приписываемых эпохе Первого Болгарского царства, вполне могли быть переведены славянскими книжниками в византийских монастырях уже после его падения. Эта работа не сводилась к дословному переложению текста и могла вовлекать в творческий процесс тексты, выходившие за пределы “школьной нормы”. Например, в славянский текст перевода “Жития св. Иоанна Златоуста” был включен фрагмент из “Церковной истории” Созомена59, отсутствующий в первоначальной греческой редакции. Практически не отражена в документах ранняя деятельность славянских книжников в монастыре св. Екатерины на Синае, библиотека которого содержит древнейшие славянские рукописи XI—XII вв., в том числе и происходившие из болгарских земель. Эти книги могли попасть сюда как через Константинополь или Афон, так и непосредственно с болгарскими монахами и паломниками, путешествовавшими по Ближнему Востоку уже на рубеже IX—X вв. Несмотря на неблагоприятные политические обстоятельства, Синайский монастырь был знаменит в Болгарии и других славянских странах в течение всего Средневековья. Этому способствовали не только неиссякавшая популярность “Лествицы” Иоанна Синайского и “Луга духовного” Иоанна Мосха (“Синайского патерика”), переведенных в Болгарии Золотого века, но и высокий авторитет выходцев из обители св. Екатерины на Балканах и во всем средневековом православном мире. Не ранее середины XI в. произошло становление важнейшего центра византийско-славянского культурного сотрудничества на Афоне. Это древнее монастырское сообщество на южной оконечности Халкидики сформировалось не позднее середины X в. как “федерация” из двадцати монастырей во главе с выборным “правительством”60. Хотя присутствие здесь 112 славянских монахов документально зафиксировано еще в конце Х — начале XI в., когда были заложены основы святогорского монашеского сообщества, первые бесспорные свидетельства оформления вначале болгарского, а потом сербского сегментов духовной жизни Афона относятся к более позднему времени. Разрозненные сведения, большей частью поздние и нередко легендарные, сообщают о деятельности болгарского монашества в разное время в обителях св. Павла, Дохиар, Григориат, Ксиропотам, но наиболее часто раннее болгарское присутствие на Святой горе связывается с монастырем св. Георгия, именуемым Зограф61. Монастырская хроника (т. н. Сводная Зографская грамота), составленная в XVI в., приписывает его создание трем братьям из Охрида — Моисею, Аарону и Иоанну “Селиме” (Самуилу?), датируя событие 919 г.62 Дата основания обители, несомненно, легендарна, хотя приводимые здесь имена могут принадлежать реальным ктиторам или покровителям обители в пору ее становления — Самуилу, Моисею и Аарону Комитопулам, сыновьям болгарского наместника в Македонии Николы. Их совместное упоминание отводит нас ко времени до 976 г., когда братья Самуила погибли в результате ряда драматических событий. На близкую дату указывает первый типик святогорских монастырей, утвержденный Иоанном Цимисхием в 972 г., где упомянут некий Георгий Зограф — возможный основатель монастыря. Подпись “Макария иеромонаха игумена Зографского” под старейшим актом монастырского архива, датированным 980 г. (как показывают новейшие палеографические исследования, восстановленная или написанная вновь не ранее XIV в.), в любом случае устанавливает отчетливый terminus post quem основания обители63. Вышеизложенное, однако, не означает, что в конце Х в. в Зографском монастыре уже сформировалось монашеское сообщество выходцев из Болгарии. Казалось бы, на это косвенно указывает присутствие в библиотеке монастыря древнейших кириллических памятников — т. н. Зографских листков с монашескими правилами св. Василия и Зографского евангелия, датируемых первой половиной XI в.64; однако, древнейшие славянские рукописи нередко присутствуют и в библиотеках тех греческих обителей, в которых славянские 113 монахи никогда не составляли ни большинства, ни значительной части братии. С XI в. стала проявляться тенденция к сосредоточению иноков, происходивших из того или иного христианского народа (грузин-”иверов” или итальянцев-бенедиктинцев), в одном монастыре65. Важными свидетельствами переменчивой этноконфессиональной судьбы Зографа в XI—XII вв. являются автограф “Иоанна монаха и игумена Зографского” на акте 1049 г. по-гречески и подпись одного из его преемников “Симеона игумена Зографского” на акте 1169 г. кириллицей. Хотя “Святая Гора” упоминается уже в одном из болгарских эсхатологических текстов второй половины XI в. — “Сказании Исаии”66, именно на XII в. как время интенсивного развития славянских обителей Афона и культурных взаимоотношений между ними указывает целый ряд фактов. Среди них — зафиксированная актом 1169 г. “болгаризация” Зографа, упоминание о сорока девяти “русских книгах” в типике монастыря Ксилургу, в 1142 г. объединившегося с обителью св. Пантелеймона, и переход управления последней (не позднее 1169 г.) и Хиландарским монастырем (1198 г.) соответственно к русскому и сербскому монашеским сообществам67. К концу XII в. на Афоне сложилась этнически дифференцированная конфессиональная среда. В “Житии св. Стефана” (Немани) по Студеницкому типику (начало XIII в.), написанному св. Саввой, отпевание принявшего монашеский чин сербского великого жупана в афонском Хиландарском монастыре описывается следующим образом: “...тем и мнози езыци тогда придоше поклонитися ему и с великою почьстию отдати пение. Певше пръво Гръци, по том Иверие, та же Руси, по Роусех Блъгаре, по то пакы мы [сербы], егово стадо совокупленное”68. Порядок пения, вероятно, отражал некую иерархию, принятую в то время на Афоне и, возможно, связанную с хронологической последовательностью утверждения на Святой Горе “этнических” монашеских сообществ. Таким образом, на основе творческой переработки наследия Первого Болгарского царства и расширения общеславянского фонда книг и произведений в монастырях Балкан и Ближнего Востока в XI—XII вв. формировалась своеобразная ойкуменическая духовная среда, в которой осуществлялось 114 византийско-славянское культурное общение и создавались соответствующие тексты и книги, лишенные отчетливых этнополитических признаков. Хотя едва ли не вся конкретная информация о деятельности ранних очагов сотрудничества православных книжников из славянских земель, греческих территорий Византии и древних восточнохристианских центров ограничивается единичными упоминаниями о славянских монахах в обителях Константинополя и Фессалоник и присутствием древних славянских кодексов в рукописных хранилищах монастырей Иерусалима и Синая, само существование такого сотрудничества не вызывает особых сомнений. Собственно говоря, плодом его первоначального этапа, связанного с деятельностью св. Кирилла в византийской столице и св. Мефодия в его монастыре в Вифинии, стало создание славянской письменности. Раннее описание такой среды представлено в цитированном выше “Сказании о железном кресте”: монах-болгарин по-гречески рассказывает о чудесах св. Георгия братии монастыря, расположенного в Малой Азии; его рассказ, записанный соответственно по-гречески, возвращается в болгарскую среду как славянский текст, вероятно, через смешанные в этническом плане монастыри Балкан. Существование такой среды не следует ограничивать известными монастырскими центрами, прежде всего Афоном — возможности для ее развития существовали и в болгаро-византийском пограничье. В этой среде ойкуменическая основа византийско-славянской общности, сформировавшаяся через продолжение кирилло-мефодиевских традиций в болгарской культуре Золотого века, могла получить дальнейшее развитие, адекватно выражая культурную общность растущего числа восточнохристианских народов. Вполне уместно предположить принадлежность этой ранней “надэтнической” традиции целого ряда памятников, бытование которых в ранней болгарской и русской книжности не вызывает сомнений, а место перевода не помещается в системе координат “Первое Болгарское царство — Киевская Русь”. 115 § 3. От криптокультуры к историко-политической эсхатологии: трансформации культурной модели в болгарской книжности XI—XII вв. Если в руках византийских идеологов в Охриде и Средце оказалось некоторое число книжных памятников Первого Болгарского царства, то устная традиция, в условиях высокой степени консолидации болгарского этнокультурного самосознания несшая в себе элементы общей культурной модели, стала достоянием немногих местных книжников XI— XII вв., чья деятельность также сосредоточилась на западе бывшего Болгарского царства, в монастырях Средецкой области и Македонии. По созданным здесь в XI—ХII вв. сочинениям можно проследить новую трансформацию болгарской культурной модели в условиях византийского владычества. Вытесненная из разрушенных городов в небольшие горные монастыри болгарская книжность сосредоточила внимание на исторической судьбе своего народа, продолжая рассматривать ее в контексте библейской, христианской и византийской истории. Легенды о скрытых до поры в недрах гор героях и пророчества о восстановлении царства — общее место исторической памяти народов, лишенных государственной независимости, накладывались на основу византийских апокрифических сочинений, уже с Х в. прочно вошедших в болгарскую культуру. Результатами этого нового культурного синтеза стали местные переработки греческих эсхатологических сочинений, составившие целый пласт болгарской средневековой книжности. Первоначальный толчок их созданию дали события первого крупного антивизантийского восстания болгар в 1040 г., а закрепили эту тенденцию апокалиптические ожидания конца XI в., охватившие византийско-славянский мир69. Первый цикл историко-эсхатологических памятников, относящийся ко второй половине XI в., по компетентному мнению А. Милтеновой, включал, помимо упоминавшейся выше “Болгарской апокрифической летописи”70, еще четыре текста — “Видение Даниилово”, “Толкование Даниилово”, “Сказание Исаии пророка о будущих летах” и интерполированную версию “Откровения св. Мефодия Патарского”71. Их роднит между собой 116 близкая тематика и практически единая образно-концептуальная система, сочетающая ветхозаветную и апокалиптическую символику с узнаваемыми элементами модели средневековой болгарской культуры, сформировавшимися в Х в. Эти произведения (кроме интерполированной версии “Откровения”, где болгарские дополнения касаются лишь отдельных реминисценций событий середины XI в.72) предрекали возрождение болгарской государственности, опираясь на трансформированный устной традицией комплекс преданий о Первом Болгарском царстве. Центральное сочинение этого цикла — “Болгарская апокрифическая летопись” может рассматриваться как своеобразный итог самобытной болгарской отреченной традиции Х в., о которой мы писали ранее. Не вызывает сомнений влияние на памятник богомильских воззрений, замеченное многими учеными73. “Летопись” представляет собой своеобразный историко-эсхатологический свод, возникший в одном из болгарских монастырей во второй половине XI в.74 и дошедший в единственном сербском списке начала XVII в.75 В нее вошли часть широко распространенного в книжности Византии и православных славян апокрифического сказания о вознесении пророка Исаии на седьмое небо, изложенная от его имени легендарная история основания Болгарского царства и его государей (до Петра включительно) и восходящие к устной традиции исторические заметки и пророчества, отображающие события конца Х — первой половины XI в., а также интерполирующие в ожидаемое будущее фрагменты характерных для модели средневековой болгарской культуры исторических и культурных представлений. “Летопись” ценна как своеобразный “слепок” болгарского культурного сознания в эпоху, когда его творцы и носители были насильственно отторгнуты от собственной книжной традиции. В силу этого попытки некоторых современных исследователей читать ее как своеобразный ребус, автор которого намеренно зашифровывал в апокрифических образах известную ему по письменным источникам историю Первого Болгарского царства представляются нам некорректными76. В свете нашего исследования важно проследить отражение в “Летописи” отдельных элементов сформировавшейся в Х в. модели средневековой болгарской культуры, а также рассмот117 реть соотношение идейно-культурного содержания этого сочинения с освещенной выше охридско-средецкой интерпретацией византийско-болгарской общности. Роль главной культурной парадигмы в “Летописи”, как и в других повествующих о прошлом сочинениях XI—XII вв., выполняет возникшее еще в болгарской книжности Х в. представление о слитности и неразрывности болгарской и византийской (“греческой”) истории. Болгаро-византийский симбиоз возникает в “Летописи” сугубо мирным путем — пророк Исаия, указуя, подобно Моисею, тростью путь, приводит от “запада вышних стран Рима... третью часть от куман, называемых болгарами” через три великих реки в “Карвунскую землю, зовомую болгарской”, которая за сто тридцать лет до этого была оставлена “эллинами” (данный этноним как бы уравнивает “куманов”-болгар с греками в общем языческом прошлом), и ставит им царя по имени Слав. Назвавшись болгарами, “куманы” отказываются от своего языческого прошлого, когда они “были безбожниками, и [жили] в нечестии, и были всегда врагами Греческому царству многие лета”77, и, если логически продолжить мысль автора, становятся его “друзьями”. Оппозиция “враг — друг” в византийском политическом сознании X—XI вв. была лишена эмоциональной окраски и означала переход варварского народа от прямого противостояния империи к союзническим или данническим отношениям. Так, подробные наставления о порядке приема в императорском дворце “друзей-болгар” даны в известном церемониале Константина Багрянородного78. Христианская история Болгарии начинается в “Летописи” с сыновей мифического царя Изота — Бориса и Симеона. Характеристика первого из них не только содержит исторически достоверные сведения о крещении Болгарии, но и становится моделью для изображения других болгарских государей — Симеона, Петра, Василия и безымянного “сына благочестивой Феодоры”, за которым, вероятно, следует видеть восходящий к “Откровению св. Мефодия” образ “царя Михаила”79. Представления о Золотом веке Симеона перекликаются с византийскими легендами об основании Константинополя (Преслав якобы строился, как и Царьград, в течение двадцати восьми лет), но переданы через “сниженную симво118 лику”, характерную для народных представлений о процветании: “Во время, когда Симеон царствовал, вот какую дань взимал он от всей земли своей под властью царства своего — лишь моток пряжи да ложку масла и яйцо в год, то и было данью ему с земли его, и ничего другого ему не было. И было изобилие многое во время оно при царе том Симеоне”. Золотой век в “Летописи” не только продолжается, но и испытывает наивысший подъем при Петре, в царстве которого болгары и греки впервые объединяются вместе: “И по смерти его вновь принял царство Болгарское сын его царь Петр, и был он царем болгар, а еще и греков. И царствовал он в земле болгарской двенадцать лет, ни греха не зная, ни женщины, и было благословенно царствование его. Ибо тогда, в дни и лета святого Петра, царя болгарского, было изобилие всего, сиречь пшеницы и масла, меда, молока и вина, и ломились закрома от всех даров Божьих. И не было оскудения ни в чем, но были изволением Божьим сытость и изобилие всяческое”80. С правлением Петра связывается и начало поисков Креста Господня якобы родившимся в это время Константином Великим, и пророчество о грядущем основании Константинополя — Нового Иерусалима. Таким образом, стержнем общей истории болгар и греков в апокрифе эпохи византийского владычества продолжает оставаться тема Крестного древа, усвоенная болгарской культурой в Х в. и развитая в творчестве пресвитера Иеремии. На правлении Петра летопись завершает цикл болгарской истории, начатый переселением болгар “с запада от вышних стран Рима”: “И пока шел царь Константин на Крайнево место, до того [как дойти ему], пришли по морю некие насильники — исполины, и погубили землю болгарскую, а Петр, царь болгарский, муж праведный, оставил царство и бежал на Запад в Рим и там окончил житие свое”81. Начавшееся еще в повествовании о болгарских царях переплетение исторического и апокрифического времени продолжается в третьей части “Летописи”, где реминисценции реальных событий соседствуют с интерполяциями архе119 типических фигур болгарского культурного сознания в современные составителям или вынесенные вне исторического времени сюжеты. Новый цикл болгарской истории вновь начинается царем Константином: во время обретения им Креста цари Селевкия и Симеклит — апокрифические персонажи, известные по “Откровению св. Мефодия Патарского” и по “Повести о Крестном древе” Иеремии, выйдя из горы Витоши, восстанавливают болгарские города и воздвигают новый престол в Средце, а Константин заново заселяет болгарскую землю “от земель западных”. Возрождение Болгарского царства едва не заканчивается гибелью всего Константинова наследия — земель Болгарской, Иерусалимской (т. е. Греческой, по столице в Новом Иерусалиме — Константинополе. — Д. П.) и Римской при злом царе Симеоне Премудром, но его положительный антипод — “иного чресла царь именем Василий”, в дни которого “много блага было у людей”, вновь объединяет Болгарское и Греческое царства82. Как мы видим, роль Василия II в интерпретации болгарского книжника почти не отличается от собственной декларации византийского императора в грамоте 1020 г. Все сложности, связанные с переплетением традиций и “мозаичностью” отдельных частей памятника, не заслоняют его главной особенности, справедливо отмеченной С. А. Ивановым83: за текстом стоит не столько этническое самосознание древнеболгарской народности, сколько ойкуменический культурный субстрат — основа сформировавшейся в христианский период истории Первого Болгарского царства модели средневековой болгарской культуры. Как мы видели, в византийскую эпоху этот субстрат закреплялся усилиями имперских властей и охридского духовенства, культурная политика которых строилась с учетом представлений болгарских подданных и паствы. Те неизвестные монастыри в окрестностях Средца, где создавались апокрифические произведения, а также Рильский монастырь и обители, основанные последователями св. Иоанна в XI—XII вв. в Северной Македонии, находились под юрисдикцией Охридской архиепископии. Василий Болгаробойца, по словам “Апокрифической летописи”, “не имел ни греха, ни жены”, повторяя архетипы крестителя болгар Бориса и святого царя Петра, и “благословенно было царствование его”, а вождь антивизантийского восстания 1040 г. 120 Петр Делян (“царь именем Гаган, а прозвищем Оделян”) боролся согласно “Летописи” не с ромеями, а с “иноплеменниками”. Мы вполне разделяем и объяснение этого факта С. А. Ивановым — византийское завоевание Болгарии при Василии II осуществило “тот самый принцип ойкуменизма, за который веком раньше боролся болгарин Симеон”, и “Апокрифическая летопись”, повторяя основные акценты болгарской культурной модели, сформировавшейся в рамках Золотого века, одобряла “полученный результат — единую православную империю”84. Лишь последнее замечание требует некоторой коррекции — для автора “Летописи”, на наш взгляд, важна была не “единая империя”, а объединение под одной короной Болгарского и Греческого царств, разграниченных при Петре. Параллели с исторической частью “Летописи” обнаруживает и текст другого апокрифического сочинения — “Сказания пророка Исаии”. В целом следуя тому же порядку персонажей легендарной болгарской истории и излагая ее в форме пророчества, рассказ начинается правлением “тридцать седьмого царя”, общего мучителя греков и болгар Гордия-Чигочина. Славянская и болгарская этимологии его имени восходят к языческой Болгарии (“гордыня” болгар — один из характерных элементов их описания средневековыми авторами, а “чигот” — древнеболгарское название конного воина). Ряд правителей продолжают известные по “Летописи” Гаген “по прозвищу Одолян” и Симеон Премудрый. Однако для “Сказания” повествование об этих царях, как и их порядковые номера, видимо, ретроспективно отсчитанные назад от сорока, является лишь прелюдией к центральному сюжету — рассказу о царствовании последнего, сорокового царя Михаила. Его порядковый номер — 40 — в кириллическом и греческом написаниях совпадает с первой буквой имени. Посланный Богом Михаил, образ которого явно восходит к легендарным представлениям о Борисе-Михаиле85, вновь возвращает болгарскую (и всемирную) историю к ее началу, возлагая себе на голову венец Константина. Михаил восстановит погубленные его предшественником царства — Болгарское, Греческое (“Новый Иерусалим”) и Римское, возвратит венец к Константинову кресту и предаст Господу дух накануне пришествия Антихриста86. 121 Тема “последнего царя” Михаила объединяет “Сказание Исаиево” с апокрифическими реминисценциями на книгу пророка Даниила, привлекавшую внимание еще болгарских книжников Х в. историей смены четырех царств и передачи Господу венца последним из царей. В другом памятнике этого цикла — “Видении Даниилове” — перевод греческого апокрифического сочинения сочетается с материалом местных преданий, бытовавших во второй половине XI в. в Средецкой области. Неизвестный книжник обращает византийские пророчества к болгарской истории, изменяя имена и топонимы первоначального текста и дополняя их болгарскими реалиями. Обширное повествование о царе, который выйдет из Солнечного града, установит мир и воцарится в “Седмоверхом” Константинополе, связывается через упоминаемые топонимы с Западной Болгарией. Жестокие войны вокруг Средца в этом памятнике также завершаются приходом Михаила и передачей Богу царского венца накануне пришествия Антихриста87. Меньшее по объему “Толкование Даниилово”, которое во второй половине XI в. было также дополнено топонимами, привязывавшими события к западу Болгарии, излагает легенду о последнем царе в иной версии. И здесь воспроизводятся многие характерные элементы болгарского культурного самосознания. Последний безымянный царь, который будет править сто девяносто лет, по отцу произойдет от болгарского, а по матери — от греческого рода. Антропоморфные манифестации византийско-болгарской общности, как мы уже писали, появились еще в Х в., а в XI столетии стали явными и внешнему наблюдателю. “Вступили в брак дочери болгар с сынами греков и дочери греков с сынами болгар, и смешал он [Василий II] одних с другими и тем уничтожил старую вражду, которая была между ними”, — писал сирийский христианский хронист Яхья Антиохийский88. Сын последнего “самодержца болгар” Ивана Владислава, Алусиан, в первой половине XI в. назвал своих детей именами непримиримых врагов — Самуила и Василия89. В “Толковании” практически дословно цитируется известный манифест Симеона о том, что болгары “привыкли брать чужое и не отдавать его”: “Несть же дано царство болгаром, но по насилию преяше”90. В этом контексте завершение болгарской и мировой истории возвращением полученно122 го насилием царского венца Христу выглядит как искупление греха и эсхатологическая легализация Болгарского царства. Вместе с тем в памятниках первого апокрифического цикла отдельные первоначальные акценты болгарской культурной модели смещаются, отражая то положение, в котором Болгарию застало византийское завоевание. Бесспорным центром Болгарской земли предстает Средец. “Сардикия Великая яже об ону страну Рима” упоминается в созданной в это время интерполированной редакции “Откровения св. Мефодия Патарского”91. По “Апокрифической летописи” Средец был воздвигнут мифическим царем Селевкией-Симеклитом одновременно с созданием Царьграда Константином. Характерное имя города даже не обыгрывается и не комментируется в текстах, будучи воспринимаемо как адекватное его реальной роли центра болгарских земель. В Средце, по общему утверждению “Видения Даниилова” и “Сказания Исаии”, находится двуустый колодец, который в фольклоре обычно ассоциируется с живой и мертвой водой, т. е. с сообщением между земным и потусторонним мирами92. В горе Витоше близ Средца “Летопись” и “Сказание Исаии” помещают скрытый до поры от людских глаз болгарский престол и место пребывания “святых отцов от земли болгарской”, т. е. св. Иоанна Рильского и трех его последователей. Напомним, что в реальности перенесение в Средец из Рильского монастыря мощей Иоанна Рильского и существование в городе храма на мощах почитаемого болгарами святого еще более подчеркивали главенствующую роль города в духовной жизни болгарских земель. Утверждение нового центра означало важную трансформацию всей культурной модели, центральное место в которой ранее занимало соотношение “Преслав — Константинополь”. Едва намеченная в “Летописи” оппозиция “Средец — Царьград” не находит развития в других памятниках, хотя болгарский город нередко является точкой отсчета пространственных координат наряду с Римом и Константинополем. В то же время апокрифы фиксируют новый для болгарской культурной модели объект системы мировых координат — Фессалоники. Если в “Летописи” и “Видении Исаии” Солунь присутствует лишь как один из городов, где разыгрываются описываемые события, то оба “Данииловских” текста уделяют второму “мировластному городу” империи пристальное внима123 ние. Особенно видное место занимает город св. Димитрия в “Видении Данииловом”, где с его взятием Михаилом связывается восстановление Болгарского царства: “Михаил возьмет царство... и Бог пребудет с ним вовеки, и войдет он в Солунь с Запада (напомним, что с Западом в болгарских памятниках X—XI вв. устойчиво ассоциируется Болгария), и будет держать царство свое со всей силой, и низвергнет врагов к ногам своим. И будет царский скипетр в Солуни”93. “Толкование Даниилово” выражает ту же идею более кратко: “И вселится каган [Михаил] в Солунь”94. Легенда о “последнем царе”, как мы отмечали выше, восходила к одному из популярнейших в византийско-славянском мире пророчеств — “Откровению св. Мефодия Патарского”, переведенному в Болгарии еще в Х в. В его интерполированной версии, вошедшей в описываемый апокрифический цикл, имеются характерные вставки, связывающие изложение с событиями в Западной Болгарии в середине XI в. Здесь Средец и Солунь также отчетливо связываются в качестве двух противостоящих центров — олицетворений Запада и Востока, Болгарии и Византии и резиденций двух “царей” — предшественников Михаила: «И пойдет один от Средца, а другой от Солуни, и встретятся они на Ветери, неся золото. Один скажет другому: “Брат, сколько до Солуни идти?” Тот же ему скажет: “А как отсюда к Средцу идти?” И начнут золото сыпать на землю, говоря: “О горе нам, братья, земля осталась пуста”»95. Болгарские историко-эсхатологические сочинения второй половины XI в. и произведения деятелей византийской светской и церковной администрации в Болгарии обнаруживают немало общих черт. И те, и другие продолжают культурные традиции Первого Болгарского царства в духе своего времени. В то же время каждая из них по-своему интерпретирует образы культуры болгарского раннехристианского Средневековья. Комплекс апокрифических пророчеств, созданных в монастырях Средца и его окрестностей в середине — второй половине XI в., с одной стороны, сохранил основные соотношения и элементы сформировавшейся в эту эпоху модели средневековой болгарской культуры, а с другой — трансформировал их в новых условиях, усиливая ойкуменическое 124 содержание болгарского культурного сознания и подпитывая его новыми представлениями. Среди последних заслуживают особого внимания полицентричность легендарной истории Болгарии, перенесение ее духовного центра из Преслава в Средец и появление наряду с Царьградом второго центра притяжения в “Греческой земле” — противопоставленной Средцу Солуни. Важнейшим результатом культурного развития этого времени стала кристаллизация идеи о богоизбранности общего царства болгар и греков, последний государь которого передаст царский венец Христу, возложив его на Крест Господень. Напомним, что последний с самых первых шагов христианской культуры в Болгарии ассоциировался здесь с основанием царства. Формирование второго цикла болгарских апокрифических пророчеств приходится на время кардинальных политических изменений на Балканах в конце XII — начале XIII в., характеризовавшихся ослаблением императорской власти и дезинтеграцией балканских владений Византии, обособлением Сербии и началом восстания болгар. Параллельно назрел острейший конфликт с Западом, который начался захватом сицилийскими норманнами Фессалоник в августе 1185 г. и завершился взятием Константинополя крестоносцами в апреле 1204 г. В сумме эти события составили системный кризис, приведший к фактической гибели Византии как мировой империи. Уже падение Солуни, занимавшей особое место в апокрифическом творчестве болгар, породило новую волну эсхатологических ожиданий, связанных с “оставлением” одного из богоспасаемых городов империи его небесным покровителем — св. Димитрием. Рассмотрение некоторых аспектов содержания этих сочинений выходит за хронологические рамки данной главы, ограниченные серединой 80-х гг. XII в., и поэтому будет продолжено в контексте изучения формирования государственной идеологии Второго Болгарского царства. В оправдание такого подхода может быть приведен составной характер упомянутых текстов, отражающий длительную и поэтапную историю их создания. К сожалению, ограниченность текстового материала не дает возможности более определенно выделить в этих памятниках отдельные “пласты”, но, как нам представляется, некоторые общие тенденции вполне недвусмысленно связываются с конкретными изменениями конца 125 XII в. и могут быть представлены как результаты их рефлексии в болгарском культурном сознании. Во второй цикл “болгарских пророчеств” (вновь сошлемся на компетентное мнение А. Милтеновой96) вошли две новые интерпретации пророческих “видений” — “От святых книг видение Даниилово” и “Видение Исаии о последних временах”, прямо продолжающие предшествующую традицию, а также новые произведения — “Сказание о Сивилле” и “Разумник-Указ”. К этому комплексу примыкает “Солунская легенда” — апокрифическое сказание об обретении славянской письменности. Три памятника из указанной группы текстов (“Солунскую легенду”, “Слово о Сивилле” и “Разумник-Указ”) объединяет мотив, представляющий собой развитие одного из центральных элементов первого апокрифического цикла — легенды о передаче царства Христу последним царем болгар и греков Михаилом. “Они [болгары], как речет Господь, православную веру Христову Богу предадут”, — завершает свое повествование “Солунская легенда”. Болгары “веру правую Богу предадут прежде всего мира”, — утверждает “Слово о Сивилле”. “Греки предадут Богу царство, а болгары — христианство”, — записано в “Разумнике-Указе”97. Возможно, все три упоминания восходят к общему источнику, который ряд авторов видит в еще одной несохранившейся редакции “Откровения св. Мефодия Патарского”. Однако налицо и иное смещение акцентов — в новой редакции апокрифических текстов болгары являются уже не носителями имперского достоинства наряду с греками, а наследниками “правой веры” или “христианства”. Тем не менее сходство текстов не ограничивается указанным сюжетом. Обращает на себя внимание возвращение в круг интересов болгарских книжников славянской тематики. “Солунская легенда”, видимо, являющаяся самым древним памятником второго апокрифического цикла, иногда даже включается учеными в круг источников о деятельности свв. Кирилла и Мефодия. Легенда действительно возвращается к кирилломефодиевской традиции, контаминируя с ней некий древний апокриф сирийского происхождения98 и дополняя ее характерными для болгарской культурной модели деталями. Легенда озаглавлена “Слово Кирилла Философа”, в некоторых 126 списках с продолжением “како увери болгаре” или “словинию, рекше болгаре”. Последнее заглавие находит отклик в повествовании, идущем от имени Кирилла, рожденного в Каппадокии, учившегося в Дамаске и в Александрии получившего знамение: “И был глас ко мне из алтаря, глаголя: Кирилле, Кирилле, иди в землю и в языки славянские, что зовутся болгарами...” В Солуни Кирилл слышит болгарскую речь и, устрашась ее, отказывается от миссии, но получает второе знамение — голубь доставляет ему связку палочек, которые врастают в его тело, а сам Кирилл забывает греческий язык и начинает говорить по-болгарски (последний мотив зафиксирован и в известном в средневековой Болгарии патериковом рассказе о больном отроке)99. Рассказы о чуде привлекают внимание “великого князя Десимира Моравского и Радивоя, князя Преславского”, и “все князья болгарские” начинают осаждать Солунь. После трехлетней осады солуняне выдают Кирилла болгарам по их требованию, и миссионер за краткое время обучает их грамоте “в граде Равне на реке Брегальнице” — в отмеченном как официальной, так и апокрифической болгарской традицией месте обретения болгарами христианства. Кирилл Философ считается в “Слове о Сивилле” сыном императора Льва (здесь происходит двойная контаминация — св. Кирилла с его каппадокийским тезкой, а его отца Льва — с соименным византийским императором). “Славянская тема” в кирилло-мефодиевском контексте не получила дальнейшего развития в остальных памятниках апокрифического цикла. В “Разумнике-Указе”, где “болгарская книга” упоминается среди “правоверных”, имя св. Кирилла присутствует лишь в одном позднем списке XVI— XVII вв., представляющем свободный пересказ текста100. Заслуживает также внимания характеристика болгар, содержащаяся в ранней редакции “Слова о Сивилле”. Болгарский книжник при переводе и переработке популярного византийского сочинения интерпретировал в этническом смысле слово “род”, употребленное в греческом (как и в более раннем латинском) тексте в значении “поколение”, и связал каждый род с конкретным народом: “Первый род — славяне, называемые болгарами, добрые, гостелюбивые и смиренные, истинно беззлобные, страннолюбивые, и христианство они, веру правую, Богу предадут прежде всего мира”. В более поздней 127 редакции эта характеристика усекается до минимума: “Род болгарский — добрый, гостелюбивый, они правую веру и христианство Богу предадут”101. Видимо, особая актуальность славянской (и в связи с этим кирилло-мефодиевской тематики) была характерна лишь для некоего достаточно краткого периода начального бытования интересующих нас произведений. Идея христианской общности, полноправным членом которой являлись болгары, выражена в памятниках подробными перечнями православных языков, письмен, народов и царств102. Первым примером этой традиции и ее возможным источником, по-видимому, следует считать восходящее к гимнографическому наследию Великой Моравии “Слово о похвале Богородице св. Кирилла Философа”, сохранившееся в русских и сербских списках XV—XVII вв. Как предполагает А. А. Турилов, имеющийся здесь список тридцати двух народов, славящих Богородицу, сформировался в ходе “странствий” памятника из великоморавской книжности в Первое Болгарское царство, оттуда — на Русь, а затем обратно в Болгарию. В разных вариантах список включает “римлян”, греков, мораван, русов, болгар и т. д. Два последних народа характеризуются как “новое твое стадо”, что может говорить о раннем возвращении текста в Болгарию103. В “Сказании о Сивилле” болгары открывают перечень из девяти народов: болгары, иверы (в другой редакции — греки), греки (в другой редакции — фряги), далее перечисляются евреи, аркады, сириане, сарацины и татары. В “Разумнике-Указе” такие иерархии выстроены по нескольким признакам. В число трех православных царств, соответствующих Троице, включены Греческое, Болгарское и Иверское (во второй редакции последнее заменено на Аламанское): “В Греческом [царстве] — Отец, в Иверском (во второй редакции — в Аламанском. — Д. П.) — Сын, в Болгарском царстве — Святой Дух”104. Видимо, по мнению составителей, Болгария как царство Св. Духа не нуждалась ни в одном из перечисляемых ниже двенадцати апостольских престолов, среди которых упоминаются, например, сербский (св. Иоанна) и фряжский (св. Петра). Перечень двенадцати престолов был, видимо, подвержен наибольшим изменениям в рукописной традиции “Разумника”, на протяжении веков остававшейся непрерывной и от128 крытой, но упомянутые престолы составляют его неизменную часть, являясь одной из постоянных координат мирового статуса болгар. Среди двенадцати “правоверных книг”, перечень которых также изменчив и открыт, болгарская книга следует за греческой и предшествует фряжской или аламанской. Список “правоверных” языков открывают сирийцы (или иверы) и греки, за ними следуют русы (позднее появляются волохи). Открытость рукописной традиции подобных списков, продолжавшейся до Нового времени, затрудняет их датировку, но ее истоки несомненно лежат в конце XII в., когда “потаенная” болгарская книжность перешла к обоснованию скорого восстановления Болгарского царства. 129 Глава IV НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ В ЭПОХУ АСЕНЕЙ (конец XII — XIII век) М ощный кризис, поразивший Византию в конце XII в. и достигший своей кульминации в 1204 г., имел важнейшие последствия не только для Болгарии, но и для всей византийско-славянской общности. В начале 80-х гг. XII в. на ранее подвластных Византии землях образовалось Сербское государство Стефана Немани, а несколькими годами позднее — Болгарское царство братьев Ивана и Петра Асеней. Падение Константинополя в результате IV крестового похода в апреле 1204 г. коренным образом изменило политическую карту Балкан. Византия окончательно рухнула, и на ее развалинах вспыхнула борьба балканских государств за имперское наследие, “Второй Рим” — Царьград был захвачен “латинянами”, а “столп православия” — константинопольский патриарх Иоанн Х Каматир бежал в Никею. Балканский мир менялся на глазах, обрушивались казавшиеся вечными ориентиры и возникали новые, на место противостояния “Второго Рима” окружающим его “варварам” приходили изменчивые взаимоотношения многочисленных балканских стран между собой. Новая культурная идентичность средневековой Болгарии, сохраняя преемственность от духовного наследия Первого Болгарского царства, не могла не учесть произошедшие изменения. 130 § 1. Становление династических акцентов культурной модели в “обновленном” Болгарском царстве первых Асеней Крупнейшим по своим последствиям для балканских славян событием стало взятие в августе 1185 г. норманнами сицилийского короля Вильгельма II (1166—1189) Фессалоник. Город, который еще со времен славянской и болгарской колонизации воспринимался новыми жителями Балкан как второе после Константинополя средоточие богатств, власти и дарованной Господом благодати, был прочно вписан в культурную модель средневековой Болгарии. Солунь находилась под особым покровительством издревле чтимого греками и балканскими славянами св. Димитрия. Культ этого святого еще в Первом Болгарском царстве был тесно связан с почитанием св. Мефодия. По преданию, завершив перевод Библии в день памяти св. Димитрия — 26 октября, святой создал канон великомученику, сохранившийся в древнем славянском переводе1. Житие и мученичество св. Димитрия нашли отражение в произведениях св. Климента Охридского и Иоанна Экзарха. В русских списках “Чудес св. Димитрия” говорится о благотворном влиянии святого “на болгарский род суровый и язык”. Этот пассаж, напоминающий аналогичное место из “Сказания о железном кресте”, по предположению В. Тыпковой-Заимовой, восходит к раннему болгарскому переводу “Чудес”2. О причастности солунского великомученика к болгарской истории повествовала и известная в Болгарии византийская традиция “Чудес”. Согласно ей, в 1015 г. от руки святого пал “муж зверственный” — сын и наследник Самуила — Гавриил Радомир3. Восстание братьев Асеней против византийской власти, начавшееся в 1186 г., дало новый импульс врастанию культа св. Димитрия в средневековую болгарскую культуру, на этот раз — в качестве одной из ее несущих конструкций. Перенесение Асенями в центр своих владений — неизвестное до этого Тырново4 — чудотворной иконы св. Димитрия, якобы покинувшей Фессалоники после норманнского погрома 1185 г., стало актом обоснования самой идеи болгарской самостоятельности. Как пишет Никита Хониат, вожди повстанцев распустили слух, что “Христов мученик Димитрий покинул 131 митрополию солунцев и тамошний храм и пришел к... [болгарам], чтобы стать их помощником и покровителем в делах”5. Хотя издревле почитаемый чудотворный образ св. Димитрия Солунского к тому времени уже давно находился в Константинополе6, в Болгарию, видимо, действительно попала одна из чтимых фессалоникийцами икон. В источниках о событиях 1185—1186 гг. не упоминается другая реликвия — мощи св. Димитрия, однако из более позднего (около 1361 г.) письма константинопольского патриарха Каллиста тырновскому духовенству следует, что от находящихся в Тырнове мощей солунского мученика впоследствии приготовлялось миро для считавшей себя канонически независимой от Константинополя после его падения Болгарской церкви7. Осенью 1186 г. в новопостроенной церкви, где находились икона и мощи св. Димитрия, болгарские вожди силой заставили трех византийских архиереев рукоположить во болгарского архиепископа священника Василия, который, в свою очередь, короновал царем Болгарии одного из братьев Асеней — Петра8. После этого, как следует из византийского источника, икону перенесли в резиденцию новопровозглашенного царя (“мятежника Славопетра”), где она и была обнаружена во время успешного похода Исаака II Ангела против болгар летом 1186 г. и возвращена в Фессалоники9. Стремление возвратить образ св. Димитрия стало одним из поводов к последующим войнам болгарских царей за обладание городом. Изображение покровителя Фессалоник было помещено на печати брата Петра — Ивана I Асеня, фактически управлявшего страной в 1186—1196 гг.10 Так еще в правление первых Асеней была сделана попытка превращения византийско-славянского культа св. Димитрия в официальное почитание святого как защитника независимости болгар и самостоятельности Болгарской церкви. В ходе длительной войны с Византией, последовавшей за объявлением болгарской независимости, произошли и многие другие события, оказавшие влияние на формирование новых болгарских культурных представлений. Зимой 1186/87 г. Исаак II Ангел вернул во все еще принадлежавший ему Средец мощи св. Иоанна Рильского, ранее захваченные венграми в качестве военной добычи. Реликвия возвратилась в город в ореоле новых чудес — во время ее пребывания в Эстергоме 132 венгерский архиепископ якобы имел неосторожность усомниться в святости болгарского подвижника, не найдя упоминаний о нем в древних текстах, и тут же был наказан немотой (по одному из житий, слепотой). Убедившись в чудотворной силе мощей, архиепископ предпочел все же возвратить опасную реликвию в Средец11. За характерным агиографическим топосом здесь скрывается конкретная политическая реальность, и возвращение мощей популярного болгарского святого в Средец стоит рассматривать в контексте мер, принимавшихся византийским императором для замирения болгар. Как известно, среди них было распространено поверие, что св. Иоанн Рильский и его последователи — “святая четворица” — охраняют болгарский престол, скрытый в горе Витоше близ Средца. После того как около 1195 г. город отвоевал Иван I Асень, мощи св. Иоанна Рильского, как того и требовала легенда, были с большими почестями перенесены в “стольный град” Тырново и положены в новопостроенном храме святого. Наиболее древний текст о перенесении мощей рильского отшельника в новую болгарскую столицу восходит к концу XII в. и находится в кратком житии св. Иоанна Рильского, помещенном в сербском сборнике XIII в. — т. н. Норовском прологе: “...поднялся благоверный царь Асень, пришел в Средец, взял мощи святого, перенес их в Загорье и положил в граде Трапезице, воздвигнув церковь в его имя...”12 По-видимому, Норовский пролог, в составе которого находится и житие св. Прохора Пшинского13, зафиксировал начало превращения древней болгарской традиции почитания “святого отца” как одного из четверки македонских анахоретов в государственный культ св. Иоанна Рильского — покровителя правящей династии и ее столицы. Перемещение мощей св. Иоанна Рильского в Тырново, ставшее возможным после победы Ивана I Асеня над императором Исааком II Ангелом в 1190 г., возрождало еще одну древнюю болгарскую традицию. Среди прочей добычи болгары захватили большой патриарший крест, который, по словам Георгия Акрополита, “был сделан из золота и имел в середине частицу Святого Древа, что было использовано при распятии Господа нашего Иисуса Христа, и частицы честных мощей святых, млеко Св. Девы и часть ее пояса”14. Другой византий133 ский автор XIII в., Феодор, добавлял: “Ходили слухи, что [этот крест] был сделан первым христианским императором, равноапостольным Константином, и что он, как и все благочестивые императоры по нем, пользовался им как знамением против своих врагов”15. “Превращение” трофейной патриаршей реликвии в Константинов крест было обусловлено несомненным влиянием болгарской культурной модели, частью которой и во времена Симеона и Петра, и в эпоху византийского владычества была Константинова легенда. Константинов крест изображался на монетах государей из династии Асеней во второй половине XIII в., пока не был возвращен в Константинополь в ходе очередного болгаро-византийского конфликта в конце 1270-х гг.16 До этого крест хранился в тырновской сокровищнице в церкви Вознесения и ежегодно выносился для участия в крестном ходе на Богоявление. Этот праздник был также связан с культом св. Иоанна Рильского через особое место, которое занимал в агиографии и гимнографии болгарского святого св. Иоанн Креститель17. Обретение мощей св. Иоанна Рильского, вкупе с почитанием Константинова креста, уподобляло болгарского государя легендарному первому христианскому императору, как бы повторяя главный подвиг Константина — обретение Креста Господня. Перенос мощей из Средца в Тырново в этом контексте мог означать, подобно перенесению имперской столицы из Рима в Константинополь, не только возвращение исконного болгарского престола, но и сакральное “развенчание” бывшего византийского центра в пользу новой болгарской столицы. Все эти действия имели огромные идейные последствия для основанной Иваном I Асенем династии, но сам царь вряд ли успел их по достоинству оценить, пав от руки убийцы в следующем, 1196 г. Текст его посмертного поминания, сохранившийся в Синодике Болгарской церкви, напоминает летописную запись о деяниях покойного государя: “Иоанну Асеню царю Белгуну, освободившему от рабства греческого болгарский род — вечная память”18. Еще одним выражением преемственности болгарской культурной традиции, также связанным с приданием нового значения древнему культу, было провозглашение Феодора Асеня царем под именем Петра. Этим средний из трех братьев Асеней воспроизводил один из культурных стереотипов 134 болгарской “политической эсхатологии” — возрождение легендарного “Петрова царства”. Напомним, что двое менее удачливых претендентов на восстановление Болгарского государства — Петр Делян в 1040 г. и Константин Бодин в 1073 г. — также начинали свои предприятия с принятия имени Петра19. О первоначально значительной роли культа св. Петра — царя болгарского в оформлении ранней государственной идеологии Второго Болгарского царства говорит и ряд других фактов. Вскоре по возобновлении Болгарского царства братья Асени предприняли попытку отбить у византийцев древнюю столицу св. царя Петра — Преслав. Пусть неудачная, эта первая попытка апеллировала к преемственности болгарской государственной традиции и также могла быть связана с упомянутым культом20. Когда Феодор-Петр отошел на второй план в результате не вполне ясного конфликта между братьями, он получил в удел именно Преслав и окрестные территории, которые продолжали называться “Петровой землей” и в середине XIII в. Здесь культ святого покровителя болгарского царя, по-видимому, и был окончательно кодифицирован. На это, в частности, указывает текст сохранившейся службы XIII в., где святой величается “утверждением церквам и граду твоему Преславу”21. Проявившееся в описанных выше событиях соперничество между официальными культами св. Иоанна Рильского и св. царя Петра, которые были установлены двумя первыми государями освобожденной от византийской власти Болгарии — Иваном I Асенем и Петром, могло быть связано с сосуществованием в восстановленном Болгарском царстве двух центров: резиденции Ивана — Тырнова и столицы Петра — Преслава. Следы этого противостояния сохранились и в византийских источниках, которые разделяют двух братьев, представляя Петра более лояльным по отношению к Византии, в отличие от “дерзкого и необузданного” Ивана. Не исключено, что Константинополь видел в третьем по счету после покорения Болгарии Петре более легитимную персону, нежели его брат, в связи не только с современными событиями, но и с репутацией исторического прототипа болгарского предводителя. Известная со времен “святого царя” Петра антитеза “Петр — Иван”, связанная с династической борьбой X в., в какой-то мере вновь актуализировалась в политических собы135 тиях конца 80-х гг. XII столетия. Смутно угадывающаяся в ранних преданиях о св. Иоанне Рильском оппозиционность этого культа царю Петру, впоследствии снятая в первых редакциях проложных житий святого, просматривается в некоторых текстах эпохи Асеней22. Третий из братьев Асеней, Калоян (1197—1207), вступил на политическую арену в качестве тырновского соправителя своего брата Петра (1196—1197), видимо так и остававшегося отведенный ему год правления в Преславе23. Использовав достаточно противоречивый идеологический опыт, накопленный его братьями, Калоян внес важный вклад в оформление цельной династической идеи обновленного Болгарского государства. Уже в начале своего правления, обратившись за царской инвеститурой в Рим, болгарский государь указал в письме к папе Иннокентию III: “В качестве любимого сына мы хотим от матери нашей, римской Церкви, царскую корону и достоинство, какое имели наши древние цари. Как мы находим записанным в наших книгах, одним их них был Петр, другим Самуил, и другие, что царствовали перед ними”24. Еще более определенно высказался тырновский архиепископ Василий: “И сам он [Калоян], и все его царство — наследники, происходящие от римской крови...”25 Хотя, казалось бы, “римская легенда” последовательно вела Калояна к развитию идеи возобновленного “Петрова царства” и к укреплению авторитета Преслава, третий из братьев Асеней сделал отчетливый выбор в пользу Тырнова. Окончательное решение вопроса о месте и статусе болгарской столицы было, вероятно, связано с утверждением царского достоинства Калояна Римом. После падения Константинополя в апреле 1204 г. болгарский царь в соответствии с идеей византийско-болгарского ойкуменизма оказывался в положении единственного легитимного преемника византийского василевса. В противовес константинопольскому “латинскому” императору Бодуэну Фландрскому, который был избран на престол советом баронов — участников IV крестового похода, Калоян, как свидетельствует латинский перевод подписанного им вскоре после падения Царьграда и посланного в Рим хрисовула, провозгласил свою власть богопоставленной, а обращение за ее утверждением к папе объяснил унаследованной 136 от предков традицией. В этой же грамоте Калоян впервые упомянул Тырново как столичный город (“град царства моего Тырново”), закрепляя за ним царское и патриаршеское достоинство26. Видимо, бегство вселенского патриарха из Константинополя в Никею и неслыханное осквернение патриаршего престола в храме св. Софии французскими крестоносцами позволяли, с болгарской точки зрения, включить Тырново в число мировых христианских центров, не нарушая пентархии — принятого на Востоке канонического принципа сосуществования пяти патриарших кафедр27. Отказав в признании статуса вселенского патриарха ставленнику латинян Томмазо Морозини, болгарские иерархи воспользовались заключенной с Римом унией для того, чтобы представить свою столицу законной наследницей павшего Константинополя. Победоносная война Калояна с крестоносцами в 1205 г., завершившаяся пленением латинского императора Бодуэна и его смертью в Тырнове, еще более укрепила положение болгарского монарха. Первенство на Балканах, добытое традиционным для болгар способом, “по праву меча”, нуждалось в адекватном обосновании, и Калоян перенес в Тырново мощи сразу нескольких византийских святых из отвоеванных у крестоносцев греческих земель. Среди них были как официально почитавшиеся Константинопольской патриархией св. Иоанн Поливотский, византийский епископ-иконофил IX в., и принявшая иночество супруга императора Льва VI Философа св. Феофано, так и местночтимые среди этнически смешанного населения болгаро-греческого пограничья свв. Иларион, епископ Мегленский, Михаил Воин и Филофея28. С перенесением их мощей стала приобретать цельный вид сакральная география болгарской столицы. Не были забыты и уже утвердившиеся тырновские культы — мощи св. Иоанна Рильского, первоначально хранившиеся в небольшой церкви на холме Трапезица, были перенесены в новопостроенный патриарший храм Вознесения на вершине Царевца — кафедральный собор Тырновской патриархии. Там же были положены и мощи св. Гавриила Лесновского — одного из западноболгарских отшельников — сподвижников Иоанна Рильского, а также мощи св. Михаила Воина — древнего воина-змееборца из фракийского городка Потука, которого местная устная традиция смешала с популярным персонажем 137 апокрифической книжности и со средневековым болгарским воеводой. Мощи святых подвижниц упокоились в столичном женском монастыре Богородицы Темницкой, который стал центром перенесенного из Константинополя тырновского культа Богоматери. Св. Дева — Градозащитница возглавила сонм святых женщин, обеспечивавших городу особое покровительство29. Родовой усыпальницей Асеней, видимо, стал царский монастырь свв. Сорока мучеников, где впоследствии был погребен и сам Калоян30. Перенесение мощей сопровождалось созданием агиографических и гимнографических сочинений, к сожалению, не дошедших до нас в их первоначальных редакциях. Сохранившиеся тексты несут явные следы правки времени Ивана II Асеня, когда к упоминанию старшего брата Калояна — Ивана I Асеня добавлялся эпитет “старый”. Так, проложный рассказ о перенесении мощей св. Илариона Мегленского, созданный не ранее середины XIII в., упоминает время, “пока царствовал болгарский царь Калоян, брат старого царя Асеня”31. Родственные связи Калояна и Ивана I Асеня упоминает и “Похвала св. Иоанну Поливотскому”: “И владел он [Калоян] не только той землей, над которой некогда властвовал родной брат его, старый Асень, но и намного более обширной”32. Сравнение житийных текстов, посвященных перенесенным Калояном святым, позволяет выявить общий пласт идеологем, скорее всего, принадлежавших ранним редакциям агиографических памятников, созданным по горячим следам событий. Это — подчеркивание законности и богопоставленности царской власти Калояна на фоне сомнительных полномочий избранного латинскими баронами Бодуэна в “Похвале св. Иоанну Поливотскому”: “Спустя много лет при благочестивом царе Калояне возвысился болгарский род и вся земля греческая покорилась под его руку. Тогда и фряжский род завладел Царьградом и всей областью греческой, так что и царя поставили из своего рода. Когда болгарский царь Калоян узнал, что тот прибыл в Одрин, он быстро достиг Филиппова града и занял его с великим искусством. Потом он послал воинов опустошать окрестности Одрина, а большую часть войска скрыл в потайных местах. Поставленный же франками царь Балдуин, не подозревая о скрытой западне, немедля погнался за всадниками с теми воинами, что были у него под рукой”33. 138 Расставленные здесь акценты корреспондируют с аргументацией, которую приводит Калоян в одновременном событиям письме папе Иннокентию III, сохранившемся в латинском пересказе: “Он ответил [на просьбу папы прекратить войну с крестоносцами, вернуть им захваченные территории и освободить Бодуэна], что он владеет этими землями с большим правом, чем те — Константинополем. Ведь он возвратил земли, которые были утрачены его предками, а они захватили Константинополь, который им никогда не принадлежал. Кроме того, сам он получил царскую корону законно, от верховного первосвященника, в то время, как тот, что называл себя константинопольским василевсом, самовольно присвоил императорскую корону”34. На наш взгляд, именно при Калояне начинается величание Тырнова Царьградом, сопрягающееся с приведенной выше формулой в хрисовуле римскому папе от 1204 г. Проложный рассказ о перенесении мощей св. Илариона Мегленского упоминает “Царствующий престольный град, называемый Великим Тырновом”35, проложное житие св. Михаила Воина — “богоспасаемый Царьград Тырнов”36. Следует учитывать при этом, что большинство текстов, восходящих ко времени Калояна,— похвала св. Иоанну Поливотскому, жития Илариона Мегленского и Филофеи — сохранилось в обработке св. Евфимия Тырновского, которую как раз отличает замена прямых противопоставлений болгарского Царьграда Константинополю более мягкой формулой “славный град Тырнов”37. Непременным атрибутом Тырнова в текстах ранних житий святых болгарского столичного собора, как и в упомянутом хрисовуле, является патриаршеское достоинство. “Как только патриарх града Тырнова и всей Болгарской земли узнал о приближении святого, он вышел с епископами и всем клиром, с болярами и всем народом...” — описывает Проложный рассказ перенесение мощей св. Илариона Мегленского38. Трижды упоминается патриаршеский статус болгарской столицы в небольшом проложном тексте о св. Михаиле Воине: “Когда царствовал великий царь Калоян и взял Потуку, он перенес св. Михаила. Услышав об этом, патриарх Василий вышел со всем клиром... Царь Калоян и патриарх взяли святого... и положили его в великой патриаршей церкви св. Вознесения...”39 139 Насыщая тырновские храмы переносимыми из бывших византийских владений реликвиями, Калоян не забывал и о традициях, созданных его предшественниками. С культом св. Димитрия и, более конкретно, с желанием возвратить в Тырново его чудотворный образ, отбитый византийцами у Петра в 1187 г., могли быть связаны два похода на Фессалоники, предпринятые царем в 1205—1207 гг. Калоян дважды пытался овладеть городом, жители которого изгнали крестоносцев и самоотверженно защищали его, и во время второй осады Фессалоник погиб. По словам летописца чудес св. Димитрия и диакона его солунского храма Иоанна Ставракия, Калоян, придя под стены Солуни, воззвал к святому и дал обет в случае победы воздвигнуть ему великолепный монастырь в Тырнове. Св. Димитрий, возмущенный посягательством на его город, той же ночью явился к болгарскому царю и умертвил его40. Смерть болгарского государя от руки святого, ставшая популярным сюжетом греческой и славянской агиографии и иконографии, не помешала племяннику и преемнику Калояна царю Борилу (1207—1218) поместить образ св. Димитрия на своих печатях. На правление этого царя, без достаточных на то оснований объявленного историками узурпатором41, видимо, приходится оформление официального летописания династии Асеней. О летописной деятельности в правления трех братьев — предшественников Борила можно судить лишь приблизительно. Отдельные фрагменты рассказов о перенесении мощей святых в Тырново и других церковных текстов, как нам представляется, говорят о существовании отдельной от житиеписания историографической традиции в виде датированных записей о правлениях болгарских царей. Так, в расширенной редакции проложного жития св. Иоанна Рильского рассказ о перенесении мощей святого в Тырново завершает датированная 1195 г. пространная запись о строительстве и освящении Иваном I Асенем церкви св. Иоанна в болгарской столице42. В “Похвале св. Иоанну Поливотскому” имеется цитированный выше пространный текст о битве под Адрианополем, неточно датированный 1204 г. К правлению Борила относится еще одна обширная датированная запись — рассказ о соборе болгарского духовенства в 1211 г., включенный в Синодик Болгарской церкви43. Во всех трех случаях даты 140 располагаются в конце текста, что может указывать на сложившийся формуляр летописного сообщения. Цельным памятником правления Борила, положившим начало особой летописной традиции, является болгарская часть поминального списка в составе принятого на вышеупомянутом соборе 1211 г. Синодика Болгарской церкви. После перечисления “греческих царей”, открывающегося именем Константина Великого и содержащего подробный перечень императоров с Василия I (867—886) до Алексея IV Ангела (1203—1204), следует заголовок “Начало болгарским царям”. Сами поминания начинаются с вечной памяти “Борису, первому царю болгарскому, нареченному в святом крещении Михаилом, болгарский род к богоразумению святым крещением приведшему”, и продолжаются подробным перечнем царей от Симеона до Ивана Владислава, названных “древними”. Затем ряд болгарских государей прерывается, и следуют памяти “Кириллу Философу, Божественное Писание с греческого языка на болгарский переложившему, просветившему болгарский род новому второму апостолу...”, “Мефодию, брату его, архиепископу Моравии Паннонской, ибо и он много потрудился над славянскими книгами”, и свв. Седмочисленникам: “Клименту, ученику его, епископу Великие Моравы (вместо “Велики”. — Д. П.) и ученикам его Савве и Горазду и Науму, ибо и они много потрудились над славянскими книгами”44. Приводимые сведения о “древних царях”, видимо, восходят к сохранившемуся от эпохи Первого Болгарского царства аналогичному краткому поминальному тексту, который, возможно, имел в виду Калоян, когда ссылался на некие “наши книги” в письмах в Рим. Напротив, кирилло-мефодиевская часть своими “болгарскими” акцентами напоминает апокрифическую традицию времен византийского господства. Поминальные записи Асеней открываются цитированной выше памятью “Иоанну Асеню царю Белгуну”, затем следуют памяти “Феодору, нареченному Петром, брату его и царю” и “Калояну, царю, брату его, многие победы показавшему над фрягами и греками”. Следующее сообщение: “После них же принял царство сын их сестры, благочестивый царь Борил”— открывает пространный рассказ об антибогомильском соборе 1211 г. Его текст целиком основан на типичных для повествования о встрече еретиков с православ141 ным государем топосах: благочестивое рвение царя, созыв собора, упрямство богомилов, не желающих признаваться в хулах, и его преодоление с помощью хитроумной уловки Борила, осуждение и пр. Собственно летописным является вставной пассаж перед завершающим рассказ возглашением вечной памяти, отделенным от основного текста крестным знамением: “И по сем повелел благочестивый царь Борил перевести соборник с греческого на болгарский свой язык, и его повелением вписан был этот святой собор в [список] православных соборов, что читается в первую неделю святых постов, как установили святые отцы от начала Cоборной и Апостольской Церкви. А прежде его царства никто еще не созывал такого собора. И все это произошло по повелению благочестивого царя Борила в лето 6718, индикта 14, лунного года 11, года солнечного круга 15, месяца февраля в 11 день, в пятницу сыропустной недели”45. Краткие записи о первых трех Асенях и Бориле выглядят в контексте Синодика как семейная летопись, подчеркивающая преемственность новой династии. Интересно, что ее основание тремя братьями и сестрой — матерью Борила соответствует характерной для славянских государств эпической модели. Каждый из основателей отмечен главным деянием: Иван освободил “болгарский род от рабства греческого”; Феодор, приняв имя Петра, восстановил традицию царской власти; Калоян укрепил государство победами над традиционными врагами-греками и новыми противниками — фрягами; Борил, приняв Соборник, установил церковный суверенитет. Таким образом, летопись предстает как цельное выражение модели болгарской официальной культуры в эпоху первых Асеней. Идея династической преемственности выделяет ее из текста Синодика, что выразилось, на наш взгляд, в указании семейного прозвища Ивана I Асеня — Белгун или в игнорировании церковной унии с Римом, заключенной Калояном. В то же время тексты эпохи первых Асеней не позволяют говорить о полномасштабном складывании новой культурной идентичности средневекового Болгарского государства. Политическая нестабильность внутри страны и на Балканах в целом вкупе с всеобъемлющим духовным кризисом 142 восточноправославного мира после падения Константинополя не позволяли выстроить слаженную систему координат и разместить в ней обновленное Болгарское царство. Подчеркнуто династические акценты, наслаиваясь на элементы духовного наследия Первого Болгарского царства, делали культурную модель самодостаточной и изолированной от традиционного контекста. Вместо вдребезги разбитого крестоносцами византийского “зеркала” Болгария пыталась найти свое отражение в зыбком мираже далекого Рима, но его смутные очертания в болгарском культурном сознании не предоставляли тех возможностей, которые содержал симбиоз-противостояние с Константинополем. Ни царский титул, ни патриаршая кафедра, ни именование своей столицы Царьградом не избавили болгарское культурное сознание от чувства неполноценности, которое могло быть преодолено только испытанным веками способом — противостоянием с Византией. § 2. Идеология и культура Болгарского царства в правление Ивана II Асеня Обновленная культурная модель средневековой Болгарии приобрела окончательный вид в правление Ивана II Асеня (1218—1241), что выразилось прежде всего в складывании официальной династической идеологии Асеней и в оформлении комплекса тырновских культов святых с обслуживающими их текстами. Политика первых лет его царствования была пронизана идеями преемства от первых Асеней. Придя к власти с помощью наемных дружин русских бродников, сын Ивана I Асеня низложил и ослепил Борила, восстановив традиционный для древних болгарских царей порядок престолонаследия от отца к сыну. При этом было сохранено и характерное для первых Асеней соправительство братьев: второй сын “старого” Асеня — Александр получил сан севастократора, воспринимавшийся, по свидетельствам некоторых болгарских средневековых источников46, как степень царского достоинства. В первые годы правления Ивана II Асеня прямой апелляцией к памяти отца стало укрепление культа св. Иоанна Рильского и его окончательное превращение в общегосудар143 ственный. Вместо цитированной выше краткой записи эпохи Ивана I Асеня в новой редакции проложного жития святого не позднее 1230 г. появилась расширенная версия рассказа о перенесении мощей рильского отшельника в Тырново, насыщенная официальными эпитетами: “Когда прошли многие времена, понеже Бог пожелал поднять павшую скинию Болгарского царства, взметнулся новый побег — христолюбивый царь Иван Асень, что обновил болгарский род. И пришел царь Иван в Средец, где обрел св. Иоанна, великого пустынника, и возревновал древним царям, сиречь царю Константину и царю Петру. И поднял он тело всечестного и преподобного отца Иоанна, и перенес его в град Тырнов. И был он положен в созданном им монастыре в Трапезице, где лежит телом и до сих пор и непрестанно творит чудеса приходящим с верой к его раке”47. Очевидный акцент на соименность святого и царя подчеркивал роль св. Иоанна Рильского как небесного покровителя отца и сына Асеней, что в дальнейшем нашло отражение в списке имен членов болгарского царского дома. Просопографические данные, собранные И. Божиловым, позволяют установить, что имя Иван носили около трети лиц из мужского потомства болгарской линии Асеней и половина представителей этого рода, царствовавших в Болгарии48. В неясной международной обстановке на Балканах 20-х гг. Иван II Асень первоначально занял выжидательную позицию, позволившую накопить силы для нового рывка к гегемонии на полуострове. Почти полтора десятилетия Болгария, находясь “на заднем плане”, напряженно следила за борьбой трех остальных “империй” — двух греческих и новоявленной “Латинской”. Решающая победа, одержанная болгарами 9 марта 1230 г. при Клокотнице над войсками коронованного тремя годами ранее в Солуни эпирского “императора” Феодора Комнина, означала превращение царства Ивана II Асеня в первостепенную политическую силу Балкан49. В ознаменование этой победы царь обновил тырновскую церковь свв. Сорока мучеников и украсил ее торжественной надписью: “В лето 6738 третьего индикта я, Иван Асень, во Христе Боге верный царь и самодержец болгар, сын старого царя Асеня, воздвиг от основ и до верха украсил росписью эту церковь во имя святых Сорока мучеников, помощью которых я в двенад144 цатое лето моего царствования, когда расписывался этот храм, двинулся на войну в Романию и разбил греческое войско. Самого же царя, кира Феодора Комнина, я пленил со всеми его болярами и занял греческие земли от Одрина до Драча, а также земли арбанасские и сербские. Фряги владели только городами вокруг Царьграда, но и они повиновались деснице моего царства, ибо не было у них другого царя, кроме меня, и благодаря мне влачили они дни свои...”50 Хотя в тексте надписи не упоминается Калоян, покорение Солуни, видимо, было воспринято в Болгарии как акт отмщения за его гибель. Об этом говорит не только превращение в памятник этой победы церкви свв. Сорока мучеников, где был похоронен погибший под Фессалониками младший из братьев Асеней, но и новый импульс, который в это время получил культ св. Димитрия. После победы над Эпиром на печатях, золотых и медных монетах Ивана II Асеня появилось изображение святого, благословляющего болгарского царя или возлагающего на него корону51. Это не только означало подчинение Фессалоник власти Тырнова, но и могло быть апелляцией к акту коронации Петра в церкви св. Димитрия, утверждая изначальную легитимность всей династии Асеней. Также в XIII в. было создано близкое к апокрифической литературе “Слово о благовещении и рождении св. Димитрия Солунского”, которое называет отца святого — Феодора “по роду болгарином”52, отражая этнополитические аспекты культа, возможно, усиливавшиеся под влиянием официальной идеологии. При всей пышности тырновская надпись оставляет впечатление некоего вакуума, в котором оказалось Болгарское царство, лишенное традиционного соперника, а с ним — и привычных координат идентичности. Разгромив опасного и агрессивного врага, Иван Асень, пусть ненадолго, был вынужден вернуться к политике выжидания и лавирования между Латинской империей и крупнейшим из оставшихся греческих государств — Никеей. Окончательный разрыв с латинянами после их отказа избрать Ивана II Асеня императором сделал стержневой темой болгарской политической мысли обоснование незыблемости прав тырновских государей на власть над бывшим византийским Западом. Еще ранее, в некоторых официальных документах Ивана II Асеня, изданных в 1230— 145 1231 гг. (грамоты Дубровнику и афонскому монастырю Ватопед, официальные надписи), появляется титул “царь болгар и греков”, подчеркивавший его власть не только над исконными болгарскими территориями, но и над теми бывшими византийскими владениями, где жили греки. Осведомленный никейский современник Георгий Акрополит, объясняя милосердие, проявленное болгарским царем по отношению к эпирским пленным, писал: “Этим он проявлял человеколюбие, а может быть, и стремился извлечь пользу, ибо хотел стать их государем, низвергнув власть ромеев”53. С планами болгарского царя можно связать то особое место, которое в почитании тырновских святых после 1230 г. занял культ св. Параскевы (Петки) Эпиватской. Греческая подвижница Х в., чьи мощи также были перенесены в Тырново и возложены в церкви свв. Сорока мучеников, в отличие от своей римской тезки, не относилась к числу особо чтимых в Византии святых. Ее культ был популярен лишь во фракийских областях. В раннем проложном житии св. Петки мощи представлены как часть дани, которую заплатили Ивану II Асеню крестоносцы: “А великий царь Иван Асень... услыхав о чудесах святой, воспылал желанием... перенести тело святой в свою землю. Ибо тогда фряги владели Царьградом и платили дань Ивану Асеню. Он же не захотел ни серебра, ни драгоценностей, но... перенес святое тело в свой славный Царьград” (Тырнов. — Д. П.)54. Позднее был составлен особый проложный текст о перенесении мощей, сохранившийся в списке XIV в.: “Вложил Бог в сердце... царю нашему Иоанну Новому Асеню, сыну прежнего старого Асеня, испросить святую преподобную Петку, ибо тогда были латиняне. Хотя они владели Царьградом, но они вельми боялись и почитали его и повиновались каждому слову, исходившему из уст царя Асеня, ибо... благодаря ему удерживали власть... И вымолил он наилучшее — честь и похвалу, радость и веселие, непобедимую помощь, укрепление царству и в этом веке, и в будущем...” Молитвенное завершение еще более подчеркивает роль св. Петки как покровительницы Болгарского царства: “Дай мир нашей жизни, благополучие нашим церквам, силу и мощь против врагов нашему царю, спасая и защищая боляр и воинов, людей, которых Бог подчинил его власти...”55 В этом 146 рассказе, также датируемом временем Ивана II Асеня, обращают на себя внимание особенности терминологии, более явные при сравнении данного текста с проложным житием св. Петки: “Перенесение мощей св. Петки” “Проложное житие св. Петки” “Богобоязливому царю нашему... Иоанну, Новому Асеню, сыну прежнего Асеня Старого” “Великий царь Иоанн Асень, сын великого и старого Асеня царя...” “Тогда... латиняне... Царьградом” владели “Тогда фряги владели Царьградом...” “И приказал с великими почестями перенести ее тело... в свой преславный град Тырнов.... и положил его в своей церкви”. “Перенес святое тело в свой славный Царьград... и со всеми почестями положил в царской церкви”. Сравнение двух версий повествования о перенесении мощей св. Петки в контексте уже известных нам аналогичных фрагментов житий других святых сформированного при первых Асенях тырновского собора дает возможность выдвинуть некоторые предположения относительно механизмов формирования официальной идеологии Второго Болгарского царства. Более раннее проложное житие, написанное скорее всего между победой при Клокотнице и “возобновлением” Болгарской патриархии в 1235 г., обнаруживает связь с некоей лежащей вне агиографии светской историографической традицией. В то же время созданная после 1235 г. “Повесть о перенесении мощей”, также в целом выходя за рамки традиционного житиеписания, не только отличается конфессионально акцентированной терминологией, но и упоминает важные подробности церковных дел 30-х гг.: участие преславского митрополита Марка в перенесении мощей св. Петки, путешествие будущего тырновского патриарха Иоакима в Никею за архиерейской инвеститурой, обретение им в Каликратии службы св. Петке с похвалой и житием и пр. На основании этого можно предположить, что при Иване II Асене наряду с летописными записями, продолжавшими династическую традицию Асеней и представленными, например, прототипом надписи в церкви Сорока мучеников, формируется отдельная историографическая традиция Тырновской патриархии. Помимо “Повести о перенесении мощей 147 св. Петки” к ней можно отнести вошедший в Синодик текст об “обновлении” Болгарской патриархии. В одной виденной В. И. Григоровичем в Румынии рукописи Номоканона имелась не очень внятная глосса со ссылкой на некую летопись эпохи Ивана II Асеня. Глосса находилась напротив статьи о наказаниях за многоженство56. В свете других, не более ясных свидетельств о некоем конфликте царя с тырновским иерархом (возможно, по имени Виссарион), который занимал патриаршую кафедру между сосланным на Афон Василием и возведенным на нее на Лампсакском соборе 1235 г. Иоакимом57, эта глосса может указывать на еще более раннее возникновение параллельной историографической традиции в обстановке конфронтации дворца и патриархии. Церковный статус Тырнова в первые полтора десятилетия правления Ивана II Асеня оставался неурегулированным, что, в свою очередь, затрудняло полномасштабное становление новой болгарской идентичности. Уния с Римом, заключенная Калояном, по-видимому, так и осталась формальной, хотя некая часть болгарского духовенства, как высшего, так и приходского, в начале XIII в. была рукоположена по западному обряду, что оставило свой след в болгарской культуре. Так, в известном Добрейшовом евангелии XIII в. есть глосса “А это — рай, называемый парадис”, принадлежащая ктитору рукописи, который изображен на одной из миниатюр в облачении, напоминающем одежды католического священника, и с выбритым гуменцем-тонзурой58. В оформлении и иконографии рукописи отмечены и другие западные элементы. Одно из возможных объяснений этому следует искать в кирилло-мефодиевском ойкуменизме, который болгарская культурная традиция восприняла еще в IX—Х вв., вплоть до начала XIII в. оставаясь практически свободной от антилатинских сюжетов. Хотя именно болгары в лице князя БорисаМихаила стали первыми славянскими адресатами антилатинских предостережений активного участника схизмы IX в. патриарха Фотия, а наибольший, пожалуй, вклад в антикатолическую книжность был сделан иерархами и клириками Охридской архиепископии, болгарская книжная традиция вплоть до XIII в. практически не знала нападок на католиков. При учете этого обстоятельства конфессиональная лабильность первых болгарских царей из династии Асеней не только предстает 148 следствием политического прагматизма их отношений с Римом, но и отвечает сложившейся к этому времени болгарской культурной модели. Большинство исследователей считает, что и при Калояне, и при его преемниках Бориле и Иване II Асене, жизнь Болгарской церкви строилась в соответствии с восточными каноническими порядками. Упомянутый выше охридский архиепископ Димитрий Хоматиан (кстати, в отличие от своих предшественников XI—XII вв. весьма толерантно относившийся к “латинству”) в 1219 г. издал синодальное решение о признании законности рукоположения низшего болгарского духовенства во владениях Асеней, подчеркнув, что клирики приняли сан “от православных по священному церковному чину”, а болгарский первоиерарх Василий был рукоположен во епископа пусть и насильно привезенными в Тырново, но канонически правомочными православными владыками. В том же решении, однако, не признавался законным патриарший сан Василия, полученный им от Рима, и отрешались поставленные им после этого болгарские епископы59. Вместе с тем Димитрий признавал каноничность болгарских богослужебных книг и, более того, видимо, разделял представление о Болгарском царстве как одном из наследников балканских владений империи после падения Константинополя. В 1220 г. он писал в послании корфскому митрополиту Василию: “Когда с нашествием латинян блеск царства и иерархии исчез из Константинополя, а архиереи разбежались в разные стороны и большинство из них погибло в изгнании, царская власть на Западе почти вся перешла к Болгарии...”60 Это заявление, однако, следует рассматривать в контексте церковной политики охридских иерархов, стремившихся утвердить автокефалию Болгарской архиепископии в противоборстве с никейским патриархом. Именно Димитрий Хоматиан в 1227 г. возложил императорскую корону на голову эпирского государя Феодора Комнина, фактически подтолкнув его к войне с Болгарией. Соперничество Охрида и Тырнова в канонической области дополнялось продолжением “старого спора” о сути и значении кирилло-мефодиевского наследия. Актуальность политических, канонических и культурных проблем греко-болгарских взаимоотношений стимулировала новый всплеск ин149 тереса охридских греческих иерархов к кирилло-мефодиевской проблематике. Архиепископ Димитрий Хоматиан написал на основе Феофилактова “Жития св. Климента Охридского” свою версию жизнеописания просветителя болгар. Ее отличают более эмоциональное, чем у Ифеста, отношение автора к святому и иная трактовка болгар как исконного европейского народа: “Сей великий отец наш и болгарский светильник был родом от европейских мизов, которых многие люди знают и как болгар, что вначале от Брусы Олимпийской к Северному океану и к Мертвому морю Александровой рукой и повелением были изгнаны, а спустя немного лет с тяжкими усилиями перешли Дунай и наследовали свои исконные земли — Паннонию Далмацию, Фракию и Иллирик и многие земли в Македонии и Фракии”. Автор невольно ставит св. Климента выше его учителей: “Измудрствовал он и иные очертания букв, более ясные, чем те, что знал премудрый Кирилл...”61 Димитрий последовательно употребляет термин “болгарский”, вообще не упоминая “славян” в отличие от своего предшественника. Идейная созвучность “Краткого жития св. Климента” болгарской книжности своего времени способствовала тому, что оно было вскоре переведено с греческого и прочно вошло и в славянскую кирилло-мефодиевскую агиографию. Другой ученик славянских апостолов — св. Наум стал героем канонов и жития, написанных преемником Димитрия на охридской кафедре Константином Кавасилой (середина XIII в.), ранее бывшим епископом Струмицы. В канонах свв. Кирилл и Мефодий названы “учителями и корифеями болгарской земли”, а свв. Климент и Наум “их соучастниками в апостольской деятельности”, которые “облагородили дух мизийцев, то есть болгар”62. В житии св. Наума, известном в средние века и в славянском переводе, упоминается деятельность свв. Кирилла и Мефодия “в земле болгар”, подчеркивается, что письменность и переводы Писания были предназначены “языку болгарскому” и переданы “болгарским чадам”63. В то же время обращает на себя внимание гневная отповедь Димитрия Хоматиана св. Савве Сербскому по поводу провозглашения Сербской архиепископии. Это рассматривалось охридским архиепископом как посягательство на 150 освященную традицией Болгарскую церковь, с которой он отождествлял свой диоцез. Вероятно, подобный “фон” также положительно влиял на восприятие греками болгар. Усиленное внимание охридских иерархов к болгарской пастве и особо почитаемым ею святым, несомненно, должно рассматриваться в свете спора о церковной юрисдикции над болгарскими землями, на которую претендовали Охрид и Тырново. Тем самым их произведения в новой обстановке продолжали болгаро-греческий диалог о месте Болгарской церкви и ее книжности в византийско-славянской общности. Укрепление после 1204 г. греческого этнического самосознания, этнополитическая консолидация болгар под властью Асеней и наличие общего врага — латинян до некоторой степени сблизили ранее непримиримые позиции сторон диалога. Но если для охридских писателей болгары были лишь одним из народов, которым византийские миссии принесли свет христианства, то болгарские идеологи XIII в., видимо, продолжали считать кирилло-мефодиевское наследие преимущественным достоянием болгар, тем самым отличенных среди остального славянства. Язык и письменность кирилло-мефодиевских книг в это время нередко назывались “славянскими”, в том числе и в текстах, содержащих болгарские акценты. Служба св. Кириллу по Скопльской минее указывает на предназначение кирилло-мефодиевской миссии болгарам: “Всему миру явился ты учителем, и послал тебя [Бог] учить книгами... болгарскими языки западные ...книгами болгарскими... языки обогатил Божьим разумом...” Та же служба, однако, содержит и традиционные кирилло-мефодиевские акценты: “...книгами словенскими триязычников крепко победил...”64 В написанной в то же время особой версии краткого жития св. Кирилла, известной как “Успение Кириллово”, подчеркивается болгарское происхождение святого: “Болгарин родом, он родился от благоверных и благочестивых родителей...”— а завершение текста походит на аналогичные пассажи жития св. Иоанна Рильского и “Повести о перенесении мощей” св. Петки: “Да утвердит Бог его молитвами Болгарское царство”65. Церковное положение Тырнова в указанную эпоху было не в последнюю очередь связано и с судьбой другого центра восточного православия — Афона. Как показывает приведен151 ный выше пример отпевания Стефана Немани поочередно греческими, болгарскими, грузинскими, русскими и сербскими монахами, Афон уже в начале XIII в. представлял собой своеобразную микромодель православного мира, где отдельные обители соответствовали этноконфессиональным сообществам. Так, в это время возвышается Хиландарский монастырь, превращенный Стефаном Неманей в мощный очаг сербской культуры66. С другой стороны, под влиянием Латинской империи часть духовенства греческих и грузинских монастырей признала католические обряды и супрематию папства. О положении Зографского монастыря в это время ничего не известно, однако мы знаем, что на Афоне еще в начале XIII в., во время, когда Болгарская церковь при Калояне приняла унию с Римом, подвизался будущий тырновский патриарх Иоаким, а несколько позднее на Святую гору удалился примас Василий, видимо по инициативе царя Борила оставивший тырновскую кафедру67. После победы над Эпиром Иван II Асень в апреле 1230 г. посетил и богато одарил монастыри Афона, приняв тем самым в качестве преемника византийских императоров под свою юрисдикцию один из важнейших центров византийско-славянского культурного общения. Сохранилась лишь его грамота монастырю Ватопед, но в основанном на более древних источниках житии св. Петки патриарха Евфимия упоминаются грамоты лавре св. Афанасия и Карее68. О грамотах Ивана II Асеня Зографу и другим афонским монастырям говорят и более поздние афонские источники, а в самом монастыре св. Георгия известна “Асенева башня”, видимо построенная болгарским царем. Хотя первые упоминания о Зографской обители как “монастыре болгар” в афонских документах относятся к концу XIII в., логично предположить, что окончательная “болгаризация” святогорской обители св. Георгия произошла в момент наивысшего подъема политической мощи Болгарского царства. Об этом, например, косвенно свидетельствует цитируемое ниже сведение об афонских старцах в составе болгарской делегации на православный собор в Лампсаке в 1235 г. После победы над Эпиром насущной потребностью Болгарского царства стало приведение канонического статуса 152 Тырновской патриархии в соответствие с прочно укоренившимся в культурном сознании болгар представлением о самостоятельности Болгарской церкви. Иноземная власть над Константинополем и крах имперских амбиций Солуни делали Тырново единственной православной столицей бывшего византийского Запада. После длительных перипетий, сопровождавших становление болгарско-никейского военного союза против Латинской империи, в 1235 г. собор восточного духовенства в Лампсаке признал особый статус Тырновской кафедры. По сообщению Г. Акрополита, “тырновский архиерей был наделен самостоятельностью, и решено было провозгласить его патриархом, чем [имперские] верхи пожелали отблагодарить болгарского государя Асеня за родство и дружбу”69. С болгарской стороны вещи выглядели иначе. В проложном житии нового болгарского патриарха Иоакима говорится о его поставлении на “престол великой патриархии Царьграда Тырнова” собором “всех западных архиереев”70, т. е. болгарских епископов. В соответствующем тексте Синодика “обновление”, т. е. восстановление канонического достоинства Болгарской церкви, предстает как инициатива Вселенского патриарха Германа, поддержанная тремя восточными патриархами — Афанасием Иерусалимским, Симеоном Антиохийским и Николаем Александрийским на православном Вселенском соборе: “Узнав же об этом, царь греческий с патриархом собрали со всего царства своего митрополитов и архиепископов, епископов и всечестных монахов, архимандритов и игуменов. Также и христолюбивый Иоанн Асень, царь болгар, с митрополитами и архиепископами со всего своего царства, с епископами и всечестными монахами Святой горы, встретился с восточным царем Калояном на Понтийском море... Иоакима, преждеосвященного архиепископа, нарекли патриархом не только словом, но и рукописанием патриарха Германа и всех епископов восточных...”71 Иными словами, официальная историографическая традиция Тырновской патриархии (напомним, что Синодик читался во всех болгарских церквах в Соборное воскресенье на протяжении XIII—XIV вв.) запечатлела акт 1235 г. как скрепленное благословением четырех восточных патриархов согла153 сие восточных епископов и “благочестивого царя греческого Калояна” на переход западных епархий вселенского диоцеза, включавших Афон, в царство “христолюбивого Иоанна Асеня, великого царя, сына старого Асеня”, “брата и свата” никейского императора, под омофор тырновского патриарха, “равного по степени” остальным четырем первоиерархам православного Востока и фактически занявшего место, до схизмы принадлежавшее римскому папе. Патриаршеское достоинство Тырнова как одного из мировых центров православия безоговорочно воспринималось болгарами на протяжении всей истории державы Асеней. В 1361 г. константинопольский патриарх Каллист терпеливо разъяснял болгарскому духовенству: “Вначале... тырновский патриарх носил сан епископа, подчинялся Святой и великой Божьей Церкви, но затем... по настоятельным просьбам тогдашнего болгарского скипетродержца [Ивана II Асеня]... по снисхождению было даровано тырновскому епископу право называть себя патриархом, не будучи причисленным, конечно, к остальным священным патриархам... С тех пор как изначально были установлены пять патриархий Соборной и Апостольской Церковью, так как с нами был папа римский, и до сего дня, когда соединены четыре, они находятся в неразрывном общении”72. Каноническое утверждение самостоятельности Болгарской церкви завершило формирование системы координат болгарской культуры в державе Асеней и придало целостный вид культурной идентичности Второго Болгарского царства. Две части Константинова наследия обрели равновесие в соотношении двух царств — Греческого и Болгарского и двух церквей — “восточной” и “западной”, т. е. тырновской. Одновременно распад Византии после 1204 г. дал толчок оформлению новой версии идеи христианского духовного сообщества. Его общий корень — восточноправославная литургическая обрядность начала быстро прирастать культами болгарских и сербских святых, а посвященные последним тексты стали основой соответствующих агиографических и гимнографических традиций. 154 § 3. Общеправославные и балканские измерения болгарского культурного самосознания в XIII в. Восстановление Болгарского царства, начатое восстанием Асеней и завершившееся в середине 30-х гг. XIII в. “обновлением” Болгарской патриархии, стало важнейшим фактором складывания культурной идентичности средневековой Болгарии на новой основе, важнейшую роль в которой играли династические и этнополитические акценты. Несмотря на междуусобицы и острые социальные конфликты, неудачные войны и резкое ухудшение внешнеполитического положения Болгарии после смерти Ивана II Асеня, культурная продукция середины — второй половины XIII в. продолжала отчетливо выражать идеи династической преемственности, заложенные при первых Асенях. Так, акты и письменные памятники правления Михаила II Асеня (1246—1257), подчеркивали преемство царя от первых Асеней. “...Божьей милостью патриарх всех болгар... попросил великого царя Михаила Асеня, сына великого царя [Ивана] Асеня и внука старого царя Асеня...” — гласит т. н. Батошевская надпись73. “Нашим великим царем и государем, сыном блаженнопочившего и святого нашего царя и государя Ивана Асеня” называет Михаила Асеня глосса одной греческой рукописи, переписанной в Болгарии в 1247 г.74 Сохранились ктиторский портрет этого царя в церкви св. Архангела Михаила в Костуре и его изображения на монетах, следующие традиционной царской иконографии Асеней75. К Асеням причислил себя путем женитьбы на внучке Ивана II Асеня и принятия династического прозвища занявший болгарский престол после междуусобной войны 1256— 1257 гг. крупный удельный государь Константин Тих (1257— 1277)76. На время его царствования, сильно осложненного ростом удельного сепаратизма, пришлось восстановление греческого суверенитета над Константинополем в 1261 г. Хотя государство Палеологов было лишь тенью былой Империи, возобновление Византии вновь актуализировало базовую оппозицию культурной модели болгар — “зеркальное” противостояние их столицы Царьграду. Один из немногих датированных памятников этого времени — ктиторская надпись храма св. Николая близ с. Троица перенасыщена терминологией, подчеркивающей светский и церковный суверенитет Болгарии, 155 что вполне могло отражать идейно-политическую специфику момента: “Сей храм... воздвиг Савва, божьей милостью митрополит богоспасаемого первопрестольного града Преслава при благоверном и христолюбивом царе Константине, самодержце всех болгар... и при блаженном патриархе богоспасаемого града Тырнова и всех болгар Иоакиме в лето 6772 (1263/64), индикта седьмого”77. Обращает на себя внимание упоминание “первопрестольного” Преслава наряду с Тырновом как “богоспасаемого града” — отчетливое указание на преемственность от Первого Болгарского царства. Развитие церковной книжности, начатое Синодиком при царе Бориле, привело в середине — второй половине XIII в. к формированию особого тырновского агиографического и гимнографического цикла, включавшего жития, каноны и службы, посвященные особо почитаемым в Болгарии святым. Его отражение сохранила т. н. Драганова минея, ставшая, по выражению С. Кожухарова, “первой в славянском Средневековье попыткой составления национальной праздничной минеи”78. Впоследствии эту традицию продолжили сербские и русские трефологии XIV—XVI вв. Праздничная минея-трефологий, если верить глоссе писца — “окаянного Драгана”, была переведена заново с греческого с добавлением служб свв. Кириллу и Мефодию, службы с проложным житием св. Иоанну Рильскому, службы св. Петру, царю болгарскому, и, наконец, службы св. Параскеве-Петке. Написанная в 70-е гг. XIII в., эта Минея — самый ранний и пространный свод праздничных текстов святым тырновского собора. Другие подобные сборники XIII столетия, как правило, ограничиваются службами славянским просветителям и св. Иоанну Рильскому, иногда — св. царю Петру79. Следующим этапом оформления тырновского агиографического и гимнографического циклов стало формирование новой редакции Пролога — составленного в порядке годового цикла сборника кратких житий, который, согласно одному из цитированных выше предположений, впервые возник в процессе византийско-славянского книжного сотрудничества в Константинополе в XII в. или, как предполагают другие, был создан в Древней Руси80. Однако где бы ни появился перво156 начальный славянский Пролог, важно то, что он представлял собой открытую традицию, готовую вместить новые акценты “национальных” моделей восточноправославного культа святых, особенно активно развивавшиеся в славянском мире после 1204 г. Уже в один из ранних списков Простого пролога — упомянутый выше Норовский пролог конца XIII в. наряду с памятями свв. Кириллу и Мефодию вошли ранние краткие жития свв. Иоанна Рильского и Прохора Пшинского81. Сербское происхождение рукописи, однако, не позволяет дать однозначную интерпретацию этого памятника. Большинство среднеболгарских списков Пролога относится к XIV в., а те из них, что содержат краткие жития тырновских святых, принадлежат болгарской редакции нового типа Пролога — Стишного, появившейся не ранее первой половины XIV в.82 Однако, на наш взгляд, формирование текстов кратких житий болгарских святых, которые впоследствии вошли в Стишной Пролог, по идейно-политическим соображениям следует отнести ко второй половине предшествующего столетия. В новом тырновском цикле житий становится нормой включение в агиографические тексты обширных исторических фрагментов, прославляющих первых Асеней — “старого” Ивана Асеня, его брата Калояна и Ивана II Асеня. Все житийные тексты о святых, чьи мощи были перенесены в Тырново в их царствования, сопровождаются пространными историческими справками. Так, в “Повести о перенесении мощей св. Илариона Мегленского” появляется новый текст, посвященный Ивану II Асеню: “Когда прошло много лет и времен, новый царь Иван Асень, сын старого царя Асеня, принял скипетр царства. И царствовал он, и властвовал над болгарами, греками и франками, а также и над сербами и албанцами, и над всеми градами от моря и до моря. И этот царь Иван Асень благоизволил отстроить церковь во имя святых Сорока великомучеников...”83 В “Повести о перенесении в Тырново мощей св. Параскевы (Петки)” исторический материал настолько довлеет над историей подвигов святой и ее посмертных чудес, что современные исследователи относят весь памятник к жанру историографии84. После возобновления Болгарской патриархии в 1235 г. оформляется в третьей редакции наиболее развернутая версия 157 рассказа о перенесении мощей св. Иоанна Рильского. В ней было уточнено, что возобновление “болгарской власти, разрушенной греческим насилием”, произошло при “христолюбивом царе Асене, чье имя в святом крещении было Иоанн”, что он покорил Средец и перенес мощи святого в “царский град Тырново”. Официальное признание св. Иоанна Рильского небесным заступником Болгарии подчеркивается внесением в текст молитвенной аккламации: “Молись всемилостивейшему владыке, дабы спас он твоих сродников, единородный тебе болгарский народ, помог бы царю нашему властному и поверг всех противящихся ему под ноги его! Непорочной веру храни! Грады наши утверди!.. От нападения чужеземцев нас защити!...”85 Впоследствии эта редакция жития, будучи в XIV в. включена в Стишной Пролог, приобрела значительную популярность не только в болгарской, но и в сербской и древнерусской книжности. Важной чертой тырновского агиографического цикла было игнорирование “униатских” метаний Болгарской церкви в первой трети XIII в. — в новых редакциях сочинений времени Калояна прославляется “священный” патриарх Василий — рукоположенный папскими легатами тырновский “примас”. Упоминания о том, что помимо римской инвеституры имело место второе каноническое восстановление Тырновской патриархии, остаются только в соответствующем тексте Синодика Болгарской церкви86. В житии первого канонически признанного православного тырновского патриарха Иоакима, сохранившемся в единственном списке начала XV в., отсутствует как раз тот лист, где говорилось о восстановлении Болгарской патриархии87, а в вышеупомянутой “Повести о перенесении мощей св. Петки” целью поездки Иоакима в Никею представлено лишь получение патриаршего благословения. Новым явлением в болгарской культуре в 70-е гг. XIII в. стало резкое нарастание антикатолических тенденций. Выпады против “латинян”, появившиеся в текстах, связанных с восстановлением Болгарской патриархии в середине 30-х гг., достигают апогея в памятниках 70-х гг. XIII в., отражающих реакцию болгар на конфессиональную политику Михаила VIII 158 Палеолога. К ним, например, относится краткий цикл антилатинских сочинений, сохранившихся в украинском Мелецком сборнике XVI в. (“Сказание о семи вселенских соборах краткой редакции”, “Вопросы и ответы о евангельских словесах”)88. Отклик в болгарской средневековой книжной традиции нашла и современная событиям греко-латинская полемика89. Особенное влияние на антикатолические тенденции в болгарской средневековой культуре оказала Лионская уния 1274 г., которая не только восстановила каноническое общение между Римом и Константинополем, но и сопровождалась отказом последнего от признания автокефальности Болгарской и Сербской церквей. К этому времени относятся первые попытки болгарских книжников представить Тырново в качестве центра всей православной общности — глосса Тырновского евангелия 1272/73 гг., где болгарская столица впервые после восстановления власти греков над Константинополем названа Царьградом, и приписка к Апостолу 1276/77 гг., в которой тырновскому патриарху усваивается обычный эпитет вселенского первосвятителя — “столп православия”90. Антилатинские тенденции отражает переделка заглавия одной из притч Синайского патерика — “Слово от Лимониса ходящим по церквам латинским и жидовским”, где адресованные армянской Церкви инвективы Иоанна Мосха переносятся на католиков91. Это сочинение помещено в рассматриваемом ниже Берлинском сборнике конца XIII в. В качестве еще одного свидетельства обычно приводится т. н. “Рассказ о зографских мучениках”. По мнению И. Божилова, этот текст не опирается на реальные события 70-х гг. XIII в. и восходит к легендарной афонской традиции, сложившейся не ранее XV столетия92. Однако в одной из его версий, дошедшей в русской редакции конца XVI в., утверждается, что во время правления Михаила VIII (1261—1282) кафедра вселенского патриарха находилась в Тырнове: “...тогда посуху царствовали болгары, и был у них царствующий град Тырнов, в нем же и патриарх вселенский был тогда”93. Хотя в самом тексте имеется еще один датирующий признак — ссылка на царствование Андроника II (1281—1328), трудно сказать, имеем ли мы дело с отголоском средневековых болгарских представлений, вызванных вероотступничеством Михаила VIII, 159 или с выводом южнорусского книжника, сделанным в пылу антиуниатской полемики после 1596 г. Продолжение болгарской культурой поисков более полных и точных координат своей идентичности во второй половине XIII в. не могло не коснуться представлений болгар о двух других православных славянских народах — русских и сербах. В это время Древняя Русь переживала последствия монгольского нашествия, в последней четверти XIII в. обрушившегося и на Болгарию. Хотя нам известны отдельные факты болгарско-русских связей эпохи поздних Асеней, в том числе и в области книжности, реконструкция болгарских представлений о Руси и в это время представляет значительную трудность. Наиболее развернутый текст на эту тему — письмо болгарского деспота Якова Святослава киевскому митрополиту Кириллу II (1243—1281). Яков Святослав, будучи высшим болгарским сановником и одним из вероятных претендентов на тырновский престол, происходил из “русской земли”. “Там,— писал он,— есть отрасль и корень благодержавного рода моего”. В 1262 г. он послал на разоренную монголами родину специально заказанный в тырновском скриптории экземпляр Номоканона: “Пишу тебе, возлюбленный отче Кирилле, прототрону, да просветится словом твоим вся русская вселенная. Пусть нигде эту Зонару не переписывают в рукописях, ибо подобает быть во всяком царстве по одной сей Зонаре в соборе... Ради того испросил я эту книгу у патриарха и передаю за помин души своей и святопочивших родителей моих”94. Квазиканоническое пожелание болгарского деспота не было выполнено, и на Руси Номоканон, присланный Яковом, стал основой десятков списков русской Кормчей книги XIII— XVII вв., в большинстве которых воспроизводилось его письмо95. Нам же важно отметить, что в сознании русского по происхождению представителя высшей болгарской знати Русь и Болгария виделись равноправными православными царствами. В бытовавших в Болгарии XIII в. сборниках читатель мог найти жития русских святых — княгини Ольги, Феодосия Печерского, Мстислава, проложные жития свв. Бориса и Глеба, чтения и службы русским первомученикам96. В то же время, как мы уже отмечали, и в XIII в. ни болгарская, ни древнерусская книжность не подчеркивают сколько-либо 160 заметно особый характер отношений болгар и русских друг к другу. Более тесный характер носили, по-видимому, взаимосвязи болгарской и сербской культур. Еще при жизни Ивана II Асеня оставивший свой престол первый сербский архиепископ Савва, возвращаясь из паломничества, посетил Тырново, где скончался на Богоявление (12 января) 1235 г. и был погребен в церкви Сорока мучеников. Годом позже его мощи были переданы зятю Ивана II Асеня Стефану Владиславу (дочь болгарского царя была замужем за сербским королем) и перенесены в “задужбину” основателя Сербской церкви — монастырь Милешево97. В сербском житии св. Саввы, созданном в начале XIV в. Феодосием, пребывание архиепископа в Тырнове описывается как семейный визит в “Загорскую землю”, где “Асан, царь Загорский” и “блаженный Иоаким патриарх” с честью встретили Савву и предложили ему перезимовать в “своих теплых дворцах”98. Хотя в житии не употребляются термины “Болгария” и “болгары”, взаимные представления о двух тесно связанных этноконфессиональных общностях легко прочитываются в “плане содержания” текста, излагающего аргументы Ивана II Асеня в споре со Стефаном Владиславом за мощи св. Саввы: “Если бы тело святителя лежало без почестей и забытое, то вы бы имели право просить его для погребения, но так как святитель принял в Боге упокоение у нас, как бы это могло случиться и у вас самих, и тело его, как видите, лежит в Божьей церкви с большими почестями, то зачем вы причиняете трудности и нам, и святителю, требуя его обратно?”99 Естественно, приписываемые болгарскому царю слова носят характер агиографического топоса, но они в то же время отражают модель взаимных представлений болгар и сербов друг о друге как о равноправных этнополитических и конфессиональных сообществах. В ктиторской надписи Боянской церкви (1258/1259) говорится о построении храма “усилиями, трудом и великой любовью севастократора Калояна, племянника царя [Константина Асеня], внука св. Стефана, короля сербского”100. В грамоте Константина Асеня монастырю св. Георгия “жупаны, князья и короли Сербской земли” упоминаются после “святых и православных греческих и болгарских царей”101. Признавая равное достоинство соседнего на161 рода в православии, краткое сведение грамоты, как кажется, подчеркивает различия в организации верховной власти болгар и греков, с одной стороны, и сербов — с другой. Сопоставление облика и идейного содержания болгарской культуры в эпоху Асеней с сербской культурой при первых Неманичах не является задачей настоящего исследования, однако даже предварительные наблюдения позволяют вывести как ряд типологически общих черт, так и отдельные существенные особенности. Сердцевину сербской книжности XIII—XIV вв. составляли жития и службы канонизированным государям из династии Неманичей и иерархам Сербской церкви102, в то время как книжная продукция Второго Болгарского царства была основана на текстах, связанных с тырновскими культами и праздниками. На наш взгляд, эти особенности происходят из различия культурных моделей, одна из которых была ориентирована на соотнесение болгар с другими православными народами, прежде всего с греками, а другая — на утверждение политической самобытности сербов через пронизывающее всю их культуру династическое предание Неманичей. На фоне аналогичных сербских представлений более ярко заметны и особенности мировых координат болгарской культурной идентичности. Привязка сербских владений к Западу, в отличие от болгарских представлений о своем “западном царстве”, носит здесь чисто географический характер, хотя сербам были известны византийские представления о Западе и Востоке. Так, Доментиан, прославляя св. Савву и св. Симеона, несколько раз повторяет, что оба эти “богомысленных светила” озарили “западное свое отечество”103, а его ученик Феодор Грамматик в глоссе к списку “Шестоднева” Иоанна Экзарха пишет: “Царствовал он [Михаил VIII Палеолог] над восточными землями и западными, а наш господин [Стефан II Урош], внук святого Симеона и первовенчанного короля кира Стефана... в своем отечестве, самодержавно владычествуя над всеми сербскими землями и поморскими”104. Обе цитированные рукописи происходят с Афона, где в XIII в. процветал Хиландарский монастырь, ставший одним из важных центров развития сербской культуры. Освоение сербскими монахами болгарского духовного наследия предшествующих столетий происходило в афонских обителях XIII в. 162 гораздо более интенсивно, нежели развивались непосредственные контакты болгарских и сербских книжников на самом балканском “континенте”. Его результатами стали список “Шестоднева” Иоанна Экзарха, выполненный в 1263 г. с сохранением языковых особенностей древнеболгарского оригинала, компиляция из “Беседы против богомилов” Пресвитера Козьмы и новые списки произведений св. Климента Охридского и Петра Черноризца. Диалог сербов XIII в. с современной им болгарской книжностью кажется менее интенсивным, но включает обращение к апокрифическим произведениям, по-прежнему занимавшим большое место в болгарской книжности. Целое собрание таких текстов помещено в т. н. Драголовом сборнике третьей четверти XIII в., который, вероятно, происходит из Македонии, в это время ставшей объектом обострившегося болгаро-сербского политического противоборства105. Наряду с апокрифическими пророчествами, созданными в Болгарии в Х в. и в эпоху византийского владычества, в сборнике есть несколько новых произведений, приблизительно современных эпохе его составления. В новом цикле апокрифических сочинений, пополнивших болгарскую книжность в XIII в., также нашла свое выражение обновленная болгарская культурная идентичность, которую мы до сих пор прослеживали по официальным и близким к ним текстам. Так, в центре внимания новой интерпретации пророчеств, приписываемых пророку Даниилу, находится падение “Седьмиверхого Вавилона” — Константинополя под власть “русого рода” или “Балдуинова народа”. Текст не упоминает о болгарах, но до известной степени отражает изменения в их представлениях о системе мировых координат после падения Константинополя в 1204 г. В частности Рим из сакрального символа мифического “Петрова царства” превращается в полноправную мировую столицу — соперника Константинополя: “И будет Царьград на Рим и Рим на Царьград”. Константинополь становится апокалиптическим символом гибели царства, обреченным “седмоверхим” Вавилоном, падение которого приведет к перемене центра мирового господства: “И удержат [латиняне] власть над тремя восточными и четырьмя западными народами”106. Умножение числа наследников обеих частей Константинова царства отражает изменение полити163 ческой обстановки на Балканах после падения Константинополя в 1204 г. и корреспондирует с отмеченными выше представлениями о множественности православных царств. Примером конкретного “ситуационного анализа” обстановки на Балканском полуострове в середине столетия в образах и терминах традиционных апокрифических пророчеств является другое сочинение из Драголова сборника — т. н. “Пандехово сказание”, также дошедшее только в одном списке. Начиная свой обзор с Рима (“Рим зрел, и его зрелость — его падение, а его падение — его погибель”), автор переходит к еще находящемуся под властью латинян Константинополю: “В нем царствовали ромеи до кира Мануила царя, а после него не будут царствовать, пока не наступит через годы день гнева”. Предсказания о судьбе славянских народов выделяют болгар и сербов на фоне трагической судьбы Руси после монгольского нашествия: “Русы завоют по-волчьи и разбегутся, жестокой смерти подвергнутся, растопятся, как воск перед лицом огня... Венгр маловременен, серб малочислен, но и он будет призван. Вначале он помирится с великим царем, а затем поднимет против него оружие. И победит его, как Иисус Амалика и гаваонитов, и возвысится имя его среди живущих вокруг него. Болгарин молод, и пока двое бьются, третий станет первым, а молодость есть перемена царству”107. Интепретация конкретного содержания текста “Пандехова сказания” уводит одних исследователей к эпохе латинской гегемонии на Балканах сразу после 1204 г., других — во время, непосредственно предшествовавшее реставрации Палеологов108, но для нас в данном случае важна общая система координат, в которые автор помещает ситуацию на Балканах. Современные события видятся ему эсхатологическим продолжением римской истории, а Константинополь, несмотря на господство латинян, остается мировым центром, в качестве равноправных претендентов на владение которым рассматриваются болгары и сербы — соперники “великого царя” — никейского императора. В этой части пророчество перекликается с анализом политической обстановки на Балканах накануне изгнания крестоносцев из Константинополя, который мы находим в письме никейского императора Феодора II Ласка164 риса к своему учителю — философу и богослову Никифору Влеммиду от 1255 г.: “Италиец беснуется сильнее всех, а болгарин — наиболее явно. Серб обуздан силой и представляется кротким — будто бы на нашей стороне, хотя в действительности — нет. И только грек помогает себе сам, собирая средства у себя дома”109. В Драголовом сборнике помещена новая версия “Видения Исаии”, также тесно связанная с конкретной политической обстановкой середины — второй половины XIII в. Ее главное отличие — усиленное внимание к “Мезиной земле” — Болгарии, которой после недолгого возвышения “Нового Иерусалима” — возвращенного Палеологами Царьграда — предстоит стать Новым Израилем, “где распустится жезл Иессеев”, т. е. последним праведным царством христиан. Конец этого царства станет началом апокалиптической войны между восточным и западным царями, которая завершится восшествием на престол последнего царя — Михаила, возвращающего венец Христу110. Упоминание о жезле Иессеевом придает тексту отчетливый династический оттенок, т. к. тема “Древа Иессеева” лежит в основе словесной и художественной иконографий болгарской и сербской династий XIII—XIV вв. Важнейшим памятником, отражающим различные углы зрения на меняющуюся балканскую действительность второй половины XIII в., является Берлинский сборник, возникший в болгаро-сербской “контактной зоне” в Македонии на рубеже XIII—XIV вв. Как и Драголов сборник, этот кодекс включает многочисленные апокрифические произведения, но совмещает их с вполне каноническими текстами учительного и житийного характера. По словам В. Ягича, сборник выражает “направления духовной жизни низших болгарских клириков”111. Его начальная статья, где наряду с “пребыванием у латинян” упоминается “пребывание в болгарах, среди мухамедан”, т. е. у волжских булгар, как и некоторые другие материалы, указывает на связи с Русью. Тырновские акценты очевидны во включенном в сборник кратком “Припеве св. Петке”112. Среди апокрифических текстов сборника особенно важна особая версия “Слова о письменех” Черноризца Храбра113, подвергнутого ревизии в контексте нового этапа болгаро-гре165 ческого культурного диалога. Уже первые строки произведения серьезно корректируют идеи Храбра, заключенные в известном по т. н. Лаврентьевскому сборнику 1348 г. первоначальном тексте114: Лаврентьевский сборник Берлинский сборник “Когда же [славяне] крестились...” “Записывали славянскую речь римскими и греческими буквами...” “38 букв, одни по греческим письменам, другие в соответствии со славянской речью...” “ассирийцы” “...а до того не было у греков букв собственного языка...” “Когда греки и славяне крестились...” “Записывали славянскую речь греческими буквами...” “Константин Философ” “30 букв, одни по греческим письменам, другие — по разуму и дару Божьему...” “русы” “...а до того не было у эллинов и ромеев букв собственного языка...” “Константин Солунский Философ” Уравняв греков и славян во времени принятия христианства, автор XIII в. усилил этот тезис разделением греческого прошлого на “эллинское” и “ромейское”, подчеркнул богодухновенность славянских письмен, солунское происхождение св. Константина-Кирилла и упомянул русов в числе народов, получивших дары от Господа. Оставляя себе определенный полемический простор упоминанием того, что греческими буквами писали язычникиславяне, автор завершил основную часть сочинения особой версией “Азбучной молитвы”: «Вот что говорят безумные греки: из наших букв были выведены славянские буквы. Скажи греку: “А где же среди греческих букв Бог, что изначала есть в славянских буквах? А — Аз есмь Бог, Б — Бог ибо есмь, В — Ведаю ибо все”... »115 Присутствовавшее в оригинальной версии объяснение значений греческих букв при этом опущено за ненадобностью. Текст снабжен дополнением: “И потому, братия, подобает вам знать следующее. Если соберутся вместе два священника — болгарский и греческий, то 166 пусть служат славянскую литургию, а греческую пусть не служат. А если оба [служат], пусть не отпадают ни славянская литургия, ни греческое пение. Ибо свята болгарская литургия, что святой муж составил”116. Это сведение отводит нас сразу к нескольким упоминавшимся выше сюжетам. С возобновлением константинопольской патриархии инициатива диалога с болгарами перешла от Охридской архиепископии к Царьграду, а его тон, в особенности после унии 1274 г., сильно изменился. Адекватная болгарская реакция на это потребовала идеологически акцентированной переработки одного из базовых текстов славянской письменной традиции. В то же время, как мы писали выше, литургическая практика, отмеченная в тексте, восходит не только к реальному обиходу XIII в., но и к кирилло-мефодиевским корням византийско-славянской общности (упомянутое выше отпевание св. Мефодия в Моравии) и афонской практике рубежа XII—XIII вв. (лития по св. Симеону — Стефану Немане в Хиландаре). Новая версия “Слова о письменах” имеет отношение и к упоминавшимся выше попыткам построения иерархических моделей христианской общности. Иерархические списки христианских царств и народов, языков и книг в составе “Слова о Сивилле” и “Разумника-Указа” продолжали корректироваться и на протяжении XIII столетия, отражая изменявшуюся политическую обстановку на Балканах117. В это время продолжают выстраиваться троичные (три рода, три царства, три правоверных книги) иерархии, где обыкновенно представлены греки, болгары и иверы, и более сложные пентархические схемы, где чаще других присутствуют “сириане, иверы, греки, болгары и русы”118. Не воспроизводя конкретные аргументы официальной болгарской книжности, апокрифические тексты основывались на представлении об усложнившемся и иерархически организованном мире, где основой мироустройства оставался противоречивый симбиоз-противостояние болгар и греков. Другие персонажи апокрифических списков менялись, отражая изменчивость конкретных политических реалий, и лишь противостояние болгар и греков продолжало разделять на Запад и Восток срединное пространство бывшей Константиновой империи. В рамках усилившегося в целом культурного взаимодействия православных сла167 вянских народов ни периферийность попавшей в тяжелейшее положение древнерусской культуры, ни самодостаточность культурной модели Сербии Неманичей не могли повлиять на оформившиеся координаты культурной идентичности средневековой Болгарии, традиционная ориентация которой на противостояние Византии получила новые импульсы с восстановлением империи Палеологов и проведением Михаилом VIII конфессиональной политики, направленной на поиски унии с Римом. 168 Глава V БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА И РАСЦВЕТ ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКОЙ ОБЩНОСТИ В XIV ВЕКЕ В начале XIV столетия современникам, вероятно, казалось, что пик кризиса, в который Болгария со второй половины XIII в. была повержена междуусобицами и татарским вторжением, пройден, и длительное царствование Феодора Святослава Тертера (1300—1321) — выходца из рода половецкой знати, состоявшего на службе Асеней и породнившегося с ними, создало первые предпосылки для возрождения былой политической и культурной мощи Болгарии. Неожиданная смерть наследовавшего Феодору сына — Георгия II Тертера (1321—1322) открыла путь к трону правнуку Ивана II Асеня — государю северо-западного Бдинского удела Михаилу III Шишману Асеню (1323—1330). Его гибель в неудачной битве с сербами при Вельбужде вызвала новые династические смуты. После краткого правления его сына — сербского ставленника Ивана Стефана (1330—1331) на тырновском троне прочно закрепился другой потомок Асеней — царь Иван Александр (1331—1371). Восстановление государственной целостности под эгидой династии основателей Второго Болгарского царства не только возвращало болгарской культуре мощную государственную поддержку, но и возрождало утраченную идейную основу. Однако последствия длительного периода междуусобиц и иностранных вторжений также не могли не сказаться на культурной идентичности средневековой Болгарии. 169 § 1. Официальное начало в болгарской культуре при Иване Александре (1331—1371) Попытки “Царьграда Тырнова” противопоставить себя палеологовскому Константинополю, связанные с Лионской унией 1274 г., были последним всплеском амбиций стольного града Асеней в XIII в. Смуты последней четверти столетия изменили структуру и топографию болгарского культурного ландшафта, сложившегося при первых Асенях. Если в начале XIII в. присутствие рядом с Тырновом “первопрестольного” Преслава было связано прежде всего с идеей преемственности от древнего Болгарского царства, то с началом междуусобиц возвышение удельных столиц стало приобретать иное значение. Известная со времен первых Асеней “Петрова земля”, центром которой был Преслав, еще в царствование Михаила II Асеня (1246—1256) обособилась как удел его соправителя — севастократора Петра1. Преслав сохранял роль удельной столицы и при Константине Асене — в цитированной выше надписи в церкви св. Троицы (1263/1264 г.) к нему наряду с Тырновом впервые применен эпитет “богоспасаемый град”. Его значение сохранялось вплоть до османского завоевания — новые хозяева Балкан назвали город “Эски Стамбул”, т. е. “Старый Царьград”2. Значение Средца, особенно выросшее в XI—XII вв. в связи с пребыванием здесь центра византийской власти в Болгарии, закрепилось в XIII в. в его роли как удельной столицы. С ранним этапом подъема города как удельного центра, на наш взгляд, связана ктиторская композиция в росписи знаменитой Боянской церкви (1259), где портреты супружеской пары местных государей — севастократора Калояна и Десиславы выписаны напротив изображений болгарской царской четы3. Авторитет Средца поддерживали и богатые церковные традиции города — места проведения одного из первых христианских соборов в IV в. и митрополичьей кафедры. Видимо, последнее и определило рост престижа города в XIV в. В приписке к Средецкому евангелию от 1329 г. говорится, что книга была написана “в святой Софии, Средецкой митрополии”4. Название кафедрального храма вскоре заменило “светское имя” города. 170 В Бдине — центре самого крупного удела, обособившегося еще в XIII в. и во второй половине XIV в. получившего статус “царства”, развивались собственные книжные и художественные традиции5. В построенном в Бдинском уделе в с. Долна Каменица в 30-е гг. XIV в. храме св. Богородицы напротив ктиторских изображений помещены не царские портреты, как в Боянской церкви, а образы местной владетельской четы — деспота Михаила с женой6. В течение XIV в. число “богоспасаемых” удельных столиц возрастает. В глоссе сборника, переписанного в 20-е гг. XIV в. для местного деспота, в будущем — болгарского царя Ивана Александра все традиционные “столичные” элементы формуляра ктиторской записи переносятся на Ловеч: “Сия книга написана... в богоспасаемом граде Ловече при архиепископе господине Симеоне и при благочестивом деспоте Александре и сыне его Михаиле Асене”7. Самостоятельным центром становится переходивший из рук в руки в многочисленных болгаро-византийских войнах последней трети XIII — первой трети XIV в. Несебр (Месемврия)8, в художественной и книжной культуре которого сочетались болгарские и греческие традиции при явном преобладании последних. В конце столетия обосабливается Добруджанский удел на северо-востоке с центрами в Калиакре и Карвуне9, но о его культуре нам почти ничего не известно. Умножение числа “столиц” и появление других претендентов на статус болгарского “Царьграда” создавали новые условия, в которых Тырново должно было отстаивать свое место основного центра болгарской культуры. Стабилизация положения в Болгарии после утверждения на троне Ивана Александра была отмечена в столице прежде всего подъемом книжной деятельности. В его основе лежали напряженные усилия близкого к царю круга, традиции которого, по-видимому, начали формироваться еще во время правления Ивана Александра в Ловече. Продукция тырновских идеологов — преамбулы царских грамот и других актов, глоссы и оформление предназначенных для царской библиотеки рукописей и пр. принадлежат к т. н. “канцелярской литературе”, получившей в XIV—XV вв. широкое распространение в православных славянских государствах, Литве, Валахии и Молдове10. Важнейшее свидетельство ее развития в первые годы 171 правления Ивана Александра — “Похвала” в Софийской (Кукленской) Псалтыри (Песнивце), переписанной для царя в 1336/1337 г. (Библиотека Болгарской Академии наук. № 2. Л. 311—312 об.) Идейное и художественное богатство “Похвалы” требует ее цитирования почти целиком: «Воспоем истинную хвалу Христу... давшему нам великого воеводу и царя царей, великого Иоанна Александра, православнейшего среди всех старейшин и военачальников, стойкого в битвах, рачительного и благоприветливого, румяного, благовидного, красивого внешне, легко преклоняющего колени [перед Господом], прямого осанкой, сладко очами на всех взирающего, ненареченного праведного судию вдовам и сиротам. Кто из нас, увидев этого царя, скорбным возвратится в дом свой? По мощи своей в битвах напоминает он мне второго Александра. И тот так же стремительно взял многие города силой и мужеством. Таким явился среди нас великий Иоанн Александр, царь всех болгар, показав себя в великих и ожесточенных сражениях, низложив державно греческого царя; и пленил он его, скитавшегося, своими руками, и захватил укрепленные города — Несебр и все Поморье с Романией, а также Бдин и все Подунавье до самой Моравы. Другие же города и селения, земли и села сами притекали и припадали к рукам этого царя. И, взяв руками всех своих врагов, бросил он их себе под ноги и установил во вселенной прочную тишину. Кажется мне, что явился нам этот царь новым Константином по вере и благочестию, сердцу и нраву, как скипетр, имея крест победоносный. Показав и явив хоругвь эту, он прогнал и рассеял все силы супротивные и гордые. Как мы упоминали о израильтянах, где описаны войны, что вели они с противниками, так и этот царь болгарский, уповая на победоносное древо, все силы врагов попрал державно и разогнал их крестной помощью. Никто из первых царей не кажется мне таким, как этот великий царь Иоанн Александр, похвала и слава болгар... Я же, сплетая радостные молитвы, скажу ему: “Радуйся, болгарский царь! Радуйся, царь царей! Радуйся, Богом избранный... Радуйся, воевода! Радуйся, заступник верных! Радуйся, болгарская хвала и слава! Радуйся, Александр! Радуйся, царь Иоанн... Радуйся, град Тырнов! Радуйтесь, его грады и страны!”»11. На язык и стиль “Похвалы” оказала несомненное влияние Псалтырь, которую она сопровождала. Употребляемые 172 здесь эпитеты и топосы имеют источниками различные традиции, переплетение которых выражает новый облик болгарской культурной модели в царствование Ивана Александра. Хотя основу “Похвалы” составляют апелляции к Константиновой легенде, мы имеем дело не с простым выражением традиционных болгарских представлений о царской власти, а с гораздо более сложными новыми ассоциациями. Так, дважды упомянутый эпитет “царь царей” не просто восходит к соответствующему библейскому топосу, но и перекликается с конкретными политическими тенденциями и событиями эпохи. В обстановке сепаратизма прослеженное нами выше дробление представлений о царстве заходит еще дальше, и царские эпитеты усваиваются не только удельным столицам, но и их правителям. “Семью царями”, противостоявшими сербским войскам в битве под Вельбуждом в 1330 г., названы в послесловии Стефана Душана к Законнику 1349 г. собравшиеся под знамена Михаила III болгарские удельные государи, одним из которых и был ловечский деспот Иван Александр12. В житии Стефана III Уроша Дечанского, написанном продолжателем сербского архиепископа Даниила приблизительно в то же время, что и “Похвала”, об этих государях говорится, что они “имели совершенную власть над землями и городами той страны, потому что были равны царю”13. Уместно вспомнить, что после упоминаемой в “Похвале” победы над императором Андроником III Палеологом Иван Александр покончил с последним из своих болгарских соперников — Белауром, присоединив его владения — “Бдин и все Подунавье до самой Моравы”14. Как и в других описанных выше случаях, наряду с включением новых элементов культурная модель приспосабливает к изменившейся ситуации традиционные формы. Выражение “царь царей” связывается и с Константиновой легендой. Победа Ивана Александра над другими претендентами на тырновский престол через него уподобляется Константинову торжеству над тетрархами. В тексте славянского перевода особенно любимой болгарским царем хроники Константина Манассии под заглавием “Царство Константина Великого, первого христианского царя” читаем: 173 “И когда получил Константин престол... узрел он Рим, раздираемый междуусобными распрями. Ведь власть тогда была во многих руках — принял бразды правления Максенций, а с ним вместе Север и Максимин. Константин же пошел на них... войной, победил и стал царем, самодержавным владыкой и защитником пастырей Христова честного стада...”15 Самый ранний из сохранившихся списков Манассиевой хроники был сделан по прямому указанию Ивана Александра священником Филиппом в 1345 г. с уже имевшегося в царской библиотеке текста. Несколько позже хроника была “переиздана” в богато иллюстрированном кодексе — Ватиканском списке16. Подробное описание битв Константина с соперниками болгарский царь мог прочесть и в хронике Иоанна Зонары, переведенной для него в 1332—1334 гг.17 Любопытно, что создание указанных памятников отделяла от Константиновой кончины ровно тысяча лет. Хотя главным противником Ивана Александра в “Похвале” выступал, как того и требовала культурная модель, “греческий царь”, уподобление болгарского государя Константину имело более глубокий смысл, нежели простое следование литературному этикету, а эпитет “царь царей” отводил не только к Псалтыри, но и к истории основания нового христианского царства после эпохи смут и мятежей. Обратим внимание, что в хронике Манассии Константин назван “тишайшим”18 (ПРЕТИХЫЙ), что также корреспондирует с “Похвалой”. Другая интерпретация Константиновой легенды представлена в еще одной похвале Ивану Александру при знаменитом Лондонском Евангелии (1355/56 гг.), которое также вышло из придворных кругов, непосредственно занятых формированием официальной идеологии Болгарского царства. Здесь болгарский царь уподобляется первому христианскому императору через обретение и воздвижение Креста Господня, с которым сравнивается создание царского Евангелия, богато украшенного и снабженного множеством миниатюр: “...благоверный, христолюбивый, превысокий и боговенчанный самодержец царь Иван Александр обрел его [Евангелие] и изъявил Божественное желание, чтобы оно было переведено с греческих словес на нашу славянскую речь и выложено на показ, обковано позолоченными досками, а изнутри украшено с помощью художества живописцев животворными образами 174 Господа и его славных учеников, выписанных светлыми красками и золотом. Это и было сделано во утверждение его царства. Как великий от святых царь Константин вместе с матерью своей Еленой извлек из недр земных животворящий Крест Господень, так и он — это Четвероблаговестие”19. Скипетр в виде креста, упоминаемый и в первой похвале, сопровождает парадные изображения Ивана Александра в книжных миниатюрах и фресках20. Связанная с Воздвижением Креста тема торжества православия должна была подчеркнуть благочестие монарха, в 50—60-е гг. XIV в. активно выступившего против ересей. Если в начале правления Иван Александр помощью крестного знамения побеждал политических противников, то теперь царь выступал против врагов христианства. Не исключено, что конкретным поводом к актуализации борьбы против еретиков стала женитьба царя в конце 40-х гг. на крещеной еврейке Феодоре и провозглашение ее “богоданной” и “новопросвещенной” болгарской царицей21. Два собора против еретиков, проведенные в Тырнове между 1350 и 1360 гг., осудили сторонников Варлаама Калабрийского и Акиндина, побежденных в длительном споре с константинопольскими и афонскими исихастами, а также адептов ересей, которые активно распространялись на Балканах на фоне апокалиптических настроений, вызванных первыми набегами османских турок22. Одним из главных идейных акцентов “канцелярской книжности” Ивана Александра было подчеркивание династической преемственности болгарского царя от Асеней. Эта тема открывается еще глоссой Ловечского сборника, где сын Ивана Александра Михаил назван династическим именем Асень, и продолжается в “Похвале” 1337 г. Как бы нарекаясь заново династическим именем тырновских государей — “Иоанн”, Александр утверждается на болгарском престоле не только как победитель других претендентов-”царей”, но и как законный наследник первых Асеней. Ссылки на “православных, благочестивых и христолюбивых болгарских царей, дедов и прадедов” Ивана Александра и “дедовские и прадедовские” права на болгарский престол содержатся в Зографской грамоте от 1342 г.23 В другой грамоте, изданной в пользу месемврийского монастыря св. Николая в 1354 г. болгарский царь называет “дедом” своего царства Ивана II Асеня24. В несколь175 ко более позднем неофициальном тексте Иван Александр назван происходящим “с двух сторон от царского колена”25, что может свидетельствовать о закреплении идеи династической преемственности царя от первых Асеней в различных слоях болгарского общества. Эта идея находит яркое выражение и в болгарских дополнениях к Манассиевой летописи. Как убедительно показала М. Каймакамова, в комплексе они составляют самостоятельное историческое сочинение, напоминающее краткую хронику26. Начинаясь краткими комментариями к библейской легенде о Вавилонском столпотворении, эта “хроника” в сочетании со снабженными подписями иллюстрациями обрисовывала историю болгар до правления Асеней в ее “классических”, сложившихся еще в XI в. рамках — от перехода через Дунай до царствования Василия II Болгаробойцы. Последняя болгарская добавка к тексту Манассии гласила: “И от этого царя Василия было Болгарское царство под греческой властью до самого Асеня Первого, царя болгар”27. Центральные темы “краткой болгарской хроники” — смена царств и история христианства. Начав с “первого царя” Вавилона — Нимрода, болгарский комментатор кратко перечислил Египетское, Ассирийское, Мидийское и Персидское царства, дополнил повествование Манассии выделением соответствующих заголовков и отдельными сведениями. К истории Римской и Византийской империй добавлены сведения о Христе и первом Вселенском соборе. Первое дополнение, которое составитель связал с современной ему эпохой, относится к переходу болгар через Дунай: “При Анастасии царе (491—518. — Д. П.) начали болгары осваивать (ПОЕМАТИ) эту землю, перейдя [через Дунай] у Бдина, и прежде начали осваивать Нижнюю землю Охридскую, а потом и всю эту землю. От исхода болгар доныне 870 лет”28. Применяя к приходу болгар за Дунай библейский термин “исход”, автор “дополнений” не только хронологически, но и идеологически установил первую точку отсчета болгарской истории в мировом круговороте “смены царств”. Вторая веха связана с основанием Болгарского государства: “При этом Константине царе (Константине IV Погонате — 668—685. — Д. П.) перешли болгары через Дунай и отняли у 176 греков землю, в которой, разбив их, живут и поныне. Ранее эта земля называлась Мизией. И были они бесчисленны, захватили и ту сторону Дуная, и эту до Драча и далее, ибо и волохи, и сербы, и все прочие суть одно”29 (имеется в виду их подчинение в те времена болгарам. — Д. П.). Третья веха, связанная с современностью,— крещение болгар: “При сем Михаиле царе (Михаиле III — 842—867. — Д. П.) и при матери его крестились болгары. С тех пор доныне лет 511”30. Наконец, последнее известие, связываемое с временем создания рукописи, повествует о падении Болгарского царства. Автор вновь повторил, что “болгары до Охрида и до Драча и далее царствовали”31, живописал зверства Василия II над пленными болгарами и заключил повествование цитированным выше упоминанием Асеня I. Последнее сведение может показаться оборванной мыслью, но, на наш взгляд, оно логично завершает идейную линию в тексте официального характера, предназначавшемся для царской библиотеки. Иван Александр восстановил Болгарское государство, восходившее, как и другие земные царства, к библейским корням. Именно от царствования Ивана Александра ретроспективно отсчитываются главные вехи истории болгар — “исход” и образование государства, крещение и утрата независимости. Болгарское царство было восстановлено первым из Асеней, преемником которого являлся заказчик хроники Иван Александр. Уже в “Похвале” 1337 г. вновь, как и в книжности эпохи Ивана II Асеня, занимает подобающее место болгарская столица — “Царьград Тырнов”. В переводе Манассиевой хроники Тырнову переадресована похвала, в оригинале предназначавшаяся Константинополю: “Вот что приключилось со старым Римом, наш же юный Царьград растет и мужает, крепнет и молодеет. Пусть растет он вечно, о царь, над всеми царствующий, принявший этот сияющий, светоносный дар, царь, великий владыка и славный победоносец [от корня Иоаннова, величавого царя болгар Асеня. Говорю я об Александре — кротчайшем и милостивом, покровителе монахов и кормильце нищих, великом царе болгар], пусть в его царстве без счета восходит солнце”32. Квадратными скобками нами обозначено собственно болгарское дополнение к основному тексту, заместившее похвалу покровителю Константина Манассии — императору Мануи177 лу I Комнину (1143—1180). Начало похвалы Константинополю, помещенное в пассаже о Константине Великом: “И возвел он там славный город... Новый Рим, Рим нерушимый и никогда не стареющий, Рим, молодеющий внешне и всегда обновляющийся, Рим, из которого льются благостные потоки, который ласкает море и обнимает суша, который ласкают ладони Европы и целуют уста Азии...”33 — не подверглось редакции болгарского книжника. Тема Царьграда Тырнова нашла дальнейшее развитие в целом ряде произведений “канцелярской литературы”, относящихся к 40—50-м годам XIV в. Это глосса Теотокия Псилицы в Евангелии, переведенном “повелением и трудолюбивым тщанием всеосвященного патриарха богоспасаемого Царьграда Тырнова и всей Болгарии господина Симеона”34, и приписка Германова сборника 1359 г., созданного “в царство благоверного и превысокого, самодержавного и христолюбивого, прекрасного царя Ивана Александра и багрянородного Ивана Шишмана, при патриархе всеосвященном Феодосии богоспасаемого Царьграда Тырнова”35. Формула “Царьград Тырнов” в это время является частью титулатуры тырновского патриарха и фигурирует, например, в подписях патриарха Феодосия II в послании к зографским инокам: “Феодосий, милостью божьей патриарх Царьграда Тырнова и всех болгар”36. В комплексе перечисленные тексты формировали идею Тырнова как “нового Царьграда”, которая в данных исторических обстоятельствах могла противопоставлять болгарскую столицу Константинополю прежде всего в качестве самостоятельного православного центра37. Тырновские святыни, накопленные первыми Асенями, продолжали освящать авторитет стольного града болгар. При подписании договоров с иностранными державами Иван Александр полагал клятвы именем св. Параскевы-Петки38. В правление Ивана Александра изначальная черта болгарской культурной модели — противопоставление своей столицы византийской метрополии, приобретает новые измерения. Тырново соотносится не с современным ему Константинополем, а с византийской столицей эпохи Комнинов. Как мы отмечали выше, еще в “Пандеховом сказании” XIII в. в качестве последнего православного государя Царьграда упоминается Мануил I Комнин. Кругу придворных книжников 178 Ивана Александра принадлежит сокращенный перевод сочинения популярного хрониста Комниновской эпохи Иоанна Зонары с дополнениями, касающимися правления Алексия I Комнина39. Болгарский текст хроники Зонары послужил одним из источников болгарских дополнений к сочинению Константина Манассии и, видимо, был известен автору “Похвалы” 1337 г. До эпохи Комнинов продолжено изложение событий еще в одном переводе, выполненном в эпоху Ивана Александра — “Летовнике” Симеона Метафраста40. В качестве образца при выполнении болгарского (“Ватиканского”) списка Манассиевой хроники для тырновской царской библиотеки был использован иллюминированный кодекс константинопольского скриптория Комниновской эпохи41. Сохранившееся по сей день роскошное Евангелие, вероятно происходящее из того же скриптория, стало моделью для семейного евангелия Ивана Александра42. Таким образом, столица болгарского государя, “юный Царьград”, наследовала не славу побывавшего в латинских руках и запятнанного унией с латинянами палеологовского Константинополя, а освященный авторитет древней столицы Константина и последних носителей его славы — Комнинов. Другая особенность официальной идеологии эпохи Ивана Александра касалась болгарской концепции православного мира. Как мы видели, идея множественности православных царств, рождение которой было связано с упадком Византии в конце XII в. и падением Константинополя в 1204 г. и которая была своевременно зафиксирована болгарской апокрифической литературой, к этому времени основательно потеснила в культурном сознании болгар ранее господствовавшую биполярную модель болгаро-византийского симбиоза-противостояния. Современное Ивану Александру Греческое царство теперь было для болгар уже не восточной частью имперского пространства, а лишь одним из государств православной общности. Цельным манифестом официальных болгарских представлений о последней выглядит аренга грамоты, изданной Иваном Александром с согласия Иоанна V Палеолога в 1342 г. Зографскому монастырю на Афоне. Описывая афонское монастырское сообщество, грамота от лица болгарского царя излагает четкую концепцию православной общности: “Там находятся постройки всякого православного рода и 179 языка, в первую очередь и прежде всего — болгар и греков, потом же — сербов, русов и иверов...”43 Символическую “семейную” иерархию балканских государей, характерную для представлений IX—Х вв., вытесняет констатация действительных семейных связей: “По истинной и нелицемерной любви, которую мое царство питало к превысокому греческому царю, возлюбленному брату и свату моего царства господину Андронику Палеологу до самой его смерти, но и после его смерти не изменившейся, но удвоившейся по отношению к его сыну — превысокому царю греков Калояну Палеологу, возлюбленному племяннику и свату моего царства...”44 Как в “канцелярской книжности”, так и в политической практике эпохи Ивана Александра на фоне идеи множества православных царств подчеркивалось первенство болгарского Царьграда среди их столиц. В 1346 г. тырновский патриарх Симеон с санкции Ивана Александра принял участие в возведении в сан патриарха сербского архиепископа и в коронации Стефана Душана царским венцом45. Недопустимой актуализацией выглядят упреки в “предательстве болгарских интересов”, обращаемые за это к царю некоторыми современными исследователями. На наш взгляд, трудно объяснимая только с точки зрения политической целесообразности щедрость, с которой Болгария поделилась с соседями атрибутами высшей имперской и патриаршей власти, также являлась выражением изменившейся как в болгарской, так и в сербской общественной мысли модели миропорядка. Если первый король из династии Неманичей — Стефан Первовенчанный рассуждал, что одним народам Господь даровал цесарей, другим — королей, “расставив над всеми владык по нраву и закону” (1200)46, то Стефан Душан в послесловии к “Законнику” категорично заключает: “По Божию изволению поставиша царя во всякую православную веру”47. Концепция множественности православных царств отразилась в исключении Тырновской патриархией в 40—60-е гг. XIV в. имени константинопольского патриарха из “диптихов живых” — возглашаемых на литургии списков церковных иерархов. Продолжая неканоническое поведение патриарха Симеона, его преемник Феодосий узурпировал полномочия Вселенского первосвятителя и в 1352 г. рукоположил во митрополита “всея Руси” одного из претендентов на главенство в 180 Русской церкви Феодорита48. И вновь было бы неправильно видеть в этом поступке, как и в произошедших шестью годами ранее сербских событиях, только следствие конфронтации с Константинополем. На наш взгляд, это также была попытка на деле утвердить идею равенства православных царств. Возможно, к тем же сюжетам имеет отношение и переадресовывание в рукописной традиции “Успения Кириллова” XIV— XV вв. первоначального благословения “Да укрепит Бог Болгарское царство” — “всем царствам православных христиан”49. На то, что концепция множественности православных царств не усиливала, а ослабляла базовую оппозицию болгарской культурной модели — противопоставление “болгары — греки”, указывает, на наш взгляд, и появление в титулатуре Ивана Александра упоминания о власти над обоими народами50. Эту особенность, кстати присущую не только болгарской, но и сербской царской титулатуре, следует рассматривать и как отражение действительной этнополитической ситуации, когда под властью болгарских и сербских государей оказались области с греческим населением. Обычной практикой и в Болгарии, и в Сербии становится издание грамот на греческом языке. В свою очередь, ссылки на акты болгарских государей появляются в византийских документах, а также в актах сербских правителей, происходящих из пограничных болгаро-сербских территорий. “Канцелярская литература” времени Ивана Александра находит близкие параллели в соседних православных государствах. Достаточно, например, рассмотреть “Похвалы” 1337 и 1356 гг. на фоне близких к ним по времени аналогичных византийских, сербских и русских памятников, чтобы убедиться, насколько тесно сближаются в это время идейные акценты культур народов православной общности. В “Житии Григория Синаита”, написанном Вселенским патриархом Каллистом в середине 50-х гг. XIV в., болгарский царь характеризуется следующим образом: “[Григорий Синаит] услышал об удивительной славе и благочестии, о доблести и полководческом таланте, а также о замечательном благоразумии и доброте Александра... что он милостив и богобоязнен, исполнен благотворения и благодеяния, помогает нуждающимся и щедро раздает то, что дает ему Бог...”51 181 Почти тот же набор качеств посмертно усваивается русскому современнику Ивана Александра — московскому князю Ивану Калите в глоссе т. н. Сийского евангелия 1339/40 г.: “Правду любящий, не по мзде судящий... при нем будет тишина великая в Русской земле, и воссияет в дни его правда, как и было при его царстве. Сему благородному князю великому Ивану, сотворившему в Русской земле дела, подобные правоверному царю Константину...”52 К тем же местам Св. Писания для характеристики старшего современника Ивана Александра — короля Стефана II Милутина обращается его сербский агиограф архиепископ Даниил: «Еще возрастом будучи млад, благодатию Божьей был он высок, и все отечество его украшалось им, видя наперед, что в дни его поживет в доброй вере и чистоте, дабы явиться страшным для своих врагов. Ибо сказано: “Засияет в дни его правда и множество мира”. И пророк Исаия глаголет: “И дам я меч мой в руку ему, и иссечет он плоть врагов своих”. И пророк Давид: “И поклонятся ему все цари земные, и все языки подчинятся ему”, и он же: “Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его...”» Сравнивается Милутин в тексте жития и со “славным Константином”53. Анализируя эпитеты, щедро отправляемые “канцелярской литературой” в адрес болгарского царя, К. Куев счел их “отблеском уходящего мира”54. На наш взгляд, этот мир — византийско-славянская духовная общность — не только не собирался уходить, но и вступал в пору своего расцвета. Его наиболее ярким выражением были не столько идеологические феномены, сколько основополагающие для него духовные ценности, лежавшие в сфере общего вероисповедания и связанных с ним святынь и обрядов. Как писал И. Божилов, “истинный центр духовной жизни страны находился вне царских покоев, и царь не был ни его организатором, ни руководителем”55. И действительно, внимательный обзор культурной деятельности в Болгарии 30—60-х гг. XIV в. приводит к неизбежному выводу о том, что источники главных течений в ней лежали не только за стенами Тырнова, но нередко и вне пределов Болгарского царства. 182 § 2. Болгарская культура в контексте византийско-славянской общности середины — второй половины XIV в. Роль ведущего центра болгарского духовного развития на фоне падения авторитета и значения Тырнова еще в конце XIII — начале XIV в. стала переходить к Афону. В это время наряду с подъемом Зографского монастыря св. Георгия, называемого с 80-х гг. XIII в. в афонских актах “болгарским”, активизировалась книжная деятельность болгарского монашества в Великой Лавре св. Афанасия и других обителях Святой горы56. Cтабилизация внутриполитического положения и суверенитета Болгарии в первой трети XIV в. обусловила более интенсивное общение между Афоном и Тырново. Еще при Михаиле III Шишмане сложилась традиция знаменовать заключение союзных договоров с Византией пожалованиями Зографскому монастырю. В 1325—1327 гг. по просьбе болгарского царя императорами Андроником II и Андроником III обители были пожалованы села Превиста и Сотирих57, а в 1342 г. Иван Александр с разрешения Иоанна V Палеолога подарил Зографу село Хантак, издавна бывшее предметом спора между болгарским монастырем и сербской обителью Хиландар58. Имущественные конфликты между греческими и славянскими монастырями Афона были, несомненно, связаны с обострившимися в это время взаимоотношениями балканских стран59. Однако вряд ли стоит переносить эти противоречия на культурное взаимодействие афонских монастырей, модель которого сформировалась, как мы видели, еще в конце XII — начале XIII в. По-видимому, столкновения имущественных и политических интересов не оказали решающего влияния на духовную атмосферу святогорского сообщества, сочетавшую этноконфессиональный характер отдельных монастырских братств с их совместной деятельностью по формированию и укреплению культурного единства восточноправославного мира. В 30—60-е гг. XIV в. именно Афон был главным генератором новых тенденций в культуре не только южных, но и восточных славян, а также православных жителей Валахии и Молдовы. По крайней мере два направления духовной жизни 183 афонских старцев, отчетливо обозначившиеся в это время, сыграли исключительную роль в единении культур православных славян — исихазм и второе после кирилло-мефодиевской миссии массовое “преложение книг”. Истоки исихазма лежали в монашеской практике уединения и молитвенной медитации, традиционной для обителей христианского Востока. На Афоне ее распространению в начале XIV в. способствовал синайский монах Григорий, ставший основателем духовного направления, под знаком которого прошла в Болгарии и Византии вся вторая половина столетия. В начале царствования Ивана Александра Григорий Синаит оставил Афон, где его благочестивое уединение нарушали участившиеся нападения турок, и поселился в местности Странджа в болгаро-византийском пограничье. Здесь он основал монастырь Парория, одним из ктиторов которого стал болгарский царь, и “быв первый учитель болгаром и сербом умного делания по преданию и художьству древних отец”60. Под его духовной опекой в обители подвизались будущий Вселенский патриарх Каллист, первые болгарские исихасты Феодосий Тырновский, Ромил Бдинский, Иларион и еще многие выходцы из сербских и болгарских земель61. “Умное делание” сочетало непрерывную истовую внутреннюю молитву и изощренную практику медитации. Очищаясь от греховной суеты, тело аскета как бы возвращалось к первоначальному состоянию, вновь обретая способность непосредственного общения с Богом. “Учитель безмолвия” св. Григорий Палама писал: “Неужели Он не соизволит сотворить себе обиталище в человеке, явиться ему и говорить с ним без посредников, когда человек этот не только благочестив, но освящен и заранее очищен в своем теле и душе соблюдением заповедей Божьих?..”62 Персонификация этого общения через личное озарение исихаста излучаемыми Божеством непосредственно ему “энергиями” вела к формированию ярко индивидуальных личностей63. Вынужденные в 30—40-е гг. XIV в. отстаивать исихазм от обвинений в ереси, многие его последователи во главе со св. Григорием Паламой, который стал солунским архиепископом, повели активную борьбу с противниками. Характерные портреты православных священнослужителей-исихастов ярко выписаны в трудах Д. Оболенского, о. И. Мейендорфа и Г. М. Прохорова64. По 184 словам последнего, «не переставая спасаться от мира, эти люди почувствовали себя в силах начать “встречное движение” в мир». Результаты этого “встречного движения” для византийско-славянского мира были огромны и разнообразны. Вместе с тем в научной литературе есть тенденция рассматривать исихазм как некое всеобъемлющее течение, распространившееся на Афоне уже с 30-х гг. XIV в., во Вселенской патриархии — с 1351 г., когда противники исихастов — варлаамиты были официально осуждены как еретики на церковном соборе в Константинополе, и в Болгарии — после аналогичного собора 1360 г. На этом основании нередко любой болгарский церковный деятель или даже книжник-мирянин второй половины XIV — начала XV в. зачисляется в исихасты только по времени своей деятельности65. Еще с классическими работами К. Ф. Радченко и П. А. Сырку обозначилась и другая тенденция — противопоставлять исихастов как носителей “византинизма” некоей “национальной партии” болгарского духовенства66. Общим местом многих трудов является непосредственное связывание исихазма с масштабным “исправлением славянских книг”, которое начинается в афонских и балканских монастырях в первой трети XIV столетия67. На наш взгляд, для установления реальных масштабов влияния исихазма на средневековую болгарскую культуру необходимо прежде всего проследить судьбы людей, книг и произведений, созданных в первоначально узком кругу парорийских исихастов или афонских монахов — справщиков богослужебной литературы. К сожалению, ни сведения источников, ни состояние и изученность рукописной традиции не всегда позволяют это сделать с удовлетворительной степенью точности, но приводимые ниже примеры представляются нам весьма показательными для понимания общих тенденций развития византийско-славянской общности в середине — второй половине XIV в. Естественно, Парория не была единственным исихастирием в болгарских землях — мы знаем о существовании подобных обителей в окрестностях Бдина, Сливена, Тырнова. Однако именно монастырь, основанный св. Григорием Синаитом “между болгарскими и греческими землями”, стал главным притягательным центром для болгар185 ских иноков и послушников, стремившихся приобщиться Божественных энергий. Жития св. Григория Синаита и его болгарских учеников — свв. Феодосия и Ромила, написанные также бывшими парорийскими монахами — патриархом Каллистом и Григорием, сообщают об интенсивной книжной и переводческой деятельности в этой обители, где к году смерти Григория (1346) подвизалось около семидесяти монахов — греков и славян68. Единственная известная рукопись, происходящая из Парории, это т. н. Хлудовский сборник (ГИМ. Хлуд. 237), содержащий, помимо обычных для монашеских сборников патериковых и учительных текстов, отрывок “знакового” для исихастов произведения — “Диоптры” византийского богослова XI в. Филиппа Монотропа69. Текст снабжен специальной заметкой переписчика рукописи: “Сию главу переписал я (ИЗВЕДОХЪ) из книги, называемой Диоптра, с греческого языка на болгарский”. Вторая приписка, более поздняя, чем остальной текст рукописи, уточняет время и место ее создания: “Эти же две главы выписал Фудул, переведя с греческого на болгарский, когда мы были в Парории всей братией”. Хлудовскому сборнику близок другой аналогичный кодекс, ныне хранящийся в Вене и переписанный “грешным Ратко” — сербом, почерк которого, по мнению компетентного австрийского исследователя Х. Микласа, идентичен руке автора еще одной приписки в Хлудовском сборнике. Она гласит: «А это Грубадин писал [для] кефалии в башне за городом, и если кто-либо прочтет эти словца, молю вас, братия, скажите: “Да простит Бог грешного Грубадина”»70. На основании этих записей автор считает Грубадина писцом основного текста Хлудовской рукописи и переводчиком “Диоптры”, а Ратко и Фудула — двумя из парорийских монахов, окружавших книжника, — соответственно болгарином и сербом. Однако, “грешный Грубадин”, пишущий с характерными сербизмами, явно не идентичен неизвестному по имени автору рукописи — последовательному стороннику тырновского извода. Единственным известным болгарским писцом Хлудовской рукописи, таким образом, остается Фудул (Феодул). Через несколько лет после смерти св. Григория Синаита изменения политической и военной обстановки в этом районе вынудили парорийских иноков сжечь свою обитель (ее точное 186 местонахождение неизвестно до сих пор71) и, разделив книги и церковную утварь, разойтись в разные стороны. Ратко и Фудул, по мнению Х. Микласа, могли унести часть книг Парории в Зографский монастырь на Афоне, где был сделан список сборника с отрывком из “Диоптры”, впоследствии попавший в сербские земли. На Афон из Парории удалились Ромил и Григорий. Ромил по прошествии времени оставил Святую гору и жил вначале в окрестностях Авлоны, а потом в сербском монастыре Раваница, где и почил в начале 80-х гг. XIV в. Григорий находился в постоянном контакте со своим учителем и после смерти св. Ромила составил его житие, известное в греческих и славянских списках, близких времени создания72. Хорошо известны пути и некоторых других парорийских иноков. Каллист еще при жизни Григория Синаита обосновался в Константинополе, где, кстати, жил до ухода в Парорию и монах Григорий — будущий агиограф Ромила Бдинского. Византийская столица и впоследствии принимала болгарисихастов. Во второй половине XIV в. в монастырях св. Иоанна Предтечи (Студийском), св. Богородицы Перивлепты и других византийских столичных обителях с болгарских протографов русскими книжниками были сделаны списки “Диоптры”, “Лествицы” и иных классических исихастских сочинений73. Важным представляется и другой, “серрский”, след парорийских иноков, также проходящий через Афон. В конце 40-х — середине 50-х гг. XIV в. Серрская область, до тех пор бывшая объектом болгаро-византийского соперничества, находилась во владениях Стефана Душана, а затем перешла к деспоту Углеше, установившему в Серрах свою столицу74. Важнейшей православной обителью здесь был монастырь св. Иоанна Предтечи. В 1360 г. серрский митрополит Иаков отослал на духовную родину св. Григория — в синайский монастырь св. Екатерины целую коллекцию богослужебных книг — Триодь, Часослов, Псалтырь, “Чтения” Иоанна Златоуста и пр.75 В 1371 г. по заказу преемника Иакова, серрского митрополита Феодосия, монах Исайя осуществил колоссальный труд по переводу с греческого корпуса сочинений св. Дионисия Ареопагита — вершины православного мистического богословия76. Эти факты дают немалые основания говорить о 187 присутствии и в серрском диоцезе прямых последователей св. Григория Синаита. Часть монахов Парории во главе с Феодосием отправилась в Болгарию, где в местности Килифарево близ Тырнова при поддержке царя Ивана Александра они основали монастырь св. Богородицы. По-видимому, здесь продолжалась работа над наследием св. Григория Синаита и было переведено с греческого его житие пера Каллиста, занявшего в 1350 г. Вселенскую патриаршую кафедру. Самим Феодосием, как предполагается, были переведены получившие большое распространение в православной славянской книжности “Главы зело полезные” парорийского игумена77. Характерной чертой исихастского сообщества был греко-славянский билингвизм. Упомянутый выше Ромил мог быть двуязычен с детства, происходя из смешанной болгаро-греческой семьи78. В “Житии св. Феодосия” описывается ученик болгарского подвижника Дионисий, знавший наизусть Св. Писание “на двух языках, эллинском и славянском, и от Бога имевший дар переводить умело и чудно с эллинского на славянский язык”79. Возможно, именно этот “иеромонах Дионисий” упоминается в качестве участника Тырновского собора 1360 г. Ему атрибутируется и перевод сборника проповедей Иоанна Златоуста “Маргарит”. Об этом упоминается в приписке, сделанной в XV в.: “[Эти слова] от эллинского писания на болгарский язык перевел воистину честный и изрядный во отцах дивный кир Дионисий”. Возможно, Дионисий покинул Болгарию вместе со своим учителем и, как следует из еще одной приписки, подвизался на Афоне вместе со св. Ромилом Бдинским80. Из скриптория Килифаревского монастыря, как предполагают исследователи, вышла известная своими многочисленными миниатюрами т. н. Псалтырь Томича81. Интересно, что в отличие от вышеупомянутых иллюминированных манускриптов тырновской царской библиотеки, образцами для которых послужили кодексы Комниновской эпохи, византийские прототипы этой рукописи также относятся к XIV в.82 Килифаревские иноки во главе с Феодосием были непреклонными и жесткими блюстителями православных догм. Между 1350 и 1360 гг. они принимали деятельное участие в тырновских церковных соборах, на которых подверглись 188 осуждению сторонники учения Варлаама Калабрийского и других ересей. Около 1361 г. Феодосий и его ученик Роман направили Вселенскому патриарху Каллисту письмо с вопросами относительно каноничности отдельных действий и литургической практики Тырновской патриархии. В это время возглавлявший Болгарскую церковь соименный килифаревскому исихасту патриарх Феодосий продолжал независимую от Константинополя политику своего предшественника Симеона. В письме Каллисту килифаревские монахи сообщали об исключении из диптихов Тырновской церкви имени Вселенского патриарха, о распространении практики крещения в одно погружение с последующим обливанием и о помазании миром, изготавливаемым в Тырнове от мощей св. Димитрия и св. Варвара83. Их послание, по-видимому, вызвало негативную реакцию тырновского патриарха и обострило его отношения с Феодосием. В начале 60-х гг. исихаст вместе со своими учениками Романом и Евфимием отбыл в Константинополь, где и скончался в 1363 г. Каллист, успевший составить житие болгарского подвижника, вскоре также умер от чумы во время путешествия в Сербию. В 1364 г. на кафедре Вселенской патриархии вновь оказался ученик Григория Паламы — Филофей Коккин, и вскоре покойный архиепископ Фессалоник был канонизирован. Как в Византии, так и в Болгарии исихасты были поборниками активных действий по объединению православного мира, особенно актуальных перед лицом отчетливо обозначившейся османской опасности, и яростными противниками конфессионального компромисса с Римом, к которому склонялись светские власти Константинополя84. Сочинения Паламы пользовались популярностью среди южнославянских книжников — известны как переводы, созданные вскоре после смерти солунского исихаста, так и прижизненные произведения, сохранившиеся только в славянской версии, а также комментарии к ним анонимного болгарского книжника85. В переписке с Паламой состоял живший в Византии отпрыск Асеней — монах Павел. В Болгарии, как и на Руси, были популярны молитвы и проповеди патриарха Филофея, переведенные в последней трети XIV в. Евфимием Тырновским, митрополитом Киприаном и другими славянскими книжниками86. 189 Таким образом, творческое осмысление и распространение духовного наследия основоположников исихазма наряду с переводами и созданием списков аскетической литературы в середине — второй половине XIV в. создали среду небывало интенсивного и непосредственного духовного общения греческих и славянских книжников, нередко отождествляемую исследователями с собственно византийско-славянской общностью. В этой среде были возрождены первоначальные навыки греко-славянского двуязычия, обращение к святоотеческим корням православной духовной культуры в их исконном виде и объеме, непосредственная передача культурных ценностей от учителя к ученику. Из этой атмосферы, пронизанной, помимо прочего, и духом индивидуального творчества, берут начало продолжающиеся в XV столетии уже в иных исторических условиях личные связи учеников и учителей. Выдающийся славянский книжник первой половины XV в. Константин Костенецкий был учеником Андроника, который, в свою очередь, вышел из школы патриарха Евфимия, бывшего прямым учеником Феодосия, а через него — Григория Синаита. Как все известные болгарские книжники Симеонова Золотого века через одно-два “поколения” восходили к свв. “Учителям” — Кириллу и Мефодию, так через пять веков их духовные наследники были связаны с первоначально узким кругом афонских исихастов. Плотно переплетающееся с первым, но вполне самостоятельное второе направление духовного развития Болгарии и всего православного славянства в первой половине XIV в. было связано с пополнением и исправлением богослужебной и четьей книжности. Этого требовали и общая интенсификация духовной жизни, и внесенные под влиянием исихастов в литургическую практику новшества, и состояние славянского книжного наследия предшествующих веков, сильно пострадавшего от смут и войн. В это время Святая гора становится источником новых списков произведений болгарских книжников X в. и новых полных переводов святоотеческих текстов, ранее лишь фрагментарно переложенных на славянский язык книжниками Первого Болгарского царства. Среди последних были “Богословие” св. Иоанна Дамаскина, корпусы трудов св. Дионисия Ареопагита и проповедей св. Иоанна Златоуста и др.87 190 Одним из выдающихся болгарских книжников, работавших в Лавре св. Афанасия в первой половине XIV в., был старец Иоанн. Его ученик Мефодий описал труды старца так: “[Таковы были] изложения преподобного отца нашего Иоанна, который перевел с греческого на болгарский наш язык, избравши на Святой горе Афонской и в Лавре богоносного отца нашего Афанасия... Четвероевангелие, Пракс-апостол, Литургию, Типик, Псалтырь, Богородичник, Минею, Агирист, Богословие, Лествицу, Исаака [Сирина], Варлаама [и Иоасафа], [авву] Дорофея, Патерик, Антиоха [Черноризца] и иные многие [книги] сочинил и передал Божественным и святым церквам Болгарской земли”89. Труды Иоанна были продолжены его учениками (только Мефодий переписал семь Псалтырей, пять Часословов, четыре Устава, три Лествицы, Осмогласник и многие другие книги). К кругу Иоанна, помимо Мефодия, принадлежали Иосиф, переведший Постную триодь, и переводчик кратких синаксарных объяснений к Цветной триоди Закхей Философ Загорянин (т. е. болгарин. — Д. П.), возможно также переложивший “с греческого на болгарский” “Слова постнические” Исаака Сирина90. В середине — второй половине 60-х гг. XIV в. на Афоне пребывал ученик и сподвижник Феодосия Тырновского Евфимий. Будучи иноком в Лавре св. Афанасия, он, вероятно, познакомился с результатами работы афонских справщиков и воспринял ее основные принципы. Вернувшись в Болгарию после смерти Ивана Александра в 1371 г., Евфимий основал близ Тырнова новую обитель св. Троицы и развернул в ней еще более интенсивную, чем в Килифареве, книжную деятельность по переводу “от елладского языка на болгарский”91. Уединенный монастырь вскоре превратился в один из важных центров византийско-славянского и межславянского культурного общения. Евфимиев монастырь стал новым притягательным центром для православных книжников из различных земель охваченного политической раздробленностью Балканского полуострова и даже из Восточной Европы. По словам ученика и биографа Евфимия Григория Цамблака, “у пещеры появился рой учеников, сколь многочисленных, столь и почтенных, столь и достойных такого отца... Принял он себе в ученики по апостольскому жребию множество людей не только от болгарских родов, но и издалека, из всех север191 ных стран до самого Океана и из западных до Иллирика привлекала мужей его добродетель... Узнав о их усердии, подражатель Христов призывал их к себе и досыта поил напитком благочестия. Так он стал их учителем в благочестии, а они — наставниками в своих отечествах”92. Активная деятельность Евфимия в качестве игумена св. Троицы сделала его признанным каноническим авторитетом. Он разъяснял многочисленные вопросы монашеской практики в ответ на послания Киприана — будущего московского митрополита, а позднее — Никодима Тисменского и Анфима — византийских клириков, направленных Филофеем в Валахию в начале 70-х гг. XIV в. “Какой из народов, родственных болгарскому по речи, не принял его писаний, его учения, трудов и пота того, кто вместо распространения евангельской проповеди пешим хождением действовал рукой, вместо сетей апостольских — пером?” — риторически вопрошал Григорий Цамблак93. Смысл книжной деятельности Евфимия он передал следующим образом: “...или из-за того, что первые переводчики не знали в совершенстве эллинского языка и учености, или из-за неловкости языка их переводы книг оказались несогласными в словах и по смыслу с греческими писаниями, нескладно связанными и неподходящими для устного произнесения. И только потому, что именовались они книгами благочестивых, было в них нечто верное, однако скрывался и многий вред, и сопротивление истинным догматам. Поэтому и произошли от них многие ереси...”94 Акцент на “устное произнесение” может указывать на преимущественно литургическое предназначение переводимых текстов. Как пишет Цамблак, “уничтожив все старые книги, этот второй законодатель сошел с вершины горы мудрости, неся в руках, подобно начертанным Богом скрижалям, книги, над которыми трудился”95. Состав и объем собственно Евфимиевых переводов не установлен, вероятно ему принадлежат болгарские тексты исправленных Филофеем литургий св. Василия, св. Иоанна Златоуста и Преждеосвященных даров, а также нескольких молитв константинопольского патриарха, известных по т. н. Евфимиеву Служебнику96. 192 Масштабы и характер проведенной патриархом реформы оцениваются учеными по-разному. Состояние рукописного материала не дает возможности выделить собственно Евфимиев пласт богослужебной книжности среди сохранившихся церковных рукописей XIV в. Однако, вряд ли уместно вслед за И. Талевым и К. Кабакчиевым вообще отрицать тырновское “исправление книг”97. Несомненно, троицкого игумена, в 1375 г. занявшего патриаршую кафедру, нельзя считать инициатором правки богослужебной книжности, начавшейся на Афоне еще в первой половине XIV в. и продолжавшейся в течение почти всего столетия в монастырях Святой горы, Константинополя, окрестностей Тырнова и в других балканских православных центрах98. В то же время, будучи активным проводником утвердившихся в Константинополе литургических новшеств в практику Болгарской церкви, Евфимий не мог не принимать в этом движении деятельного личного участия. Переводя, наряду с другими болгарскими книжниками как традиционные тексты, так и современные молитвенные и литургические сочинения Филофея, он стремился приблизить книжный болгарский язык своей эпохи к греческому по синтаксису, стилистике и даже, видимо, графике, следуя святогорской традиции т. н. александрийского письма99. Созданные в кругу Евфимия рукописи — Служебник и список Синодика Болгарской церкви написаны именно таким почерком. Более известно по многочисленным житийным, гимнографическим и поучительным текстам, носящим имя Евфимия, его литературное творчество. Здесь болгарский патриарх выступает как непосредственный продолжатель традиций эпохи первых Асеней. Как нам представляется, болгарская житийная книжность времени Ивана Александра не востребовала все тырновские тексты середины XIII в. Ни исторические произведения 30—50-х гг. XIV в., ни созданные в это время для царского двора богослужебные и четьи книги не включают болгарских сюжетов, известных по Драгановой минее и ранним спискам Пролога. Памяти славянским и болгарским святым сохранились в списках Нестишного пролога конца XIII — первой трети XIV в., как правило, созданных в западных болгарских и соседних сербских землях100. Старшие списки болгарского Стишного пролога, включающие 193 жития святых тырновского собора, датируются второй половиной XIV в.101 Разумеется, это не означало забвения традиций, т. к. культы св. Петки и св. Иоанна Рильского продолжали иметь официальное значение102, но новые акценты в традиционные для болгарской культурной модели сюжеты и образы тырновского комплекса культов святых внес именно Евфимий. Рукописная традиция сохранила четыре жития, четыре похвалы и несколько гимнографических произведений, принадлежащих тырновскому патриарху. В агиографических произведениях Евфимий широко использовал проложные жития Тырновского цикла, сложившиеся в 30—40-е гг. XIII в., нередко подвергая их серьезной идеологической правке. Став предстоятелем Болгарской церкви во времена османского завоевания, Евфимий не мог остаться в стороне от балканской полемики о путях спасения от турецкого нашествия. В Византии 60—70-х гг. XIV в. сторонником союза с “латинством” выступала светская власть в лице императора Иоанна V Палеолога, кстати подвергшего Евфимия гонениям в бытность его на Афоне, а последовательным идеологом православного единства являлся патриарх Филофей — собрат Евфимия по исихастскому сообществу. Акценты в духе политических взглядов константинопольских исихастов второй половины XIV в. расставлены прежде всего в агиографических произведениях тырновского патриарха. В житии св. Иоанна Рильского, дошедшем в двух редакциях, Евфимий возвратился к опущенному в Проложном житии сюжету встречи отшельника с болгарским царем Петром и включил в текст послание рильского подвижника, где выражалась позиция руководимой Евфимием Тырновской церкви. Подчеркивая, что земные богатства царя должны быть употреблены “для оружия и войска”, иерарх обращается к царю словами аскета: “Пади в ноги матери своей, Церкви, поклоняйся ей усердно и склоняй голову перед ее первопрестольниками”103. Аналогичную редакцию претерпел и текст о перенесении мощей святого в Тырново. Вместо краткого упоминания о том, что Иван I Асень “приказал священному патриарху Василию” сопровождать мощи в столицу, Евфимий включил в житие целое послание царя своему “духовному отцу”, проникнутое глубоким почтением к Церкви104. Другое 194 Евфимиево житие, посвященное св. Илариону Мегленскому, развертывает перед читателем или слушателем образ архиерея — ревностного борца против ересей и мудрого советчика “греческого царя Мануила”. Пользовавшийся особым авторитетом в Болгарии византийский император Мануил I Комнин, по словам автора, “выказывал и свидетельствовал этому архиерею всяческое смирение и покорство”105. Характерной чертой произведений, вышедших из исихастских кругов второй половины XIV в., становится активное неприятие “латинства”. В житие св. Петки, написанное по просьбе царя Ивана Шишмана, Евфимий включил следующий пассаж: «Когда минуло немало времени и скипетр Греческого царства ослабел, Божьим произволением, а как, мне неизвестно, римляне, которых Божественное писание называет “железной палицей”, завладели им. Заняв Царствующий град, они бесстыдно разграбили все священные сосуды, а также честные мощи святых, всю церковную утварь, все царские богатства и, проще говоря, всю красу Града — все они захватили и отправили в Рим...»106 Именно нечестивым латинянам, а не грекам-эпиротам, как было в действительности, противостоит в Евфимиевом житии “благочестивый болгарский царь Иван Асень, сын старого царя Асеня, светло, открыто и твердо сохранивший благочестие”. Царь “не устрашился их лая, и даже более, он нашел время, благоприятное для побед над нечестивцами, поднялся храбро и покорил всю Македонскую область, а также Сер со всей Афонской, точнее говоря, Святой горой, а кроме них и славный град Солунь со всей Фессалией, и Трибаллов, то есть Сербию, и Далмацию, что называется Арванитской державой, и так до самого Драча. В них он торжественно и благочестиво поставил митрополитов и епископов, как ясным своим ликом свидетельствуют светлые его хрисовулы в славной Лавре Святой горы и Протаты. Царь не удовлетворился этим, но крепко и мужественно покорил [все] и овладел всем до самого царствующего града. Он завоевал и покорил и сам этот царствующий град, а господствовавших там франков обложил данью”107. Этот рассказ, несоответствие которого исторической истине мог установить всякий прихожанин тырновского храма свв. Сорока мучеников, где находилась надпись Ивана II Асеня о победе над 195 Эпиром, также лежит в русле антикатолической позиции исихастов. Антиримским выпадом усилен и рассказ о перенесении мощей св. Филофеи в Тырново царем Калояном в Евфимиевом житии этой святой: “Римляне нашли благоприятное время и набросились люто и жестоко, причиняя невыносимые бедствия греческим областям...”108 Продолжается антиримская тема и в проповедях Евфимия. В похвале св. Михаилу Воину традиционная легенда о воине-змееборце привязана все к тому же времени, когда “римляне захватили совершенно весь род Греческий, чтобы вместе с прочим иметь под своей властью на долгие годы и царствующий Константинов град”109. Сражаясь в союзе с “римлянами” против “агарян”, Михаил едва не пал жертвой предательства латинян, испугавшихся множества неверных и оставивших его воинов одних сражаться с врагами110. Развернутый рассказ о битве Калояна с крестоносцами под Адрианополем помещен, как мы отмечали выше, в похвале св. Иоанну Поливотскому. Еще одна последовательно проводимая в трудах Евфимия идея — защита истинного христианства силами православных народов и помощью воссиявших в них святых — формирует новый контекст восприятия болгарской столицы. Житие св. Петки завершается молитвенным обращением к святой, где мы находим развернутое выражение ее культа как градозащитного: “Ты — красота, заступница и хранительница болгар! Тобой наши цари величаются! Твоим заступничеством противостоим мы всем воюющим против нас! Тобой наш град укрепляется и одерживает светлую победу! Сколько царей и варваров многократно хотели унизить и стереть твой славный град Тырново, где лежит всечестное твое тело! Но ты, будто некий славный воевода, силой, данной тебе Женихом твоим, Христом, отогнала посрамленных им...”111. Обращаясь в похвале св. Неделе (Кириакии) к монахиням тырновской обители св. Богородицы Темницкой (видимо, в качестве духовника этого особенно важного средоточием градозащитной благодати столичного монастыря), патриарх рисует впечатляющую картину страданий за веру. В похвале свв. Константину и Елене Евфимий обращается непосредственно к царю (“Сие тебе от нас, благочестивейший царь Иван 196 Шишман”), рисуя ему образ идеального христианского государя, “в брани — мужественного”, против варваров — великого, в междуусобицах — непобедимого, в вере — крепкого и непоколебимого”, гораздо более соответствующий времени османских нашествий, чем началу христианского царства112. Апофеозом идеи сакральной защиты Тырнова звучит финал похвалы св. Иоанну Поливотскому, где упоминается большинство столичных культов: “Прииди же, христианское племя, и возвеселись днесь! Призови окольные страны на славное торжество!.. Побуди к молитве отца, которого чествуем мы сегодня, чтобы и он побудил к молитве всех своих соседей... Говорю я о блаженном Иларионе... и о Иоанне, жителе Рильской пустыни, и о преподобной Параскеве, и о царствовавшей в этом и царствующей сейчас в будущем царстве Феофано, и о Филофее пустынножительнице, и с ними о всех святых...”113 Используя тексты времени первых Асеней, патриарх подверг их последовательной правке, целью которой было сглаживание прямых противопоставлений Тырнова Константинополю в духе идеи “Тырново — новый Царьград”114. Новое соотношение двух православных столиц — центральная тема финала службы св. Феофано: «Радуется днесь славный град Тырновский и призывает ту, что царствует над градами, говоря: “Сорадуйся мне, мать городов, ибо среди тех [святых], кого ты породила, ныне я радуюсь, получив в них помощников и заступников. Блажен, воистину блажен я меж градами, собрав добрые сокровища — честные мощи святых... Имея [общую] заступницу — Богоматерь, ее молитвами избавимся мы от общей беды”»115. Признание духовного приоритета Византии, в это время сжавшейся до крохотных кусочков средиземноморских побережий, отрезанной от Болгарии османским нашествием и, вдобавок ко всему, признавшей, как и другие балканские страны, вассальную зависимость от турок, было последней попыткой болгар сохранить культурную целостность византийско-славянской общности. Евфимий не только вернул имени Вселенского патриарха должное место в диптихах, но и не противостоял переходу в 80-е гг. XIV в. под омофор Константинопольской церкви Бдинского диоцеза, глава которого Иоасаф сохранил к нему самые добрые чувства116. 197 Как следует из приведенного выше пассажа о переложении книг, признание культурного первенства Константинополя коснулось и извечного греко-славянского диалога о языке. В памятниках Евфимиевого времени и круга отчетливо просматривается новое отношение к кирилло-мефодиевскому наследию. Литургический язык Тырновской церкви все чаще называется болгарским, первые переводы Св. Писания оцениваются не слишком высоко, а почитание свв. Кирилла и Мефодия, чьи жития отсутствуют в агиографических сборниках Тырновской церкви, ограничивается их упоминанием в Синодике117. Высокий авторитет славянских апостолов не подвергается этим сомнению, но работа их первых последователей оценивается достаточно критически. По-видимому, такая позиция была общей для святогорских исихастов. Около 1371 г. переводчик Ареопагитик инок Исаия писал: “И наш славянский язык был сотворен Богом совершенным и прекрасным, как и все, что создал Бог, но из-за отсутствия мужей, мудрых в слове и искусных в науках, он не стал столь изящным, как греческий”118. Для сравнения стоит упомянуть, что еще в 1348 г. в созданном по заказу Ивана Александра Лаврентьевом сборнике было воспроизведено Храброво “Сказание о письменах”119, проникнутое, как отмечалось, совершенно иной идеологией. Свое отношение к этой проблеме высказал позднее, в начале XV столетия, и Константин Костенецкий, считавший, что ни один современный ему славянский язык сам по себе не способен передать “изящество эллинского, или сирийского, или еврейского языков”, а первоначальный язык кирилло-мефодиевских переводов был синтезом всех славянских наречий120. Таким образом, процессы болгаро-греческого духовного сближения, инициированные распространением исихазма и укрепившиеся через новое приближение болгарской церковной книжности к ее духовному источнику — византийской святоотеческой традиции привели к становлению во второй половине XIV в. нового облика болгарской культуры. В творчестве Евфимия Тырновского впервые обретает завершенный и уравновешенный вид греко-болгарское духовное общение, в котором византийской “царице городов” соответствовал “второй по достоинству и словом и делом” стольный болгарский град Тырнов, где вслед за Вселенской патриархией воспева198 лась первая по достоинству из славянских Церквей — Болгарская, где славянская книжность гордилась преемством от греческих первоисточников. Новое решение многовекового спора между болгарами и греками точно и стабильно вписывало средневековую Болгарию в контекст византийско-славянской общности как неотъемлемую часть ее исторически сложившегося ядра. К сожалению, это происходило в обстановке османского завоевания, приведшего к гибели всего византийского сообщества, и начавшаяся новая трансформация болгарской культурной модели не получила всей возможной полноты развития ни в Болгарии, ни за ее пределами. 199 Глава VI СУДЬБА БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ К концу правления Ивана Александра Болгария окончательно распалась на уделы, крупнейшими среди которых были Бдинское царство, в 50-е гг. XIV в. выделенное в апанаж его старшему сыну Ивану Срацимиру, и Добруджанское деспотство, государями которого стали потомки правивших в Тырнове в конце XIII — начале XIV в. Тертеров. C 60-х гг. XIV в. на раздробленную страну обрушилось османское нашествие, о чем ранее других упоминают две глоссы — в списке Манассиевой хроники, хранившейся в тырновской царской библиотеке (“О, царь небесный, помоги нам против безбожных варваров, хотящих войны!”1), и в Осмогласнике, переписанном вдали от столицы: “Писана была сия книга... во время, когда Господь послал измаильтян по лицу всей земли, и пришли они, и поработили, и опустошили...”2 Сыну Ивана Александра, Ивану Шишману (1371—1395), выпала судьба быть последним государем Тырновской Болгарии. Он вступил на престол в год первой крупной битвы южных славян с османами — сражения при Черномене 26 сентября 1371 г., где были наголову разбиты войска крупнейших государей Южной Сербии и Македонии — короля Вукашина и деспота Углеши Мрнявчевичей. Османское продвижение после этой битвы уничтожило важнейшую координату исторического развития Болгарии — границу с Византией, и непосредственными соседями оттесненных за Балканский хребет болгар стали турки. Спустя несколько лет Иван Шишман был вынужден признать вассальную зависимость от султана Мурада (1351-1389), в гарем которого была отправлена сестра царя Тамара3. 200 Покорность болгарского царя и его участие в османских походах на Балканах и за их пределами не спасли страну от гибели. В 80-е годы турки завоевали Софийскую область, в 1393 г. взяли Тырново, а двумя годами позже — Никополь, куда Иван Шишман еще до захвата столицы перенес свою резиденцию. В 1396—1397 гг. настала очередь Бдина, который был захвачен османами после неудачного крестового похода европейских рыцарей за Дунай, возглавленного венгерским королем Жигмондом. Тогда же было подчинено и Добруджанское деспотство. Временное ослабление натиска турок после поражения, понесенного султаном Баязидом от среднеазиатского владыки Тамерлана в битве при Анкаре в 1402 г., лишь продлило агонию средневековой Болгарии, и в начале 20-х гг. XV в. вся страна была окончательно завоевана османами4. § 1. Болгарская культура на рубеже XIV—XV веков: кризис идентичности Немногие сохранившиеся тексты последних лет правления Ивана Шишмана проникнуты предчувствием неизбежной гибели Болгарии, но наряду с этим сочинения последних творцов столичной литературной школы продолжала питать надежда на земное спасение помощью сосредоточенной в Тырнове Божественной благодати. Ярких и исторически точных образов эпохи исполнен созданный монахом Ефремом в последние годы существования Тырновского царства “Молитвенный канон царю”. Обращаясь к Христу и Богородице (напомним, что градозащитный культ Приснодевы играл исключительную роль в культуре всех столиц средневековой Болгарии5), Ефрем просит их ниспослать помощь Ивану Шишману и его сыну Фружину для победы над “варварами-измаильтянами” и защитить болгарскую столицу6. Написанный между 1388 и 1393 гг.7 “Канон” — одно из последних произведений, в которых еще брезжит надежда на спасение народа и страны от османской опасности. После падения Болгарии это произведение, будучи переадресовано деспоту Стефану Лазаревичу, распространялось уже в сербских списках. Основную массу болгарского общества охватили апокалиптические настроения8, которые, в частности, выразились 201 в создании и распространении новых редакций популярных в XI—XIII вв. апокрифических пророчеств — “Сказания” и “Видения” Исаии, “Сивиллиной книги”, “Откровения св. Мефодия Патарского”9. Новыми характерными деталями дополнялись и сборники канонических текстов. Так, в минее конца XIV в., принадлежавшей тырновскому “царскому пчеларю” Димитру, помещен рисунок, видимо, выполненный самим владельцем книги. На нем изображены крепостные стены болгарской столицы — Тырнова, все внутреннее пространство которых занимает изображение патриаршей церкви Вознесения с парящей над ней птицей с женской головой. По наблюдению А. Милтеновой, рисунок соответствует тексту появляющегося в это время в сборниках апокрифического “Слова об Антихристе”10. О популярности среди жителей Тырнова ересей, выражавших эсхатологические ожидания населения на фоне османского нашествия, свидетельствует и “Похвальное слово патриарху Евфимию” Цамблака11. Автор рассказывает о “бесовском волхвовании и колдовстве”, которые “увлекли царских вельмож и властителей” и “толкали на великую беду православную паству”12. Простой люд Тырнова устраивал за городом сборища, перераставшие в оргии — характерную для Средневековья форму реакции на мессианскую проповедь. На фоне массового распространения эсхатологических настроений в культуре последнего периода существования средневековой Болгарии особенно рельефно проявилось индивидуальное начало. Не только известные творцы, но и безымянные авторы глосс на полях созданных в это время рукописей демонстрируют собственное видение мира, и поэтому наиболее показательным материалом для реконструкции содержания средневековой болгарской культуры в конце XIV — начале XV в., на наш взгляд, являются сочинения последних представителей болгарской средневековой книжности — манифесты индивидуального самосознания ее создателей и носителей. Инерция мощного культурного подъема второй половины XIV в. выдвинула в это время целую плеяду ярких творцов, сочинения которых позволяют детально и персонифицированно рассмотреть изменения болгарской культурной идентичности в эпоху османского завоевания. 202 Как и ранее, идентичность средневекового болгарина во второй половине XIV в. не сводилась к этническому самосознанию и определялась через целый ряд признаков, важнейшими среди которых были исповедание христианской веры, подданство, язык устной и письменной речи, этническая и родовая принадлежность, происхождение из традиционных и вновь сложившихся областей Балкан (Фракии, Мезии, Македонии, Романии, Загорья, Нижней Земли и пр.) или из сформировавшихся в этому времени феодальных уделов. Она соотносилась с мировыми координатами, в системе которых выделялись прежде всего соседние страны, а затем стороны и части света, прежде всего оппозиции “Запад — Восток” и “Европа — Азия”13. Османское нашествие повлекло за собой коренное изменение всего комплекса условий социальной и политической жизни болгар и соответственно привело к глубокому кризису идентичности, нашедшему отражение в текстах болгарских книжников конца XIV — начала XV в. Несмотря на различные обстоятельства биографий наиболее известных и плодовитых южнославянских писателей этого времени Иоасафа Бдинского (середина XIV в. — 1397), Григория Цамблака (60-е гг. XIV в. — 1420) и Константина Костенецкого (начало 90-х гг. XIV в. — после 1433), все они были последователями Евфимия Тырновского и продолжали традиции средневековой болгарской культуры. Их сочинения проникнуты открыто декларируемой авторами приверженностью идейному и культурному наследию последнего патриарха Болгарской церкви, изгнанного турками из захваченной столицы и закончившего свою земную жизнь в начале XV в. в Бачковском монастыре на юге болгарских земель14. Первый из перечисленных авторов, Иоасаф, в сентябре 1392 г. был рукоположен Константинополем на митрополию отошедшего от Тырновского диоцеза в XIV в. Бдинского удела15. В акте Вселенского патриарха Антония о его рукоположении говорится, что Иоасаф — “человек, измлада посвященный Богу, и по происхождению, состоянию, образу жизни и уважению... весьма любимый не только царем, но и всем этим городом, все население которого с великими хвалами и горячими мольбами желает видеть его предстоятелем”16. Видимо, будущий митрополит был коренным жителем Бдина, 203 который современники называли “преславным градом” и “страной изобилия” и в котором жили и болгары, и греки17. О дальнейшей жизни Иоасафа нам известно лишь то, что в 1394 г. он вместе с наследником престола Константином был направлен Иваном Срацимиром в захваченное турками Тырново, чтобы выкупить у османского наместника бывшей столицы мощи св. Филофеи18. Вероятно, тремя годами позднее он разделил участь избравших его жителей Бдина и погиб или был изгнан после захвата города османами. Пребывая в сане рукоположенного Константинополем главы митрополии, вышедшей из канонического подчинения Болгарской патриархии, Иоасаф в книжности оставался последователем ее главы Евфимия, о чем свидетельствует его “Похвала св. Филофее” — единственное дошедшее до нас произведение бдинского книжника. Краткая и в то же время емкая характеристика Григория Цамблака содержится в записи о его смерти, помещенной в Никоновской летописи под 6927 (1419/20) г.: “Тое же зимы умре Григорей митрополит Цамблак на Киеве, родом болгарин, книжен зело, изучен убо бе книжной премудрости всяцей из детства, и много писания, сотворив, остави”19. Здесь содержится четкое сведение о этнической принадлежности одного из самых замечательных деятелей восточнохристианского мира в интересующую нас эпоху. Достоверная биография Григория Цамблака (его прозвище свидетельствует о принадлежности к знатному и хорошо известному в Болгарии и Византии роду Цамблаков) начинается 1379-м г., когда юноша, “отроческий еще носяще возраст”, как пишет он сам в “Надгробном слове митрополиту Киприану”, присутствовал на торжествах по случаю приезда в Тырново этого сподвижника Евфимия20. В 1401 г. мы видим Цамблака иеромонахом и келейным иноком константинопольского патриарха Матфея, затем он был направлен в Молдову протоиереем кафедрального храма в Сучаве. Некоторое время Григорий пребывал в Сербии, где занимал высокую должность игумена Дечанского монастыря21. Видя, как предполагают, в Григории своего вероятного преемника, Киприан в 1406 г. вызвал его в Москву, но смерть митрополита помешала новой встрече. С 1409 г. Цамблак сблизился с великим литовским князем Витовтом и, следуя его курсу на расчленение митрополии “всея Руси”, 204 пятью годами позже дал согласие стать духовным главой отколовшейся от общерусского диоцеза Киевской митрополии, кафедра которой впоследствии была перемещена в Вильно. За этот шаг Григорий был отлучен от Церкви московским владыкой Фотием и константинопольским патриархом Иосифом II, но продолжал служение. Его последним крупным деянием стала поездка во главе делегации не подчинявшихся Москве православных клириков из Литвы, Великого Новгорода и Молдовы на собор Западной церкви в Констанцу в 1418 г., повлекшая за собой обвинения в отпадении от православия. Вскоре по возвращении в Киев митрополит умер от чумы22. Характеристика Константина Костенецкого умещается в эпитетах “Философ” и “Учитель Сербский”, усвоенных книжнику последующей рукописной традицией и уподоблявших его основателю славянской письменности св. Константину-Кириллу. О своем происхождении Константин писал, называя себя “пришельцем из стран Тырновских”23. Прозвище (в болгарской транскрипции — “Костенечки”) указывает на место его рождения — село Костенец в районе Пловдива, с чем согласуется и упоминание самого книжника об учебе в находившемся неподалеку Бачковском монастыре. Родившись, в отличие от своих старших современников Иоасафа и Григория, в уже покоренной турками части Болгарии, он получил образование у одного из учеников Евфимия — Андроника. В начале второго десятилетия XV в. Константин бежал из болгарских земель, охваченных османскими междуусобицами, ко двору сербского деспота Стефана Лазаревича (1402— 1427), при его жизни был придворным учителем, переводчиком и справщиком церковных книг, а после смерти правителя около 1433 г. написал его житие. После этого о Константине более ничего не известно24. Идейное содержание творчества перечисленных книжников изучено весьма поверхностно. Обычно оценки самосознания Иоасафа не заходят далее цитирования его хрестоматийной фразы о Евфимии: “Лучше бы солнце погасло, чем замолк Евфимиев язык!”25 Многочисленные исследователи творчества Григория Цамблака чаще всего сосредоточивают внимание на его “болгарском патриотизме”. В несколько более широком плане рассматривается идейное содержание про205 изведений Цамблака в специальных штудиях И. Петковой и И. Ф. Макаровой26. В Константине Костенецком одни авторы видят носителя болгарского этнического сознания, другие — представителя формировавшегося в XV в. нового христианского экуменического балканского самосознания27. Отдавая должное роли как этнического, так и конфессионального факторов в самосознании средневекового человека, обратимся к жизни и текстам указанных авторов как выражению цельного комплекса представлений, переживавших коренную трансформацию в эпоху османского завоевания. Отправной точкой идентичности средневекового человека были обстоятельства его земного рождения. Представления об отечестве, отчетливо сформировавшиеся в балканской православной книжности XIII—XIV вв., занимают важное место и в текстах авторов интересующего нас времени. Само слово “отечество” в средневековой болгарской литературе совмещало несколько семантических уровней. От переводов Писания шла традиция понимания отечества как родовой преемственности, впоследствии сформировались понятия о нем как месте рождения и в последнюю очередь, как об общности народа, территории, подданства и веры, к которым изначально принадлежал человек. Первоначально узко семейное и локальное, понятие “отечество” в средневековой болгарской книжности приобрело отчетливую этническую окраску к XIII столетию и сохраняло ее в сочинениях интересующей нас эпохи28. Даже монахи Евфимий и Киприан, истинным отечеством которых Григорий Цамблак в согласии с учением исихазма считал “небесный Иерусалим”, оставались для него сынами Болгарии. В “Надгробном слове митрополиту Киприану”, которое, как предполагают исследователи, предназначалось русской аудитории и было произнесено в 1409 г. в московском Успенском соборе29, писатель обратился к русской пастве покойного московского митрополита как к равному болгарам православному “стаду”: “Его наше отечество воспитало, а вам его Бог даровал... Вы — наша братия излюбленная”30. Аналогичные мотивы мы находим в “Похвальном слове” Евфимию: “И хотя он пробыл много времени в стране чужой... (речь идет о Византии, в том числе и об Афоне. — Д. П.), рассудив, он предпочел всему свое отечество и к нему устремился вновь, 206 неся с собой богатства премудрости и разума, будто некий купец, составивший состояние в чужих краях”. Евфимий занимает тырновский патриарший престол, чтобы “иметь попечение о своеплеменниках”. Ученики Евфимия, “не только от рода болгарского... но и от всех стран — на север до Океана и на запад до Иллирика”, стали учителями благочестия “в своих отечествах”. Описывая изгнание патриарха и жителей Тырнова, Цамблак восклицает: “Есть ли что-либо горше изгнания... когда воспоминание об отечестве и близких, словно жалом пронзает сердца”31. Потеря отечества в результате османского завоевания для болгарских книжников XV в. не сводилась только к вынужденной разлуке с родными краями или отъезду в другую страну. Мистически окрашенное сознание жителей средневековой Болгарии задолго до османского нашествия наделяло их Родину чертами богоизбранности, а в приходе турок они увидели знак Божьей кары. Уже первые османские победы были восприняты на Балканах как предвестие Судного дня. Глосса монаха Дионисия на Евангелии, переписанном в Хиландарском монастыре в год смерти Стефана Душана гласила: “Ни золото, ни серебро, ни красота жемчуга, ни отец сыну, ни сын отцу, ни мать детям, ни родственники, ни любимые друзья, ни брат брату не смогут помочь в грозный и страшный час, когда небеса свернутся, и звезды падут, и солнце померкнет, и силы небесные восстанут, и Судия нелицемерный воссядет на престоле и воздаст всякому по делам его...”32 Упомянутый выше инок Исаия, переводя Ареопагитики “к вечеру солнечного дня и закату седмочисленного... века” и своей “жизни скончанию”, отозвался на поражение при Черномене словами: “А закончил я эту книгу в злейшие из всех злых времен, когда разгневали Бога христиане всех западных стран, и поднял деспот Углеша все сербские и греческие войска, и призвал своего брата короля Вукашина... И двинулись они в Македонию, чтобы изгнать турок, но не подумали, что гневу Божьему не может противостоять никто...”33 О взятии Тырнова в 1393 г. (“когда попущением Божьим были мы преданы за грехи наши в руки врагов беззаконных и 207 мерзких, царю неправды, самому лукавому из всех на земле”) говорит современная событиям болгарская глосса34. Библейскими аллюзиями на гибель Иерусалима насыщено и “Похвальное слово Евфимию Тырновскому”. Прямо уподобляя в нем болгарского патриарха пророку Иеремии, Григорий Цамблак фактически отождествлял болгар с Израилем, а османское завоевание — с Божьей карой над Иерусалимом35. Таким образом, взятие Тырнова османами означало лишение болгар статуса богоизбранного народа согласно пророчеству Иеремии: “И ныне отдаю я все земли сии в руку Навуходоносора, царя вавилонского, раба моего... И если какой народ или царство не захочет служить ему... и не подклонит выи своей под ярмо царя вавилонского — этот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою” (Иер., 27 : 4—6). В ответ на покорность израильтян пророк предрекал Божье отмщение поработителям-вавилонянам (Иер., 51 : 24—58). В контексте такой интерпретации османского нашествия созданная вскоре после падения Тырнова бдинским митрополитом Иоасафом “Похвала святой Филофее” выглядит продолжением повествования о судьбе Болгарии. Поводом к написанию этого сочинения было перенесение в 1394 г. мощей святой в Бдин — последнюю удельную столицу Болгарии, еще не захваченную турками. Тему противопоставления “богоспасаемого” Бдина павшему от турок во исполнение воли Божьей Тырнову открывает отсутствующая в пространном житии святой пера Евфимия аллюзия на гибель Иерусалима и перенесение его святынь. По словам Иоасафа, род святой происходил из Иерусалима, после опустошения которого ее родители переселились во Фракию. Вторая родина святой “не уступает первой по величине и красоте зданий, по многолюдию и многим богатствам и, по правде говоря, славится всеми своими благами с незапамятных времен”36. В повествовании Иоасафа Тырново фигурирует лишь как “тот город” или вообще “место”, над которым свершилась Божья кара. Болгарская столица названа “царским градом” лишь в восходящем к агиографической традиции эпохи первых Асеней фрагменте о перенесении мощей святой в болгарскую столицу при царе Калояне в начале XIII в.37 При208 нимая и развивая идею османского завоевания Тырновской Болгарии как Божьего наказания, Иоасаф утверждает справедливость перенесения в Бдин мощей тырновских святых заступниц (сюда, помимо мощей св. Филофеи, были перенесены нетленные останки свв. Петки и Феофано)38 и видит в нем знак сакрального развенчания погрязшей в грехах и понесшей за это кару столицы Болгарского царства. Падшей “тырновской славе” в “Похвале” противопоставлен Бдин — стольный град “преблагочестивых царей”, один из которых — “христолюбивый новый Константин” ведет с “тырновским князем” (т. е. османским наместником) переговоры о перенесении мощей в свою столицу. Процессия во главе с бдинским митрополитом переходит “границу той страны” (Тырновской Болгарии) и вступает в “свою землю”, где ее встречает “великое множество христолюбивых и благословенных людей”39. Тема противопоставления Бдина Тырнову усиливается сообщением о переходе части жителей бывшей болгарской столицы в ислам. Видимо, по мнению Иоасафа, грехи Тырнова и его жителей не распространялись на Бдинское царство. Автор не только не говорит вообще о том, что Бдинский удел до 1365 г. был частью Болгарского царства, но и упоминает о столичном положении Тырнова лишь при описании давних событий. Однако и Бдин, по мнению Иоасафа, может погибнуть попущением гнева Божьего, от которого его должны отмолить бывшие тырновские заступницы. В тексте “Похвалы”, помимо многочисленных отсылок к библейским “Книге” и “Плачу” Иеремии, есть и утешительное для тырновских болгар напоминание: “Промысел много раз по обычаю подвергал благочестивых искушению, заранее уготовав им на небе бесконечное воздаяние, а врагам — столь же бесконечные и вечные муки”40. Но если в молитвах Евфимия, заключающих некоторые из написанных им житий, заступничество святых призывалось на всех болгар, то у Иоасафа объектом сакральной защиты остается лишь Бдинское царство: “Одари град сей, что предоставлен тебе и унаследовал честные твои мощи, спасением и освобождением от великой злобы язычников, от нападений варваров! Утверди и сохрани в испытаниях державу твоих христолюбивых царей!”41 209 Таким образом, османское нашествие способствовало дальнейшему ослаблению этнической компоненты идентичности, пострадавшей еще ранее от фактического разделения страны на уделы, о котором упоминал в самый канун окончательного покорения Болгарии немец Иоганн Шильтбергер, писавший: “Я был в трех областях, и все три называются Болгарией...”42 Интересно, что если для иностранца болгарская принадлежность Бдина очевидна, то бдинский митрополит, обращаясь к населению города и подвластной его государям территории, как бы страшится произнести вслух имя подвергшегося Божьей каре народа болгар. О болгарском характере Бдинского царства не говорит, упоминая лишь “град Бдинский на реке Дунае”43, и Григорий Цамблак в “Повести о перенесении мощей св. Петки в Сербию”, написанной уже после падения Бдина в 1396 г., когда общая участь выравняла положение обеих болгарских столиц. Только в “Житии Стефана Лазаревича” Константина Костенецкого, написанном в 30-е гг. XV в., Тырново и Бдин объединены как “грады болгарские”, а сыновья Ивана Шишмана и Ивана Срацимира Фружин и Константин названы сыновьями “царей болгарских”44. Болгарские книжники рубежа XIV—XV вв. не ограничились объяснением гибели Болгарии как кары Божьей, возвещенной пророческими книгами. Утрата болгарами Божьей благодати ставила перед ними вопрос о том, достоянием какого народа она стала. В “Повести о перенесении мощей св. Петки” Григорий Цамблак отчетливо проводил идею перемещения второго после Царьграда восточнохристианского центра из Болгарии “за грехи” в соседнюю православную Сербию. Восторженный панегирик Сербии, помещенный в “Повести”, автор завершает словами: “Отнял Владыка болгарскую славу у нее [св. Петки], а даровал ей сербскую, так что ничего от ее [болгарской славы] не осталось... И сотворил Бог сие по промыслению, дабы освятить ее пришествием западную страну и подвигнуть ее к лучшему”45. Данный текст дает повод рассмотреть еще одну сторону кризиса болгарской культурной идентичности. Определение здесь Сербии как “западной страны” сопрягается с приведенной в начале “Повести” характеристикой султана Баязита (1389—1402) как “восточного царя”. На наш взгляд, объявляя 210 турецкого султана “восточным царем”, а Сербию — “Западным царством”, Григорий фактически изменял все содержание системы мировых координат, характерных для средневекового болгарского культурного сознания46. Сохраняя имперскую модель соотношения “Восток — Запад”, он подставлял владения османов, включавшие Болгарию, на место “Греческого царства” — Византии. В результате исконно принадлежавшее Болгарии место “Западного царства” доставалось Сербии. Подобное изменение не было уникальным плодом изощренного ума высокообразованного клирика. В качестве подтверждения тому, что аналогично своим предкам болгары начала XV в. видели свою страну частью перешедшей под власть турок Империи, можно сослаться на целый ряд текстов этого времени, вышедших из различных социальных кругов и созданных при разных обстоятельствах. Таковы, например, рукописные глоссы, строительные и ктиторские надписи, где имя османского государя замещает имя болгарского царя в точно воспроизводимом формуляре доосманского времени47. Идею перенесения на Сербию благодати Божьей, ранее осенявшей Болгарию, Григорий Цамблак развил в “Житии Стефана Дечанского” — сербского короля (1321—1331), основавшего монастырь, где болгарский клирик одно время был игуменом. Стефан, чьи мощи хранились в монастыре, по словам Цамблака, был царем “великого и славнейшего сербского народа, который превосходит другие не только военной мощью своей и славой, но и богатством, красотой и величием своей страны”48. Один из центральных эпизодов “Жития” — победа Стефана над болгарами в битве при Вельбужде в 1330 г. Болгарский царь Михаил III Шишман представлен здесь агрессором, не внявшим увещеваниям благочестивого сербского государя и потому павшим изволением Божьим перед “новым Моисеем” — Стефаном. Мощи “Дечанского краля” — знак богоизбранности Сербии — хранят ее от “видимых и невидимых врагов”. Искушенный дипломат, Цамблак не мог не знать, что Стефан не обладал царским титулом — сербские государи до коронации Стефана Душана имели в “византийском сообществе” лишь королевское достоинство. Однако в традиционной системе координат болгарского культурного сознания “Восточное царство” турок должно было 211 уравновешиваться “Западным царством”, и таковым в его представлениях становится Сербия. Константин Костенецкий, писавший свое “Житие Стефана Лазаревича” несколькими десятилетиями позже Цамблака, сохранил представление о Сербии как о “Новом Израиле”: “Земля сия... подобно Обетованной, источает мед и молоко” — и дополнил его описанием Белграда как “нового Иерусалима”: “И воистину град этот... велик и очень красив и... походит на Сион от Горнего Иерусалима... а с северной стороны, где пристань этого великого города, он похож на Нижний Иерусалим”49. Константин расположил Сербию в системе мировых координат, отличной как от традиционных представлений средневековой болгарской книжности, так и от Цамблаковой модели, где та изображалась “Западом”, противоположным османскому “Востоку”. Держава сербского деспота лежит как бы в центре мира, между “Восточным царством” османов и “Западным царством” католиков, “сильнейшие отряды” которых — как тех, так и других — Стефан сумел разбить и установить с ними “мирное сожительство”50. Накануне конца света (“а прошла уже шестьдесят девятая сотня лет”— последние слова “Жития”, скрытые в акростихе51) Белград-Иерусалим готов встретить Страшный суд как последняя христианская столица, не запятнавшая своего благочестия. В новой системе координат для Болгарии уже не оставалось места между Востоком и Западом. Анонимный автор — современник Константина Костенецкого в первой трети XV в. написал т. н. “Болгарскую хронику”, которая позднее вошла в обширный свод по истории балканских народов в эпоху османского завоевания, составленный в Молдове в конце XV — начале XVI в.52 При описании Никопольского похода венгерского короля Жигмонта (1396) пришедшим с Востока османам противостоят “западные войска” из “королей, князей, властителей, панов, кардиналов, могущественных франков”, т. е. вся западноевропейская военная и политическая мощь. В этой грандиозной битве и болгары, и южные славяне в целом остаются как бы третьей стороной, враждебной Востоку и в то же время не принадлежащей Западу. Позднее, в болгарских сочинениях XV—XVI вв., эпитет “восточный” прочно усваивается османским государям и их 212 азиатским владениям, а термин “западный” встречается только в связи со странами Центральной и Западной Европы. Так с установлением османского суверенитета над Балканами все “четыре западных народа из эллинских стран”, как называл греков, болгар, сербов и валахов цитированный выше болгарский апокрифический текст53, превратились в периферию новой Империи и поле противоборства между Западом и Востоком, утратив не только государственную независимость, но и особое место в системе мировых координат54. Претерпевают трансформацию в сочинениях болгарских книжников начала XV в. и представления об общности православных народов. В “Надгробном слове митрополиту Киприану” Цамблак в первый и единственный раз в средневековой болгарской книжности дает развернутое сопоставление болгар и русских как братьев во Христе через параллели между Евфимием и Киприаном, чье общее происхождение из Болгарии еще более сроднило два народа. В то же время повторяется и мотив Божьей кары, свершенной над болгарами — как через многочисленные упоминания падения Иерусалима, так и введением в текст размышления о том, что Господь даровал русским Киприана как более достойным, отняв его у “недостойных” болгар: “Его наше отечество вскормило, а вам Господь его даровал, им вы наслаждались, а мы его лишились, вы им украсились, а мы о нем тужили, с ним вы преуспели вырасти в заповедях Господних... и вы были достойны его...”55. В этом произведении Цамблак ни разу не назвал свой народ, страну или столицу по именам. Божья кара за гордыню и грехи лишала болгар не только богоизбранности, но и идентичности вообще. Если первое понуждало болгарских книжников присваивать это качество другим православным славянским народам, то второе — избегать самого слова “болгары”. Ситуация, сложившаяся после падения Болгарии, побудила южнославянских книжников пересмотреть и свои представления о славянском языке. Эта проблема играла большую роль в этноконфессиональном самоопределении южных славян в XIII—XIV вв., когда для обозначения языка книжности вместо восходящего к кирилло-мефодиевской традиции определения “славянский” все чаще употреблялись термины “болгарский” и “сербский”. Развернутую трактовку противоположного, надэтнического подхода к книжному языку мы 213 находим в четвертой главе “Сказания о письменах” Константина Костенецкого. Рассуждая о переводах Писания, книжник отделяет “славянский язык” от современных ему языков — “самого утонченного и прекрасного” русского, “грубого” болгарского, “высокого и неудобного тоном” сербского, а также боснийского, чешского, славонского, хорватского и чешского56. Особое внимание Константина к русскому языку, на наш взгляд, может перекликаться с выраженной у Цамблака идеей перенесения центра православия в русские земли. Это косвенно подтверждается отсутствием среди перечисленных здесь славянских языков польского. Конфессионально определенный характер данной подборки ограничил ее языками, имевшими в прошлом или сохранившими до начала XV в. славянскую глаголическую или кириллическую письменность57. Однако для нашей темы более важен другой аспект. Как предположил С. Димитров, пафос автора в данном случае направлен против “этнической” трактовки языка Св. Писания как “болгарского”58. Конечный вывод Константина определяет церковнославянский как полноправный сакральный язык, с точки зрения его графики являющийся “законным чадом” древнееврейской и греческой письменности. В то же время, это — еще и синтез всех упомянутых славянских наречий на основе изначально выделенного среди них Божьим изволением русского языка59. Утрата государственного и церковного суверенитета и переход Болгарии под власть иноверных и иноязычных турок стали отправной точкой сложного кризиса средневековой болгарской идентичности. Он выразился в многочисленных последствиях осознания болгарами утраты своей “богоизбранности”, что нарушало балансы всех устойчивых структур идентичности: основной оппозиции, противопоставлявшей Греческое и Болгарское царства; пространственного равновесия в системе “Восток — Запад”, иерархий “правоверных народов” и литургических языков и пр. Нарушенными оказались и привычные системы мировых и балканских пространственных координат. Наконец, было положено начало процессу постепенного выхода из употребления самого этнонима “болгары”, впоследствии практически полностью вытесненного из словаря православной славянской книжности. 214 Логично поставить вопрос о том, какие структуры культурной идентичности средневековой Болгарии в это время поддержали болгарское самосознание и позволили ему выжить в новой среде. На наш взгляд, немалую роль в этом сыграли традиции официальной книжности, многие десятилетия выстраивавшие систему представлений о государственной и церковной организации, столице и государственной территории, месте среди других христианских народов. Реликты этих представлений оставались в сохранявших прежний формуляр ктиторских глоссах и надписях, воплощались в воспроизведении утраченных документов средневекового Болгарского государства в монастырских скрипториях. Об этом же свидетельствуют и новые списки тырновских агиографических и исторических текстов, выполненные в XV в. как в болгарских землях, так и на Афоне. Однако, на наш взгляд, наиболее глубоким и не затронутым трансформацией уровнем идентичности осталась приверженность болгар комплексу особых культов, верований, праздников и обрядов, который выделял христианскую культуру средневековой Болгарии в византийско-славянской общности и придавал ей неповторимую внутреннюю целостность. В качестве примера можно привести комплекс из восемнадцати проповедей Григория Цамблака, сохранившийся в русской рукописной традиции XV—XVII вв. в составе сборника “Книга Григория Цамблака”. Ее вероятный составитель в цитированном выше “Надгробном слове митрополиту Киприану” из всех благ своего так и не названного по имени отечества не случайно выделил Церковь, которая его “научила и воспитала”. “Книга” точно отражает комплекс основных культов болгарской столицы, имевших общеболгарское значение и выделявших ее среди важнейших центров византийскославянского мира. Составившие “Книгу Цамблака” тексты посвящены свв. Сорока мученикам, Вознесению, Петру и Павлу, Димитрию60. Верность конфессиональным традициям демонстрировали и другие болгарские выходцы. Иоасаф перенес в Бдин один из главных тырновских культовых комплексов — почитание святых заступниц болгарской столицы свв. Петки, Филофеи и Феофано. Киприан положил начало распространению на Руси культа св. Иоанна Рильского61. Цамблак ввел в число центральных культовых фигур русского 215 православного сонма святых Параскеву-Петку62. Полулегендарное сведение о тырновском выходце Воейко в Москве рубежа XIV—XV вв. утверждает, что он привез с собой на Русь икону св. Петки, прославляющую его “отечество — град Тернов”63. Имеющий болгарские корни русский летописный памятник конца XIV в. “Список русских городов ближних и дальних” отличает Тырново прежде всего нахождением здесь мощей св. Петки, а связываемая с деятельностью Киприана статья о падении болгарской столицы в летописном своде начала XV в. говорит об уничтожении находившихся здесь мощей как о свидетельстве окончательной гибели Болгарского царства64. Как нам представляется, именно в контексте вышеизложенного следует понимать некоторые заявления о приверженности вере, сохранившиеся от эпохи османского завоевания. Один из вариантов исторической песни, возникновение которой исследователи почти единодушно относят к эпохе османского завоевания, воспевает воинов-юнаков, отправляющихся защищать “болгарскую веру”65. В известной Боженицкой надписи конца XIV в. вера неразрывно связывается с политическими обстоятельствами: “В то время турки воевали, а я держался за веру царя Шишмана”66. Словосочетание “отеческие предания” в “Похвальном слове Евфимию” Цамблака67 также может быть отнесено не только к Св. Писанию, но и к отечественным традициям исповедания христианской веры. Таким образом, всем этим выражалась не только верность православию, но и приверженность тырновским культурным традициям. § 2. Эсхатологический эпилог культуры средневековой Болгарии Исследования последних лет корректируют традиционное представление о внезапной и быстрой гибели Второго Болгарского царства в результате османского завоевания и рисуют впечатляющую картину угасания политических структур и церковного суверенитета средневековой Болгарии, растянувшегося на несколько десятилетий после захвата турками в 1393—1397 гг. ее последних удельных столиц — Тырнова, Никополя и Бдина68. Аналогично политическим и со216 циальным процессам, на наш взгляд, шел и регресс средневековой болгарской культуры, развивавшийся в нескольких направлениях. Наиболее очевидным из них являются миграции за пределы Болгарии духовных ценностей и их носителей, вытеснявшихся или насильно перемещавшихся османами. “Клирики, книги и кости” теперь уже не стекались в Болгарию, как при Борисе и Симеоне или первых Асенях, но покидали болгарские пределы и перемещались в сохранявшие самостоятельность балканские православные земли, в Валахию и Молдову, Великое княжество Литовское и на Русь. Константин Костенецкий и дьяк Андрей, составивший в 1425 г. панегирик, который включал сочинения Климента Охридского и патриарха Евфимия69, трудились в Сербии. Странствия Григория Цамблака охватили практически весь тогдашний славянский православный мир. Судя по достаточно широкому распространению в православной славянской книжности традиций Тырновской школы70, “другим отечествам” отдали свои силы и талант многие не известные нам по именам творцы. Мощи большинства тырновских святых были проданы турками в Сербию, книги вывозились за Дунай и на Афон. Возобновление османской экспансии в славянские и греческие области Балкан, еще сохранявшие остатки самостоятельности, сократили и эти последние возможности перенести культурное наследие средневековой Болгарии в соседние православные земли. Направления культурных миграций совпадали с потоками традиционных перемещений болгарских купцов, ремесленников и паломников предшествовавших столетий. Наиболее интенсивно в конце XIV — середине XV в. болгары двигались на север, в земли Валахии и Молдовы, молодая славяноязычная культура которых в это время активно впитывала и практически копировала болгарские образцы71. Эмигранты из Бдина еще в 60-е гг. XIV в. нашли приют в валашских обителях Тисмана и Водица. Крупнейшими центрами, сохранившими точные списки тырновских текстов с особенностями графики и орфографии, в XV в. стали молдавские монастыри Молдовица, Нямц и Путна72. Пути многих болгарских выходцев вели в Великое княжество Литовское, а иногда и еще дальше, в Северо-Восточную Русь73. Однако культура средне217 вековой Болгарии, столетиями формировавшаяся и развивавшаяся хотя и в изменчивой, но собственной геополитической, этногосударственной и социальной среде, не могла существовать как целое в иных условиях. Рецепция ее отдельных элементов, конструкций, образов в других славянских или славяноязычных землях, актуализировавшая переписывание или редактирование принесенных из Болгарии книг и текстов, не была способна сохранить живым ее самосознание. Еще одно направление миграций культурных ценностей и их носителей вело из разоренных османами болгарских городов и пригородных монастырей в их исконные колыбели и убежища — монашеские обители Афона и труднодоступных горных местностей на западе Болгарии. По меткому выражению Е. Коцевой, Зографская обитель св. Георгия начиная с XV столетия играет роль депозитария древних и наиболее ценных рукописей из болгарских земель74. Присутствие болгарских книжников заметно в это время и в других афонских обителях. Однако наиболее богатым хранилищем книжного наследия средневековой Болгарии во второй половине XV в. становится Рильский монастырь. Если библиотека Зографа этого времени действительно сравнима с депозитарием рукописных сокровищ, созданных в болгарских землях или болгарскими книжниками в разные эпохи, то книжность Рильской обители выглядит сознательно воздвигнутым современниками мемориалом культуры средневекового Болгарского государства. Рассмотрение исторических обстоятельств сосредоточения духовного наследия средневековой Болгарии в восстановленной обители одного из самых почитаемых болгарских святых, на наш взгляд, позволяет представить контуры последней трансформации средневековой болгарской культуры в середине и второй половине XV в. Ее основной чертой в это время становится нарастание эсхатологических тенденций. 29 мая 1453 г. османы взяли приступом Константинополь. Реакция православного славянского мира на это событие была неоднозначной — от проникновенных эпитафий, созданных сербскими книжниками в окружении Георгия Бранковича, до упоминаний вскользь в отдельных болгарских текстах и прямой констатации в официальных московских сочинениях75 справедливости наказания, которое понес “Второй Рим” за совершенное ранее 218 отступничество — заключенную в 1439 г. во Флоренции унию Вселенской патриархии с Ватиканом. Среди восточных иерархов, подписавших унию, был и греческий митрополит Тырнова Игнатий76, а ее главными противниками наперекор подчиненной Вселенскому патриарху иерархии выступали афонские старцы. До падения Константинополя это склоняло османские власти на Балканах к поддержке тех монастырей, которые вслед за обителями Святой горы выступали против унии, что, в частности, выразилось в политике Мехмеда I Челеби (1421—1451). После падения Константинополя, во второй половине XV в. деятельность, направленную на поощрение ортодоксального православия во внутренних областях Балкан, продолжила вдова султана Мария, дочь сербского деспота Георгия Бранковича77. Вынужденная покинуть Сербию после смерти отца в 1456 г., “царица Кира Мария” удалилась в свое владение Ежево в окрестностях Серр и вплоть до своей оплаканной южнославянскими книжниками кончины в сентябре 1487 г. оставалась надежной покровительницей православных монастырей на Афоне и во внутренних областях Балканского полуострова. В условиях когда прежняя институциональная стpуктуpа византийско-славянской общности была разрушена или деградировала, деятельность Марии, пользовавшейся большим влиянием при дворе своего грозного пасынка, стимулировала оживление культурной жизни в болгарских землях в 50— 80-е гг. XV в. Некоторые авторы в связи с этим даже говорят о кратком “возрождении” болгарской средневековой культуры78. Данная характеристика, как и мнение об инерционной природе культурного подъема второй половины XV столетия79, не учитывает лежавшей в его основе мотивации, которая, на наш взгляд, носила прежде всего эсхатологический характер и была вызвана напряженными предчувствованиями “скончания седмыя тысящи лет”, ожидавшегося православным миром в 1492 г. — семитысячном от сотворения мира80. Вызывает несогласие и создающий впечатление повсеместности культурного подъема термин “общебалканский славянский культурно-исторический феномен XV в.”81 Нетрудно заметить, что оживление строительства церквей и монастырей, роспись храмов и переписка книг в последние годы 219 столетия, с одной стороны, связаны с локальными монастырскими центрами, а с другой — сосредоточиваются между Средецкой областью, Призреном, Серрами и озерами Македонии, т. е. на территории, почти точно повторяющей очертания зоны, где развивалась южнославянская “криптокультура” эпохи византийского владычества в XI—XII вв. В Болгарии культурный подъем охватил запад бывшей территории страны, имея своим главным центром Рильский монастырь. Во второй половине XV в. строятся или расписываются монастырские храмы Богородицы в Драгалевцах, св. Димитрия в Бобошеве, церкви в связанных с Рильской обителью метохах Касинце и Орлице82. В самом конце столетия возобновляются обители св. Георгия в Кремиковцах близ Софии и св. Иоанна Богослова в Поганове близ Вельбужда83. Большинство известных болгарских рукописей этого времени созданы также на западе, а традиционное тырновское правописание в них сочетается с т. н. безъюсовой редакцией среднеболгарского языка, возникшей под влиянием сербской Ресавской школы, или уступает ей место84. Нередко встречаются рукописи, в которых одной рукой писаны тексты тырновского и ресавского изводов. Участие в культурной деятельности в болгарских землях выходцев из других балканских областей говорит о своеобразной “встрече” на западе Болгарии традиций, принадлежавших как Тырновской, так и Моравской школам. Рильский монастырь, восстановленный сыновьями местного епископа Якова в начале 50-х гг. XV в.85, повидимому, стал одним из первых и главных объектов благотворительности Марии Бранкович, что имело значительные последствия как для Болгарии, так и для всего православного славянства. Превращение св. Иоанна Рильского во “всеболгарского” святого и распространение его культа у восточных славян, начавшееся еще в XIV в. усилиями Евфимия и Киприана, в это время приобрело особое значение. Как мы замечали выше, культ св. Иоанна Рильского был связан с культами других соименных святых, среди которых особое место занимали свв. Иоанн Предтеча — обвинитель на грядущем Страшном суде и Иоанн Богослов — провозвестник Апокалипсиса, о котором Иисус сказал: “Я хочу, чтобы он пребывал, доколе я не приду” (Ин., 21 : 22). Двум свв. Иоаннам — 220 Рильскому и Богослову посвящен упомянутый выше монастырь Касинец86. Эсхатологические пророчества и канонических, и отреченных книг связывали место главных событий Апокалипсиса с Западом, и положение Рильской обители на географическом западе византийского Диса (Запада) вполне соответствовало им. Эсхатологические ожидания второй половины XV в. имели свои особенности. С начала столетия тема “скончания века” заняла центральное место не только в произведениях, созданных в Болгарии, но и во всей книжности православных славян87. Пасхалия, рассчитанная в начале века до 1492 г. — последнего года шестого тысячелетия от сотворения мира, обозначила предел земного существования, к которому на Балканах готовились с особым чувством. В русских списках и редакциях сохранился текст балканского происхождения, поражающий своей трагичностью: “Братия! Зде страх, зде беда велика, зде скорбь немала, яко же в распятии Христове... Сие лето на конце явися, во нь же чаем всемирное пришествие Христово. О Владыко! Умножишася беззакония наша на земли. Пощади, Владыко!.. Блюдите убо, братия... бежи и неверия при нас Исмаилы...”88 Сохранились краткие летописные сочинения этого периода, в которых каждое событие приводится как подтверждение грядущего конца света. Одна из таких летописей, созданная в Сербии в конце XV в. и сохранившаяся в списке начала XVIII в., начинается упоминаниями о создании славянской письменности и отступлении “латинов” от православия и подробно останавливается на османских завоеваниях в XV в., перемежая сообщения о битвах с заметками о грозных знамениях (“В лето 6938 [1430] занял царь Мурат Солунь. В лето 6941 [1433] померкло солнце на Пасху и настала тьма, и звезды были видны, как ночью, и было трясение всей земли...“89). После взятия Константинополя апокалиптические настроения росли вместе с окончательным утверждением власти турок на Балканах. В 1455 г. османы захватили находившееся во владениях Георгия Бранковича Ново Брдо — один из последних крупных балканских городов, еще не занятых ими. Среди беженцев, нашедших приют в соседних южнославянских землях, были серб дьяк Владислав и грек Димитрий — родственник управлявшего городом выходца из знатного 221 византийского рода Иоанна (Яни) Кантакузина90. Владислав обосновался в селе Младо Нагоричино, где в 1456 г. написал объемистый сборник, в настоящее время хранящийся в библиотеке Рильского монастыря (часть кодекса находится в Одесской государственной библиотеке). Димитрий, вероятно ознакомившийся с трудом своего земляка, несколько позднее, в 1469 г., заказал Владиславу, находившемуся в то время в македонском монастыре Матейче, еще один сборник — огромный том в 770 листов, хранящийся ныне в академической библиотеке Загреба. Десятью годами позднее Владислав, уже носивший почетное для книжника прозвище Грамматик, там же составил по заказу Рильского монастыря столь же объемистый кодекс — панегирик, содержавший тексты на все важнейшие годовые праздники (по неизвестным причинам пропущен только сентябрь). В 80-е гг. XV в. Владислав, как предполагают некоторые ученые, переселился в Рильский монастырь, где и завершил свою жизнь. Большинство же исследователей придерживается мнения, что он оставался до конца дней в Матейче91. Обстоятельства жизни Димитрия Кантакузина остаются неизвестными. Возможно, он был родственником жены Георгия Бранковича Ирины Кантакузины, а после смерти деспота и ликвидации его владений перешел в окружение “царицы Марии”. Сведений о нем после 1469 г. нет. Внимательный анализ сборников Владислава Грамматика и сочинений Димитрия Кантакузина позволяет, на наш взгляд, дать оценку значения наследия средневековой болгарской культуры не с позиций современного исследователя, а с точки зрения образованных представителей первого поколения балканских книжников. Их формирование как личностей и творцов целиком происходило в эпоху, когда живые носители культурных традиций средневековой Болгарии уступили место молчаливым свидетелям былого величия — книгам. Если буквализм молдавских и валашских славяноязычных книжников сохранил для нас точные копии тырновских текстов92, то труды Владислава и Димитрия в разной степени зафиксировали степень и характер болгарского влияния на общеправославное наследие балканских славян, питавшее их культурную самобытность в первые века османского владычества. 222 Сборники Владислава Грамматика особенно ценны пространными глоссами их составителя, раскрывающими его собственное самосознание. По сравнению со своими предшественниками Иоасафом Бдинским, Григорием Цамблаком, Константином Костенецким Владислав творил в иной системе координат. Он был истовым приверженцем чистоты православия, видевшим основную опасность со стороны “латинства”, и, в то же время, лояльным подданным “великого и самодержавного царя мусульманского амира Мехмед Бега” — Мехмеда II Фатиха (1451—1481). Последнее обстоятельство, характерное и для других балканских книжников XV в.93, помимо вышеупомянутого благоволения султана к покровительнице Владислава Марии Бранкович, также имело, на наш взгляд, прямое отношение к теме Апокалипсиса, по которому власть Антихриста “над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем” (Откр., 13 : 7) была предвестием Второго пришествия. Как известно, после взятия Константинополя Мехмед II взошел на амвон храма св. Софии и вознес хвалу Аллаху94, тем самым буквально исполнив известное пророчество апостола Павла (II Фесс., 1 : 4) перефразированное в широко известном на Балканах сочинении Мефодия Патарского: “Войдет сын погибельный в Иерусалим и сядет в храме Божьем...”95 Состав атрибутируемых Владиславу сборников, количество которых в последние годы возросло благодаря исследованиям Б. Христовой96, позволяет полнее судить о его личности и сознании. Интерес Владислава к болгарской и к православной славянской тематике в целом проявился уже в первом сборнике 1456 г., основу которого составили антикатолические произведения. Сюда включены два отрывка из славянского перевода хроники Иоанна Зонары, повествующие о крещении Болгарии и Руси, причем последний рассказ воспроизведен и в сборнике 1469 г., где к завершающим словам: “И оттоле бысть мирное устроение в западных странах” — добавлено: “до некоторых времен с языком болгарским”97. Сам Владислав нигде ни словом не обмолвился о своей принадлежности к тому или иному балканскому народу, лишь однажды упомянув о своем происхождении из Нового Брда. В предисловии к переписанному им в 1473 г. сборнику произведений св. Иоанна Златоуста он назвал язык оригинала, с 223 которого был изготовлен сборник, “сербским”98, в чем также усматривается скорее следование распространенной в XV в. традиции, нежели проявление этнического самосознания. Подчеркнутая этническая индифферентность Владислава, на первый взгляд, не согласуется со столь же подчеркнутым интересом книжника к наследию древнеболгарской литературы. Однако более внимательное рассмотрение состава его фундаментальных подборок приводит нас к мысли о том, что при их составлении книжником скорее двигала полемически заостренная приверженность идее православной общности. В сборник 1469 г. включены насыщенные антизападными сюжетами “Пространное житие св. Константина-Кирилла” и “Похвала свв. Кириллу и Мефодию”, а также связанные между собой идейно и текстуально и направленные против еретиков “Житие св. Илариона Мегленского” и перевод “Догматического богословия” пера Евфимия Тырновского. В следующем сборнике — Рильском панегирике 1479 г. основу составляют лучшие произведения балканских исихастов второй половины XIV— начала XV в. Среди них — сочинения Евфимия Тырновского (“Житие св. Иоанна Рильского”, “Похвала свв. Константину и Елене”, “Похвала великомученице Неделе”, письма), Григория Цамблака (“Житие Стефана Дечанского”), Иоасафа Бдинского (“Похвала св. Филофее”), патриарха Каллиста (“Жития” свв. Григория Синаита и Феодосия Тырновского), сербские жития свв. Саввы и Петра Коришского. В сборник вошли также и новые сочинения — “Житие св. Иоанна Рильского с малой похвалой”, написанное Димитрием Кантакузином, и “Рильская повесть” самого Владислава Грамматика. Среди сборников 80-х гг., написанных Грамматиком в Рильском монастыре, обращает на себя внимание хранящийся в настоящее время в С.-Петербурге объемистый кодекс, целиком состоящий из произведений, посвященных св. Димитрию Солунскому, — еще одно свидетельство уважения книжника к своему другу Димитрию Кантакузину99. Труды Владислава продолжили его последователи и ученики — монахи Мардарий, Давид и Пахомий100. В числе книг, созданных ими в конце XV в., — сборник канонов, служб и житий, посвященных св. Иоанну Рильскому101. Само по себе сосредоточение интересов принадлежащих к разным балканским народам книжников вокруг Рильского 224 монастыря и создание ими новых текстов, посвященных св. Иоанну Рильскому нельзя считать новациями — нечто подобное мы наблюдали в конце XII в., когда в основе этой деятельности лежало своеобразное соперничество болгар и греков за возможность использовать культ святого в определенных политических интересах. Однако и здесь очевидна эсхатологическая направленность этой деятельности. Имеются и другие примеры такого рода: в 80-е гг. XV в. создается служба св. Петке, в которой переработаны мотивы ранее распространенных болгарской, греческой и сербской редакций102. Характерно, что уже в заглавии своего произведения Владислав сознательно ставит себя в положение человека, подводящего итог определенной традиции: “Житие и жизнь преподобного отца нашего Иоанна Рильского, в нем же и как пренесен бысть в Тырнов, списано Евфимием, патриархом Тырновским, на конце же слова и об обновлении святые обители его иже в Рыле и како пренесен бысть от Тырнова в тажде славный манастырь Рыльский, списано последним в дьяках Владиславом Грамматиком”103. Апокалиптический мотив жатвы (Откр., 15:15) красной нитью проходит через все Кантакузиново “Житие с малой похвалой св. Иоанну Рильскому”104. Перенесение мощей св. Иоанна из Тырнова в Рильский монастырь, послужившее поводом для создания перечисленных рукописей и текстов, предстает у Владислава и Димитрия как своеобразный эсхатологический итог болгарской культурной истории. В первичной, Рильской редакции “Повести о перенесении мощей” Грамматик, продолжая рассказ Евфимия, завершающийся сведениями о перенесении мощей святого при Иване I Асене, переводит тему победоносных в изложении болгарского патриарха греко-болгарских войн в рассказ о раздорах между двумя православными народами, которые облегчили захват “безбожнейшими персами” вначале греческих и сербских, а потом и болгарских земель. За взятием “дивного града, где лежали чудодейственные мощи преподобного отца” последовало разорение Рильского монастыря, приведшее к долгим годам запустения обители. Восстановившие ее в 50-е гг. XV в. сыновья крупницкого епископа Якова Иоасаф, Давид и Феофан долгое время считали, что мощи св. Иоанна были увезены из Тырнова подобно другим святыням разоренной болгарской столицы. Узнав от палом225 ников и удостоверившись посредством своего тайного посланца, что мощи на самом деле пребывают в Тырнове, братья обратились к “благородной царице Кире Марии, что была дочерью благочестивого господина деспота Георгия, в те времена — сербского государя, и женой великого и самодержавного эмира Мурада, что был знаменит много более древних [полководцев] своими битвами и боевыми победами”. Мария, жившая в своем поместье Ежево, лично написала “самодержавному великому эмиру Мехмеду, что обладал тогда царским скипетром”, и благодаря своему “необычайно большому влиянию” на султана получила письменный приказ тырновскому кади о выдаче мощей св. Иоанна Рильскому монастырю105. Делегация рильских иноков во главе с одним из братьев — Феофаном отправилась в “царственнейший град болгар Тырново”. Употребление этого эпитета, единственное в тексте Владислава, на наш взгляд, не случайно. Дальнейшее изложение не оставляет сомнения, что речь в “Повести” идет о сакральном развенчании бывшей болгарской столицы накануне Божьего суда и богоугодном перенесении центра истинного христианства в обитель св. Иоанна Рильского. Осознававшие это жители Тырнова попытались отстоять свою святыню, но не могли противоречить султанскому повелению. Гроб с телом святого был перенесен вначале в Средец, а затем в Рильский монастырь. Точное обратное следование маршруту, которым мощи в 1195 г. были доставлены в стольный град Асеней, подчеркивалось повторением церемоний, которые при Иване Старом сопутствовали перенесению мощей в Тырново. После пребывания в Средце в течение шести дней, на которые пришлось Рождество св. Иоанна Предтечи (24 июня), мощи накануне дня свв. Петра и Павла (30 июня) прибыли в монастырский метох Орлица, где был отслужен торжественный молебен, после которого тело святого было чудесно помещено в специально приготовленную церковь. Был установлен особый праздник возвращения мощей св. Иоанна Рильского — 1 июля106. Владислав видит в перенесении мощей св. Иоанна не только развенчание утратившей Божью благодать болгарской столицы, но и предзнаменование других грозных событий. Напомним, что большинство болгарских историко-эсхатоло226 гических текстов XI—XII вв., новые списки которых создаются в XV в., помещали апокалиптические события именно в Софийскую область. Отчужденность этой области, как и всего болгарского Запада, от “Загорья”, понесшего справедливую Божью кару, как мы уже отмечали, декларировалась еще текстами последних книжников Второго Болгарского царства. В приводимом Грамматиком письме рильской делегации игумену и братии, отправленном из окрестностей Средца, говорится: “Знайте, что мы покинули европейские земли доброй помощью Божьей благодати и вашими молитвами”, в заключительные слова “Повести” гласят: “И так был он перенесен из преславного града Тырнова и из земли Загорской в любимую свою Рильскую пустынь... Возвращение это случилось после многих и долгих лет пребывания в Тырнове. Бог благоизволил, чтобы стало это достойно и промысленно, и западные области Иоаннова отечества — Болгарская земля — осветились бы посредством его прибытия и устремились к добру”107. Хотя нетрудно заметить, что провозвещение о западных областях — топос, имевшийся и в “Повести о перенесении мощей св. Петки” Григория Цамблака, кажется вероятным, что здесь вновь проявилась неоднократно упоминавшаяся нами связь между культом св. Иоанна Рильского и неким соперничеством болгарских Востока и Запада, которое началось еще в X в. В таком случае противопоставление благочестивой “Великой Сардакии” ранее наказанной за грехи “Европии”108, которое берет начало отсюда и продолжается в XVI в., — это эпилог еще одной болгарской культурной традиции. “Житие с малой похвалой св. Иоанна Рильского”, которое известно в единственном списке в сборнике Владислава Грамматика 1479 г. и, возможно, написано Димитрием Кантакузином вслед за “Повестью о перенесении мощей”, буквально проникнуто идеей “скончания века”. Уже первые строки произведения троекратным повторением слов о “времени жатвы” обращаются к теме Апокалипсиса. Вторая апелляция к концу света — помещение святого в “совершенную десеторицу”109 соименных ему святых — Крестителя, Богослова, Златоуста, Милостивого, Постника, Дамаскина и трех других, не названных по имени. Таким образом, “рильский отец” закрывает список святых по имени Иоанн накануне “жатвы”. 227 Третья апелляция — прямая ссылка на Св. Писание содержится в объяснении причин нашествия “измаильтян”: «А великий апостол и евангелист Иоанн в “Откровении”... назвал их “сатанинским сборищем” и упомянул час, в который наступит в целом мире их нашествие, дабы подвергнуть испытанию живущих на земле»110. На первый взгляд, диссонансом теме Апокалипсиса звучит пространный панегирик Мехмеду II: “И понеже тот, что властвует над нами, великий и самодержавный и превосходящий по славе и величию царствовавших до него, еще с младых лет принял отцовское царство и был украшен очень острым умом, подвигами в войнах и разумностью, он составил чудное войско и боевой порядок, страшные и удивительные. И так как любил он воевать и расширять область своего царства, желая превзойти славой предшествовавших ему, он не отдался ни еде и питью, ни телесному покою и лености, а точнее говоря, унынию, как большинство царей, но будучи суров и в других делах, наказывал согрешивших перед Богом. А когда занял он Константинов град, то установил там свой царский престол... В годы его царствования, хотя и были они тяжелыми и мучительными в другом отношении, инокам была всякая свобода, и наслаждались они отрадой, и никто не смел ничего с них требовать...”111 Как мы отметили выше, и для клирика Владислава, и для мирянина Кантакузина Мехмед II предстает орудием Божьего гнева, причем чем изощренней и надежней это орудие, тем очевидней кара Господня представляется им предвестием спасения. В изложении жизни и деяний св. Иоанна Рильского Кантакузин следует за Евфимиевым житием святого, но завершающая часть его сочинения ближе по духу “Повести” Владислава. Как и Грамматик, он видит причину первоначального Божьего гнева, разрушившего балканские государства, в греко-болгарских распрях, отчасти оправдывая сербов тем, что они “тогда были самыми слабыми и подвластными” этим народам: “Я упрекаю болгарский народ не за начало [этих распрей], так как он не был просвещен верой, но за то, что, крестившись единым крещением, они не отказались от зла, и эту их жестокость и бесчеловечность ненавижу и порицаю. Но не похвалю я и греческую гордость, превознесенную высокоумием”112. 228 Свою симпатию к грекам Димитрий выражает в рассказе о падении Константинополя в результате IV крестового похода, в котором он, помимо “венецианцев и других с Запада” винит и болгар: ведь они не прекратили нападать на греков и после того, как те вернули себе Царственный город. Преходящей оказалась и слава сербов, не получивших помощи “силы праведной” и разгромленных турками при Черномене. Единственным спасением православных христиан остается достойное завершение земной жизни в преддверии Страшного суда. Обращаясь к разноплеменной пастве Рильского монастыря, он призывает ее сплотиться в исповедании истинной веры вокруг мощей св. Иоанна. “Ведь для этого он пришел к вам, покинув Тырново!” — дважды восклицает автор113. Аналогичные мотивы развиваются и в сочиненной Кантакузином службе св. Иоанну Рильскому на новый праздник возвращения мощей 1 июля, где святой чествуется как “языку своему похвала и упование”, “честь болгарского рода” “от начала православия и до днесь”. К нему обращена мольба автора принять его в небесные селения “в страшный день Судный”114. В Стишном Прологе под этой датой в конце XV в. появляются новые стихи: “Мертв зриши се, Иоанне, но о Бозе живе всем целбы даеши”115. Вероятно, не в последнюю очередь под впечатлением этих произведений прихожане церквей Западной Болгарии готовились принять Божью кару. В надписи 1476 г. ктитор храма св. Богородицы в Драгалевцах Радослав Мавр призывает Христа быть “мздовоздателем и душеспасителем” ему и его семье116. Число датированных ктиторских надписей возрастает к 1492 г. — строятся или расписываются заново церкви в монастыре св. Прохора Пшинского (1489), храм свв. Петра и Павла в Орлице (1491), но традиция не прерывается и после грозной даты, о чем свидетельствуют надписи в церквах св. Георгия в Кремиковцах (1493), св. Богородицы в Матке близ Скопле (1497), св. Иоанна Богослова в Поганове (1499) и др.117 Проникнутая эсхатологическими ожиданиями атмосфера этого времени способствовала деятельности целых строительных и живописных артелей, работавших не только в Македонии, но и в Греции и Молдове118. Темы Божьего гнева и Страшного суда вновь актуализируют антилатинские 229 сюжеты — в Драгалевцах мы находим фреску с изображением царя Калояна, гибнущего от руки св. Димитрия, а в Поганове латиняне вместе с турками изображены среди корчащихся в муках грешников119. В этом контексте произведения о перенесении в 1469 г. в Рильский монастырь мощей св. Иоанна и действия, совершенные вокруг этого события, создают впечатление цельного эсхатологического эпилога средневековой болгарской культуры. Накануне ожидавшегося всем христианским миром Страшного суда православные клирики и миряне из разных балканских земель, избрав традиционные области распространения культов святых отшельников и эсхатологических представлений в качестве места скорой встречи с Мессией, подводили своеобразный итог многовековой традиции болгарской христианской культуры. Сакральное развенчание последней болгарской столицы Тырнова и перенос ее последней святыни в место свершения над Болгарией апокалиптических пророчеств, сведение Владиславом Грамматиком, его учеником Мардарием и другими книжниками сохранившихся в балканских монастырях свидетельств благочестия болгарского народа и почитания явленных ему святынь в предназначенные для Рильского монастыря фолианты, строительство новых церквей и роспись заново прежних храмов готовили болгар к пришествию Мессии. Некогда богоизбранный народ, принявший крещение и литургию от равноапостольных свв. Кирилла и Мефодия, утратил особое покровительство Божественной благодати и растворялся в сонме душ, ожидающих Страшного суда. Исполняя старинное пророчество Сивиллиной книги, местные книжники стремились передать Господу незапятнанную христианскую традицию — сочинения, посвященные особо почитавшимся в Болгарии святым. Таким образом, последняя трансформация средневековой болгарской культуры не была ее “возрождением из пепла, подобно Фениксу”, но скорее походила на обряжение в предсмертные одеяния, а голоса балканских творцов, воспевавших болгарских святых, вторили друг другу в разноязычной литии, подобной той, что шестью столетиями ранее провожала в последний земной путь св. Мефодия и затем звучала на Афоне. Христианское пони230 мание истории исходило из ее конечности, и итог средневековой болгарской культуры был подведен накануне того ожидавшегося момента, когда все течение истории должно было подойти к своей последней черте. 231 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И сторик культуры не может не ощутить противоречия между представлением о непрерывности культурных традиций, лежащих в основе самобытности ныне живущих народов, и задаваемой методологией исторического исследования дискретностью отдельных периодов их исторического развития. В свою очередь, эти периоды далеко не всегда совпадают со значимыми изменениями цивилизационного контекста развития данной культуры. Все это создало не одну проблему как историографического, так и идеологического свойства. Стечение исторических обстоятельств дает редкую возможность рассмотреть своеобразие культуры средневековой Болгарии, во-первых, в рамках цельной и завершенной, пусть и не совсем естественным способом, эпохи ее развития и, во-вторых, во время всего существования ее питательной среды — византийскославянской общности. Формулируя наиболее важные особенности средневековой болгарской культуры, мы должны начать с присущей ей специфической и не свойственной культурам других православных народов неотделимости от Византии. Трудно удержаться от заманчивой мысли о том, что именно эту особенность на исходе ее истории отразили средневековые гадательные книги, связывая Тырновскую Болгарию с зодиакальным созвездием Близнецов1. Попав с момента своего образования на земли, являвшиеся частью имперского доминиума Константинополя, раннесредневековая Болгария еще до принятия христианства выстроила свою “геокультурную”2 модель, основанную на неразрывной общности болгар и греков как сторон геополитического противостояния. Эта модель, как и любой культурный феномен, была хотя и связана со своим реальным прототипом, но не тождественна ему. Образ Византии в ней не был “слепком” своего 232 сложного и совершенного прототипа, он был адаптирован в духе собственных представлений, которые отразили и особенности “варварского” восприятия империи, и черты ее заведомо “экспортного” образа, пропагандировавшегося византийскими миссиями в соседних нехристианских землях, и неофициальный антураж, которым были всегда окружены имперские доктрины и институты. Для их воспроизведения в Болгарии использовались аналогичные, но не тождественные византийским элементы. Решающую роль в оформлении самобытного культурного облика нового христианского государства на рубеже IX—X в. сыграли принятый в качестве официального славянский язык и заложенные в основу культурной модели координаты идентичности, которые исходили из представлений об обособленности византийского имперского пространства и его разделении между болгарами и греками, начавшемся в дохристианские времена “по праву меча” и закрепленном по принятии христианства мифическим “даром благочестивой Феодоры”. Попытка Симеона восстановить его целостность через установление в нем болгарской гегемонии сменилась проведением в правление Петра линии на греко-болгарское “зеркальное” равновесие, основой которого являлась амбивалентность взглядов обеих сторон этого баланса на его характер и сущность. Если с точки зрения болгар они получили всю полноту царского и патриаршеского достоинства, то византийцы полагали, что, даровав суррогаты высших институтов власти новоиспеченным христианам, они обеспечили их прочное вхождение в возглавляемое василевсом “семейство государей”. Интеграция болгарских земель в византийскую территорию в XI—XII вв. обратила болгарскую культуру к мифологизированному общему болгаро-греческому прошлому, представления о котором стали основой политико-эсхатологических построений низовой книжности. В их ранней версии Болгария представала неразделимой частью общего с греками “Константинова царства”, а в более поздней — вновь обретала приоритет в греко-болгарской общности накануне Судного дня. Эти ожидания отвечали действительности — после взятия Фессалоник в 1185 г. и разгрома Константинополя в 1204 г. “обновленная” Асенями Болгария получила импульс к 233 трансформации культурной модели, основами которой стали идея “translatio imperii” и династическая идеология, а конкретным выражением — новая болгарская столица Тырново, увенчанная атрибутами царского и патриаршеского достоинства. Возобновленное после 1261 г. противостояние болгар палеологовской Византии, однако, имело исходным пунктом отрицание прежнего авторитета Константинополя, побывавшего в руках латинян и скомпрометированного попытками Михаила VIII заключить унию с Римом, и ставило в центр православного мира Тырново. Этот импульс, почти иссякший в войнах и смутах, потрясших Болгарию в последней четверти XIII — первой трети XIV в., получил новое развитие в официальной культуре правления Ивана Александра. Она по-прежнему строилась на “зеркальном” отражении Византии, но на этот раз болгар вдохновляла не сотрясаемая усобицами соседняя балканская страна, а полулегендарный образ империи Комнинов и ее столицы. Накануне османского нашествия новое болгаро-византийское культурное противостояние было смягчено принятием другой парадигмы, сложившейся в ходе многолетнего сотрудничества православного клира на Афоне. Главное место в ней занимали представления об общности православных народов и почетном втором месте в ней болгар, а политические идеи были оттеснены на задний план традиционными для исихазма XIV в. принципами гармонично организованного и иерархически совершенного мира. К минимуму была сведена и игравшая особую роль в поляризованной модели болгаро-византийского сосуществования амбивалентность взглядов обеих сторон друг на друга. Если ранее Византия признавала за элементами болгарской идентичности — царством, патриархией, столицей, языком, письмом лишь условную значимость, то во второй половине XIV в. греки и болгары сходятся в том, что Тырново — “вторая после Царьграда и словом, и делом” православная столица, тырновский патриарх — “во Святом Духе любимый брат и сослужитель” константинопольского первосвятителя, а греческая письменность — мать славянских письмен, первыми обладателями которых стали болгары. 234 Вышеописанная модель болгаро-византийского симбиоза-противостояния обусловила особую роль диалога между его сторонами, однако он редко выходил на уровень синхронного обмена в режиме “вызов — ответ”. Его началу предшествовала длительная история абсорбции болгарской официальной культурой “варварского типа” средств культурного общения, которую завершило принятие христианства. Переход на общий культурный язык сопровождался выяснением важных частностей относительно статуса сторон диалога, прежде всего вопроса о достоинстве славянского языка. Отказав грекам в особом надэтническом статусе “римского народа”, болгарская христианская культура первоначально приняла столь же надэтническую кирилло-мефодиевскую идею нового Христова народа славян, но вскоре трансформировала ее в этнополитической плоскости. Имперским претензиям Симеона византийская официальная культура противопоставляла идею общности ромеев и болгар во Христе, дополнив ее иерархически организованной схемой политической структуры византийской ойкумены. Стремление представить болгар не этносом с языческим прошлым, но заново рожденным Христовым народом славян быстро уступило место окрашенному в отчетливые этнополитические тона противостоянию. Оно могло быть агрессивным, как в правление Симеона, или мирным, как в эпоху Петра, но только одна из двух культур — болгарская не могла существовать ни без своего постоянного антипода и инварианта, ни вне образуемого этим соотношением ядра византийско-славянской общности. Происходившие в последней изменения имели для Болгарии особые последствия. Так, взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г. помогло решить спор за пребывание престола Асеней между аналогом Царьграда — болгарским Преславом и новым стольным городом Тырновом в пользу последнего, а гибель Византии под ударами османов в 1453 г. предрешила судьбу болгарской культуры, пережившей свои столицы — Тырново и Бдин. После падения Константинополя окончательно утратившая не только поддерживавшие ее политические и социальные институты, но и свое “зеркало” культура средневековой Болгарии съежилась, как пергамент 235 на догорающих углях, и ушла в свои последние оплоты — издавна создававшиеся в предчувствии грядущего конца света монастыри Витоши, Рилы и гор Македонии. В какой-то мере это было закономерным финалом, так как с первых шагов христианства в Болгарии важнейшей чертой ее культурного своеобразия являлся подчеркнутый эсхатологизм. По одной из легенд, записанной Продолжателем Феофана, именно размышления о Страшном суде, увиденном Борисом-Михаилом на фреске византийского художника, подвигли болгарского князя к принятию христианства, а согласно Псевдо-Симеону, болгарский князь повелел изобразить Страшный суд на одной из стен своего дворца сразу же по принятии христианства3. Разумеется, данная легенда — литературный топос многих рассказов о принятии христианства язычниками, а вера во Второе пришествие — краеугольный камень христианского мировоззрения, но историко-эсхатологические произведения, проникнув в раннесредневековую Болгарию вместе с христианством, оставались ведущим жанром болгарской книжности на протяжении всего Средневековья. Вряд ли случайно, что апокалиптические толкования св. Ипполита Римского на Книгу пророка Даниила составляют содержание одной из древнейших болгарских рукописей, открывавшейся ктиторским портретом крестителя Болгарии Бориса-Михаила, а тема “скончания века” оставалась одной из важнейших и в проповедях св. Климента Охридского, и в апокрифических пророчествах эпохи византийского господства, и в произведениях творцов Тырновской школы, получив особое развитие в эпоху османского завоевания. Динамика культурного своеобразия средневековой Болгарии может быть отслежена не только на примере трансформаций культурной модели. На каждом определенном этапе в болгарской книжности, всегда остававшейся ведущей культурной традицией, можно выделить особенности как ее идейного содержания, так и форм, в которых оно выражалось. Начавшись со стандартного миссионерского комплекта служебных и учительных текстов, объединенных в смоделированные в Византии компендиумы-сборники, болгарская книжность уже в X в. создала собственные выборки и оригинальные сочинения, составившие золотой фонд не только болгарской, но и всей православной славянской книжности. 236 Другой “фонд” — “народная” житийная и апокрифическая книжность в “сборниках смешанного состава” — был создан в монастырях болгарского Запада в период византийского владычества, обеспечив в будущем не только болгарам, но и другим балканским народам одну из форм криптокультуры, позволявшей поддерживать культурную идентичность в отсутствие собственных политических, социальных и конфессиональных институтов. В несколько меньшей степени, как представляется, был впоследствии востребован “фонд” культурной продукции тырновских скрипториев XIII в. — исторические, житийные и гимнографические сочинения в составе соответствующих канонических компендиумов, хотя отдельные акценты и модели амбициозной династической идеологии Асеней сыграли свою роль и в сохранении болгарского самосознания, и в идейном развитии переживших царство Асеней Сербии, Молдовы и Московской Руси. Наиболее ярким проявлением болгарской культурной самобытности стали произведения, созданные в обстановке охватившего всю византийско-славянскую общность духовного подъема XIV в. Начавшись с монастырей Афона и отразившись в официальной книжной продукции тырновских скрипториев правления Ивана Александра, этот подъем в наибольшей степени повлиял на творчество писателей-исихастов, работавших во второй половине столетия в многочисленных и тесно связанных между собой балканских обителях. Это время было единственным периодом в культуре православных народов юговостока Европы, когда духовное общение между ними развивалось на синхронном уровне. На фоне общей трагической судьбы греков и южных славян в XV в. оно подготовило становление спасительной для них однородной конфессионально определенной среды, которая вплоть до зарождения балканского национализма Нового времени определяла их культурную самобытность. C падением Болгарского государства живые и вещественные носители культуры двинулись из страны в те части православного мира, где еще оставались возможности хранить и умножать наследие пяти с лишним веков духовного развития. Лишенная поддержки ликвидированного османами государства, подчиненной греческому клиру цер237 ковной иерархии, уничтоженной, переселенной в Анатолию или ассимилированной знати, средневековая болгарская культура совершила свою последнюю трансформацию, растворившись в общеправославном и общебалканском культурном пространстве. 238 ПРИМЕЧЕНИЯ Введение Хвостова К. В. Византийская цивилизация // Вопр. истории. 1995. № 9. С. 32—48. 2 Документы к истории славяноведения в России. М.; Л., 1948. С. 328. 3 Франклин С. К вопросу о времени и месте перевода Хроники Георгия Амартола на славянский язык // ТОДРЛ. 1988. Т. 41. С. 130. 4 Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 167—170, 294—303, 310—345. 5 См.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979; Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М., 1988; Лаптева Л. П. Славяноведение в Московском университете в XIX — начале ХХ в. М., 1997. 6 Гюзелев В., Коларов Х. Спиридон Н. Палаузов // Палаузов С. Н. Избрани трудове. София, 1974. Т. 1. С. 7—82; Горина Л. В. Марин Дринов — историк и общественный деятель. М., 1986. С. 130—178. 7 Златарски В. История на българската държава през средните векове: В 3 т. София, 1918—1940 (репр. София, 1970—1972). 8 Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1908 (2-е изд. София, 1931; репр. София, 1971); Он же. Богомилски книги и легенди. София, 1925 (репр. София, 1970); Он же. Жития на св. Иван Рилски // Годишник на Софийския университет. Историкофилологически факултет. Кн. 32. София, 1936. С. 3—108; Он же. Старобългарски разкази. София, 1935. 9 Мутафчиев П. Изток и Запад в Европейското Средновековие. Избрано. София, 1993. С. 159—168. В понимании “византинизма” Мутафчиев близок К. Н. Леонтьеву, давшему развернутую трактовку этого феномена: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М., 1876. С. 1—45; Поляковская М. А. Интерпретация понятия “византинизм” в русской научной литературе конца XIX — начала XX в. // Византия: кумуляция и трансляция культур. Екатеринбург, 1997. С. 43—46. 10 Поливянний Д. И. Петър Мутафчиев и средновековната духовна култура на българите // Професор Петър Мутафчиев — познат и непознат. София, 1997. С. 97—104. 1 239 11 Ivan Dujčev: Biobibliographie. Sofia, 1996. Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969; Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Докл. сов. ученых на IV Междунар. съезде славистов. М., 1961. С. 95—151. 13 Ангелов Д. Общество и обществена мисъл в сpедновековна Бългаpия. IX—XIV в. София, 1979; Он же. Бългаpинът в Сpедновековието: Светоглед, идеология, душевност. Ваpна, 1985; Он же. Неугасващо самосъзнание. София, 1991. 14 Георгиев Е. Разцветът на българската литература през IX—X век. София, 1962; Он же. Литература на изострените борби в средновековна България. София, 1966; Он же. Литературата на Втората Българска държава: Литературата на XIII в. София, 1977. 15 См.: Василка Тъпкова-Заимова: Биобиблиография. Велико Търново, 1995. 16 Гюзелев В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII—XIV в. София, 1985; Gjuzelev V. Bulgarien zwichen Orient und Okzident. Die Grundlagen seiner geistigen Kultur vom 13. bis 15. Jahrhundert. Wien; Köln; Weimar, 1993. 17 Божилов И. Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България. София, 1983; Он же. Седем етюда по Средновековна история. София, 1995; Он же. Културата на Средновековна България. София, 1996. 18 Русев П. Избрани страници. София, 1982; Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура (VIII—XII век). София, 1992. 19 См.: Медиевистични ракурси: Топос и енигма в културата на православните славяни. София, 1994; Петканова Д. Средновековна литературна символика. София, 1994; Бог и цар в българската история. Шумен, 1996; Медиевистика и културна антропология: Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на професор Донка Петканова. София, 1998. 20 Станчев К. Поетика на стаpобългаpската литеpатуpа. София, 1982. Самостоятельное исследовательское значение имеют комментарии К. Станчева к болгарскому изданию книги Р. Пиккио (Пикио Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София, 1993. С. 673—699). 21 Стара българска литература: Т. 1. Апокрифи / Съставителство и редакция Д. Петканова. София, 1981; Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. София, 1996. 12 240 См.: Стара българска литература: Т. 4. Житиеписни творби / Съставителство и редакция К. Иванова. София, 1985. 23 Кожухаров С. Търновската книжовна школа и развитието на химничната поезия в старата българска литература // Търновска книжовна школа. София, 1974. С. 277—309; Попов Г. Триодни произведения на Константин Преславски. София, 1985. (КирилоМетодиевски студии; Т. 2). Ссылки на работы др. авторов см. в примечаниях к соответствующим главам. 24 Стойнев А. Митологията на бългаpските славяни. София, 1988; Он же. Философски-истоpически pазмишления. София, 1990; Он же. Св. Иван Рилски, официалното хpистиянство и богомилството. София, 1991. 25 Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. Пловдив, 1994; Бадаланова-Покpовская Ф. Х. “Основание цаpства” в болгаpских сpедневековых пpедставлениях // Механизмы культуpы. М., 1990; С. 137—151; Димитров П. Черноризец Петър. Шумен, 1995; Панова Р. Столичният град в културата на средновековна България. София, 1996. 26 Пикио Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция; Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500—1453. N. Y.; Washington, 1971; Idem. Six Byzantine Portraits. Oxford, 1988 (рус. пер. под одной обложкой: Оболенский Д. Византийское Содружество Наций; Шесть византийских портретов. М., 1998); Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia. Cambridge, 1981 (рус. пер.: Мейендорф И. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV в. Париж, 1990); Browning R. Byzantium and Bulgaria: A Comparative Study Across the Early Medieval Frontier. L., 1975; Birnbaum H. The Balkan Slav Component of Medieval Russian Culture // Medieval Russian Culture. Berkeley, 1984. P. 3—30. (California Slavic Studies; Vol. 12); Podskalsky G. Christentum und Theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988—1237). München, 1982 (2-е доп. изд. в рус. пер.: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237). СПб., 1996); Thomson F. J. The Implications of the Absence of Untranslated Greek Works in Original Early Russian Literature: Together with a Critique of a Distorted Picture of Early Bulgarian Culture // Slavica Gandensia. Vol. 15. 1988. P. 63—91; Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy: Constantine Kostenecki’s Treatise on Letters. Florence, 1987; Hebert La Bauve M. Hesychasm, Word-Weaving and Slavic Hagiography: The Literary School of Patriarch Euthymius. München, 1992. 27 Развитие этнического сознания славянских наpодов в эпоху pаннего сpедневековья. М., 1982; Развитие этнического самосознания 22 241 славянских наpодов в эпоху зpелого феодализма. М., 1989; Этническое самосознание славян в XV в. М., 1995. 28 Литаврин Г. Г. Условия развития болгарской культуры в XI— XII вв. // История и культура Болгарии М., 1981. С. 293—303; Он же. Культурный переворот в Болгарии и Древняя Русь // КирилоМетодиевски студии: Т. 4. София, 1987. С. 393—403. 29 Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства в книжности Московской Руси XV—XVI вв.: (Заметки к оценке явления) // Славяноведение. 1995. № 3. C. 31—45. 30 Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе. München, 1991. 31 Горина Л. В. Проблемы “Именника болгарских ханов” как части Еллинского летописца // Bulgarian Historical Review. 1995. № 1. С. 10—29. 32 Калиганов И. И. Историко-литературные проблемы южнославянского влияния на Руси // Славянские литературы: Х Междунар. съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 51—65. 33 Бибиков М. В. Византийский прототип древнейшей славянской книги: (Изборник Святослава 1073 г.). М., 1996; Творогов О. В. Древнерусские четьи сборники XII—XIV вв. // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 198—214; Т. 44. Л., 1990. С. 196—225; Т. 47. СПб., 1993. С. 3—33; Т. 51. СПб., 1999. С. 20—42. 34 Лукин П. Болгаро-сербские культурные связи начала XV в.: Константин Костенечский и его “Сказание о письменах”: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1994; Он же. Доктринальные источники “Сказания о письменах” Константина Философа Костенецкого // Эволюция грамматической мысли славян, XIV—XVII вв. М., 1999. С. 34—51. 35 Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 327—341, 427—432; История литератур западных и южных славян: Т. 1. От истоков до середины XVIII в. М., 1997. С. 111—187. 36 Лощакова О. В. “Золотой век” болгарского царя Симеона. Ярославль, 1996. 37 Ламанский В. И. Об истоpическом изучении гpеко-славянского миpа в Евpопе. СПб., 1871; Будилович А. С. Культуpная отдельность наpодов гpеко-славянского миpа. М., 1896. 38 Пикио Р. Православното славянство... С. 55. 39 Оболенский Д. Византийское Содружество Наций... С. 13. 40 Византия и славяните — типологическа съпоставка на култуpните модели: Кpъгла маса // Годишник на Софийский университет. Центъp за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”. Т. 84—85. 1990—1991. София, 1994. 41 Божилов И. Културата на средновековна България. С. 15. 242 Генчев Н. Българската култура XV—XIX в. София, 1988. С. 32—33; Джурова А. Някои наблюдения върху характера на културния модел в България през XIV век: (Предварителни бележки) // Древнерусское искусство: Балканы. Русь. М., 1995. С. 197—208. 43 “В последние десятилетия очаpование истоpического повествования pассеялось, как утpенний туман. Стpуктуpалисты, “анналисты”, функционалисты, аpеалисты и типологисты, пишущие поанглийски, по-фpанцузски и по-pусски, пpевpатили в спpавочник тексты, где состязались пpичины и игpы случайностей, мысли и слова, ценности и поступки. Водопад таких книг-спpавочников заливает пpеднамеpенными идеями своих автоpов пpоявления человеческого духа, pаспятого на системах и аналогиях” (Фол А. Пpедговоp // Венедиков И. Раждането на боговете. София, 1992. С. 3); “Нынче мода на культурологию. Мало быть лингвистом, филологом, литературоведом, нужно объяснять, толковать, интерпретировать смысл культуры, культурных форм, их историю. Едва ли кому придет в голову в небольшой статье попутно с какимнибудь специальным вопросом объяснить смысл болгарской, сербской или английской истории...” (Алексеев А. А. Кое-что о переводах в Древней Руси: (По поводу статьи Фр. Дж. Томсона “Made in Russia”) // ТОДРЛ. Т. 49. СПб., 1996. С. 291). 44 “Не были наши болгаpские цаpи, и патриаpхи, и аpхиеpеи без собственных летописных книг и кондик... но ныне нет у них книг...” (Паисий Хилендарский. История славяноболгарская. София, 1972. С. 216—217). 45 Термин введен культурно-исторической школой XIX в. (Я. Буркхардт) и, на наш взгляд, применим к современным исследовательским подходам, стремящимся к адекватности средневековому культурному сознанию. См.: Полывянный Д. И. Новые книги по истории средневековой болгарской культуры // Славяноведение. 1998. № 2. C. 124—126. 42 Глава I 1 2 См.: Златарски В. История на българската държава през средните векове: Т. 1, ч. 1. Епоха на хуно-българското надмощие. София, 1970; Мутафчиев П. История на българския народ. София, 1986; Ангелов Д. Образуване на българската народност. София, 1971; Ваклинов С. Формирането на старобългарската култура, VI— XI век. София, 1977. Cм., напр.: Цветков П. Славяни ли са българите? София, 1998; Добрев П. История на българската държавност: (По найстарите царски и църковни летописи). София, 1995. С. 161—167. 243 Раннефеодальные государства на Балканах, VI—XII вв. М., 1985. С. 34—98. 4 См.: Венедиков И. Медното гумно на пpабългаpите. София, 1983; Он же. Златният стожеp на пpабългаpите. София, 1987; Он же. Раждането на боговете. Следует подчеркнуть, что речь может идти о синтезе древнего культурного наследия Балкан и духовных ценностей их новых жителей, а не о прямом участии фракийцев как этнического компонента в формировании древнеболгарской народности. 5 См.: Джонова Д. Общонародното и регионалното в културно-историческото развитие на Дунавската равнина. София, 1989. 6 Примером может быть локализация наиболее крупных раскопанных святилищ — болгарского Мадарского комплекса неподалеку от Плиски и славянского капища близ Кутловицы (бывший Михайловград), где также сохранилось укрепление, воздвигнутое славянами на руинах ранневизантийской крепости (Станилов С. Славяни в Първото царство. Варна, 1986. С. 76—77). 7 Ангелов Д. Образуване на българската народност. С. 136—190. 8 Иванов С. А. К вопросу об элементах этнополитического сознания в “Болгарской апокрифической летописи” // Раннефеодальные славянские государства и народности: (Проблемы идеологии и культуры). София, 1991. С. 131—136. (Studia Balcanica; 20). 9 О титуле болгарских правителей VII—IX вв. см.: Бакалов Г. Средновековният български владетел: Титулатура и инсигнии. София, 1985. С. 82—96; Добрев П. История на българската държавност. С. 75—76. 10 Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. С. 74. 11 Бешевлиев В. Първобългарски надписи. С. 152, 154, 201. 12 Тыпкова-Заимова В. Формы власти в Византии и в балканских государствах (до Х в.) // Этносоциальная и этнополитическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 116—124. 13 Obolensky D. The Byzantine Inheritance of Eastern Europe. L., 1982, Р. 149. 14 Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 239—241. 15 См.: Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784—847). М., 1997. Библиогр. С. 214—220. 16 Раннефеодальные государства на Балканах. С. 99—131. 17 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 164—165, 171—172. 3 244 Москов М. Именник на българските ханове: Ново тълкуване. София, 1988. С. 20—21. 19 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. С. 271. 20 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 620. 21 Бешевлиев В. Първобългарите: Бит и култура. София, 1981. С. 75—76; Стойнев А. Светогледът на прабългарите. София, 1986. С. 74—84; Подосинов А. В. Ex Oriente Lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 365—398. 22 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 221—222. 23 Гръцки извори за българската история. Т. 5. София, 1964. С. 222—223. 24 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 109. 25 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 581, 620. 26 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 230—234. 27 Орбини М. Царството на славяните. 1601: Откъси. София, 1983. С. 61. 28 Mussakova E. The Representation of the Cross and the Acceptance of the Christian Symbolism in Old Bulgarian Culture // Das Christentum in Bulgarien und auf der übrigen Balkanhalbinsel in der Spätantike und im frühen Mittelalter. / Hrzg. V. Gjuzelev und R. Pillinger. Wien, 1987. S. 313—320; Николова Б. Ранното християнство в България преди покръстването: Теории и реалност // 1100 години Велики Преслав. София, 1995. Т. 1. С. 182—194. 29 Ditten H. Prominente Slawen und Bulgaren in byzantinischen Diensten (Ende des 7. bis Anfang des 10. Jahrhunderts) // Studien zum 8. und 9. Jahrhundert in Byzanz. Berlin, 1983. S. 95—119. 30 См.: Венедиков И. Прабългарите и християнството. София, 1995. 31 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 220. 32 Там же. С. 234—236. 33 Там же. С. 76—77. 34 Gjuzelev V. Byzanz und Bulgarien: Rivalität und Koexistenz // Byzanz und seine Nachbarn. München, 1996. S. 219—234. (SüdosteuropaJahrbuch; 26). 35 См.: Георгиев П. Мартириумът в Плиска и начало на християнството в България. София, 1993 36 Бешевлиев В. Първобългарските надписи. С. 234; Венедиков И. Прабългарите и християнството. С. 122-133. 37 Принятие христианства... С. 39—40. 38 Свод древнейших письменных известий о славянах: Т. 2. (VII— IX вв.). М., 1995. С. 288—289; Принятие христианства... С. 38. 39 Мутафчиев П. Книга за българите. София, 1987. С. 178—179. 40 Толстой Н. И. Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации: (Опыт предварительной 18 245 оценки) // Избранные труды: Т. 2. Славянская литературноязыковая ситуация. М., 1998. С. 30—42. 41 Латински извори за българската история. Т. 2. София, 1961. С. 62. 42 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 190—204. 43 Латински извори за българската история. Т. 3. София, 1965. С. 87, 89, 93, 97, 103, 105, 107. 44 Ангелов Б. Сказание за железния кръст // Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. София, 1970. Кн. 1. С. 89. 45 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. София, 1994. С. 35. 46 Попконстантинов К. Разпространение на старобългарската писменост през IX—XI век: (По епиграфски данни) // Старобългарска литература. 1985. Т. 17. С. 39—70. 47 Как предполагает П. Георгиев, строительство храмов и монастырей по всей стране, на которое указывают источники, сопровождалось попыткой учреждения общегосударственного культа болгарского первомученика Енравоты-Воина — принявшего крещение сына хана Омуртага, который был казнен своим братом — язычником Маламиром в 30-е годы IX в. (Георгиев П. Мартириумът в Плиска и начало на християнството в България). Эта гипотеза, к сожалению, не может быть доказана на основе существующих источников, а попытка поддержать ее “новым прочтением” надписи на золотом медальоне хана Омуртага не выдерживает критики (Михайлов С. Ново тълкуване на търновския златен еднолицев медалион // Исторически преглед. 1993. № 1. С. 83—87). 48 Гюзелев В. Княз Борис I. България през втората половина на IX в. София, 1969. С. 324—332, 395—396. 49 Browning R. Byzantium and Bulgaria. Р. 153. 50 Об этом прозвище со слов византийцев сообщает Лиудпрандт Кремонский в рассказе о посольстве к императору Константину Багрянородному, состоявшемся почти через тридцать лет после смерти Симеона (Латински извори за българската история. Т. 2. С. 323). 51 Добрев И. Кирило-Методиевите ученици през първите години от пристигането им в България (886—893) // Изследвания по кирилометодиевистика. София, 1985. С. 129—160; Каймакамова М. Културно-просветната дейност на Кирило-Методиевите ученици в България (886 — началото на Х век) // Исторически преглед. 1986. № 10. С. 18—23. 52 Sevcenko I. Three Paradoxes of Cyrillo-Methodian Mission // Slavic Review. 1964. Vol. 23. P. 223. 246 53 Tăpkova-Zaimova V., Simeonova L. Aspects of the Byzantine Cultural Policy towards Bulgaria in the Epoch of Photius // Byzantium and Europe. Athens, 1987. P. 153—163. 54 Василевски Т. Славянское происхождение солунских братьев Константина-Кирилла и Мефодия // Сов. славяноведение. 1991. № 4. С. 49—59. 55 Грашева Л. Брегалнишка мисия // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985. С. 237—243. 56 Велев И. Кирилометодиjевската традиция и континуитет. Скопjе, 1997. С. 13—14. 57 Петров К. Делото на Кирил и Методи во обновуването и распространеньето на култот на Климент Римски во уметността // Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопие, 1978—1980. Т. 5/6. С. 269. 58 Драгова Н. Балканският контекст... С. 94—95. 59 Прохоров Г. М. Глаголица среди миссионерских азбук // ТОДРЛ. 1992. Т. 45. С. 178—199. 60 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 16. 61 См.: Хабургаев Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки древнерусской книжности. М., 1994. С. 62—74. 62 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2. С. 170— 173, 206—209. 63 Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква (IX—XIV в.). София, 1997. С. 45—47. 64 Латински извори за българската история. Т. 2. С. 151—154, 156— 157. 65 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 30. 66 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 306. 67 Божилов И. Цар Симеон Велики. С. 33—35. 68 Добрев И. Кирило-Методиевите ученици... С. 136, 145. 69 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 32. 70 Дуйчев И. Стара българска книжнина. София, 1944. Т. 1. С. 42. 71 Кожухаров С. Наум // Кирило-Методиевска Енциклопедия. София, 1995. Т. 2. С. 796. 72 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 35. Житие сохранилось в греческой версии, составленной охридским архиепископом Феофилактом в конце XI — начале XII в., отсюда в нем употребляется подлежащий далее специальному объяснению термин “болгары”. 73 Златарски В. История на българската държава... Т. 1, ч. 2. С. 227— 247; Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. С. 14—22. 247 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 33. Там же. С. 69—72. 76 Здесь мы осмелились скорректировать известную формулировку Д. Оболенского: “славянская по форме и первое время греческая по содержанию” (Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. С. 403). 77 Попконстантинов К. Разпространение на старобългарската писменост през IX—XI век. С. 39—70. 78 Драгова Н. Балканският контекст... С. 146. 79 См.: Dvornik F. Byzantine Missions among the Slavs. SS. ConstantineCyril and Methodius. New Brunswick, 1970. 80 Попов Г. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски и Константин Преславски // Български език. 1982. № 2. С. 3—26. 81 Тотев Т. Старобългарските манастири в светлината на археологическите разкопки и проучвания // Старобългарска литература. 1990. Т. 22. С. 3—13. 82 См.: Добрев И. Кирило-Методиевите ученици... С. 129—161. 83 Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970. Т. 1. С. 303. 84 Верещагин Е. М. Последование под 30-м января из Минеи № 98 РГАДА (Москва) — предполагаемый гимн первоучителя славян Кирилла // Старобългаристика. 1994. № 1. С. 3—21. 85 Вопрос об “отеческих книгах” дискуссионен (Николова С. Отечески книги // Кирило-Методиевска Енциклопедия. Т. 2. С. 886— 891), но древность перевода Синайского патерика не подвергается сомнению. 86 См.: Златарски В. Н. Най-старият исторически труд в старобългарската книжнина // Списание на БАН. 1923. Кн. 27. С. 132—182. Помещение “Историкий” на последних листах единственного из кодексов, содержащих “Учительное евангелие”, вызывает сомнения в изначальной принадлежности этого текста сборнику Константина Преславского. 87 Каймакамова М. Българска средновековна историопис. София, 1990. С. 67—68. 88 Дата (27 июля) искажена. Битва болгар с Никифором состоялась 26 июля, а в синаксарной традиции рассказ о гибели Никифора помещается под 23 или 25 июля. См.: Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 11—15; Златарски В. История... Т. 1, ч. 1. С. 526—533. 89 Thomson F. John the Exarch’s Theological Education and Proficiency in Greek as Revealed by his Translation of of John of Damascus’ “De fide orthodoxa” // Palaeobulgarica. 1991. № 1. Р. 35—58. 74 75 248 Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Ексарха Болгарского: По харатейному списку Московской синодальной библиотеки. М., 1878. С. 24. 91 Трендафилов Х. Йоан Экзарх и становление славянского теологического монологизма // Медиевистика и културна антропология. С. 154—161. 92 Гюзелев В. Княз Борис Първи. С. 457—471. 93 Антоний (Вадковский). Из истории древнеболгарской церковной проповеди: Константин Болгарский и его Учительное Евангелие. Казань, 1885. С. 114. 94 См.: Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. С. 23—35. 95 Принятие христианства... С. 60. 96 Лощакова О. В. “Золотой век” болгарского царя Симеона. С. 17—18. 97 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 75. 98 Там же. Т. 5. С. 129. 99 Петров П., Гюзелев В. Христоматия по история на България. София, 1978. Т. 1. С. 152; Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 1. С. 1—2, 7, 76. 100 Литаврин Г.Г. Византийская система власти и болгарская государственность (VII—XI вв.) // Раннефеодальные славянские государства и народности: (Проблемы идеологии и культуры). София, 1991. С. 24. (Studia Balcanica; 20). 101 Ваклинов С. Формиране на старобългарската култура. С. 149. 102 Станчев С. и др. Надписът на чъргубиля Мостич. София, 1955. 103 О Прогласе см.: Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре: Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 19—256. 104 Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX— XVIII вв. М., 1990. С. 142 (перевод адаптирован). 105 Топоров В. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 51—55, 135—138. 106 Родник златоструйный. С. 144; Куев К. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974. 107 Эта идея глубоко укоренилась в культуре православных славян. Ее современную реминисценцию мы видим в упорно повторяемом клише о “создании славянской письменности” как главной заслуге солунских братьев — ведь с христианской точки зрения свв. Кириллу и Мефодию не может быть усвоено их действительно эпохальное дело — создание литургического языка. 108 Пикио Р. Православното славянство... С. 250—254; Thomson F. SS. Cyril and Methodius and a Mystical Western Heresy: Trilinguism. A Contribution to the Study of Patristic and Mediaeval Theories of Sacred Languages // Analecta Bollandiana. 1992. № 110. Р. 67—122. 90 249 Cказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 101. Антоний (Вадковский). Указ. соч. С. 119. 111 Чернышева М. И. Некоторые соображения по поводу группировки раннеславянских переводов с греческого языка по переводческим приемам // Byzantinorussica. 1994. № 1. C. 62—75. 112 Богословие св. Иоанна Дамаскина. С. 5. 113 Антоний (Вадковский). Указ. соч. С. 33. 114 Пикио Р. Православното славянство... С. 271—296. 115 Там же. С. 277—278. 116 Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха // Сказания о начале славянской письменности. С. 57—60. 117 Там же. С. 104. 118 Шрайнер П. Греческий язык и кириллица на территории Болгарии // Кирило-Методиевски студии. София, 1987. Т. 4. С. 274—282. 119 Пикио Р. Православното славянство... С. 150—152. Если принять весьма вероятные предположения о переводе Мефодием на славянский язык Номоканона и “Закона судного людем” краткой редакции, то начало своеобразной “литературной диглоссии” (различий церковного и светского языков) следует искать еще в Великой Моравии. См.: Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978. С. 83—88; Драгова Н. Балканският контекст... С. 143—147. 120 Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. С. 23—35. 121 Турилов А. А. Византийский и славянский пласты в “Сказании инока Христодула”: (К вопросу о происхождении памятника) // Славяне и их соседи: Греческий и славянский мир в Средние века и раннее Новое время. М., 1996. С. 93. 122 Ангелов Б. Сказание за железния кръст. С. 84. 123 Там же. 124 Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. С. 44—53. 125 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 1. С. 76. 126 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 319. 109 110 Глава II Понятие “Золотой век” в научной литературе со времен С. Н. Палаузова и до наших дней связывается преимущественно с правлением Симеона, хотя культурные импульсы его эпохи получили несомненное продолжение и развитие в правление Петра. Время благоденствия в средневековых болгарских текстах связы250 1 вается с обоими государями. См.: Димитров П. Характер и значение на Следсимеоновата епоха // Димитров П. Петър Черноризец. С. 7—16. 2 Гръцки извори за българска история. Т. 4. С. 283. 3 Божилов И. Цар Симеон Велики. С. 36. 4 Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 213, 221, 256, 268, 281. 5 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 1992. С. 171. 6 Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 176—184. 7 Там же. С. 253. 8 Димитров П. Вербални конструкции за личността на цар Симеон: (Методологически мотиви) // Преслав: Сборник. София, 1993. Т. 5. С. 26—32. 9 Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. С. 115. 10 Икономова Ж. Йоан Екзарх // Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1995. Т. 2. С. 169—194. 11 Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского: Ранняя русская редакция. М., 1998. С. 64. 12 К сожалению, только два из “Слов” Иоанна Экзарха изданы на соответствующем современным требованиям научном уровне (Иванова-Мирчева Д. Йоан Екзарх Български: Слова. София, 1971. Т. 1). См.: Калиганов И. И. Болгаро-русские литературные связи эпохи Средневековья: (Критический обзор мнений и задачи изучения) // Славяноведение. 1998. № 2. С. 31, 43. Примеч. 20. 13 Соболевский А. И. Древняя церковнославянская литература и ее значение. Харьков, 1908. С. 17. 14 Шестоднев... С. 470—472. 15 Панова Р. Столичният град в културата на средновековна България. София, 1995. С. 90—140. 16 Венедиков И. Преслав. преди да стане столица на България // Преслав. Т. 1. С. 39—47. 17 Рашев Р. Цар Симеон, пророк Моисей и българският Златен век // 1100 години Велики Преслав. София. 1995. Т. 1. С. 62—65. 18 Шестоднев... С. 307. 19 Москов М. Именник на българските ханове. С. 17—19. 20 Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 276. 21 Цит. по: Рождественская М. В. Царь Давид, царь Симеон и вещий Боян. // ТОДРЛ. 1997. Т. 50. С. 104—109. 22 Шестоднев... С. 466. 23 Георгиев П. Златната църква в Преслав // Преслав. Т. 5. С. 13—14. 251 Славова Т. Преславската редакция на старобългарски богослужебни книги // Кирило-Методиевски изследвания. София, 1985. С. 161—173. 25 Петканова Д. Средновековна литературна символика. С. 24—26. 26 Венедиков И. Медното гумно на прабългарите. С. 74—84. 27 Трендафилов Х. Етюди по поетика на историята. С. 75—80. 28 Cказания о начале славянской письменности. С. 87. 29 Чичуров И. С. Политическая идеология Средневековья: Византия и Русь. М., 1990. С. 59—60. 30 Закон судный людем краткой редакции. М., 1961. С. 9. 31 См.: Бадаланова Ф. К. “Основание царства”... С. 137—151. 32 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. С. 283. Цифра не случайна — основание Константинополя легендарная традиция связывала с 28-й годовщиной правления Константина Великого; на самом деле перенесение столицы на берега Босфора произошло в 330 г., на 25-м году правления Константина (306—337). См.: Георгиев П. Богоспасеният град Велики Преслав // 1100 години Велики Преслав. Т. 1. С. 93—94. 33 Бакалов Г. Средновековният български владетел. С. 23—34. 34 Николова Б. Устройство и управление на Българската православна църква. С. 45. 35 Сharanis P. The Monk as an Element of Byzantine Society // Dumbarton Oaks Papers. Washington, 1971. Vol. 25. P. 67. 36 Тотев Т. Преславските манастири — средища на художествен живот през IX—X век // Векове. 1980. № 5. С. 46—52. 37 Станчев С. и др. Указ. соч. С. 50—51, 89—97. 38 См. миниатюру Мадридской рукописи “Исторического обозрения” Иоанна Скилицы: Божков А. Миниатюрите от мадридския ръкопис на Йоан Скилица. София, 1972. С. 113. 39 Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 176—178. 40 Там же. С. 203, 218. 41 Там же. Т. 5. С. 93—94. 42 См.: Иванов С. А. Восприятие пределов империи: от Рима к Византии // Славяне и их соседи: Вып. 8. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. М., 1998. С. 4—11. 43 Гръцки извори за българската история. Т. 5. С. 94. 44 Там же. Т. 4. С. 302. 45 Там же. С. 298. 46 См.: Каймакамова М. Българска средновековна историопис. С. 164—171. 47 Турилов А. А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в.: (К вопросу формирования болгарского ва24 252 рианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства) // Старобългаристика. 1999. № 1. С. 14—34. 48 Полной истории канонизации болгарских святых, к сожалению, нет. Единственной попыткой такого рода остается работа прошлого века: Филарет (Гумилевский) [архиеп. Черниговский]. Святые южных славян. 4-е изд. СПб., 1894. 49 Примером может быть героиня Льюиса Кэрролла: “Мне так интересно узнать, топят они [жители Зазеркалья] зимой камин или нет. Но в это Зеркало, как ни гляди, камина не увидишь, разве что наш камин задымит и тогда и там появится дымок. Только это, верно, они нарочно — чтобы мы подумали, будто у них в камине огонь. А книжки там очень похожи на наши — только слова там написаны задом наперед. Я это точно знаю, потому что однажды я показала им нашу книжку, а они показали мне свою!” (Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес; Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1978. С. 115—116). 50 Аверинцев С. С. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском Средневековье. М., 1986. С. 24—28. Иное мнение проводит Д. М. Буланин, поддерживая вполне правомерное, но вызвавшее в свое время не вполне понятное раздражение у отечественных славистов уподобление Ф. Дж. Томсоном (вслед за Г. Федотовым) перешедшей в Киевскую Русь части византийского наследия “библиотеке провинциального византийского монастыря”. При этом петербургский исследователь считает, что византийские школьные интерпретации богословия и философии подверглись суровой “цензуре” Симеонова круга, в результате чего из рецептируемого материала были исключены все явные элементы античной “языческой” культуры. См.: Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI—XV вв. С. 74—79, 269— 272. 51 Панайотов В. Библиотека на цар Симеон I: Теоретичен аспект // Бог и цар в българската история. С. 226—230. 52 Вопрос о конкретных путях проникновения преславского книжного наследия на Русь дискуссионен. См.: Мошин В. А. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X—XV вв. // ТОДРЛ. Л., 1965. Т. 19. С. 28—106; Thomson F. J. The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus // Harvard Ukrainian Studies. 1988/1989. Vol. 12/13. P. 214—261; Калиганов И. И. Болгаро-русские литературные связи эпохи средневековья. С. 27—45. 53 Гръцки извори за българската история. Т. 4. С. 254. 253 Родник златоструйный. С. 161. Следует учитывать, что “Прилог” читается в русских списках не старше XV в., не сохранивших Симеонову редакцию сборника. См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 187—190; Димитров П. Около предисловието и названието на “Златоструй” // Език и литература. 1980. № 2. С. 17—28. 56 Thomson F. J. Crysostomica Palaeoslavica. A Preliminary Study of the Sources of the Chrysorrhoas (Zlatostruj) Collection // Cyrillomethodianum. 1982. Vol. 6. P. 1—65. 57 Литература, посвященная Изборнику, огромна. См.: Thomson F. J. The Symeonic Florilegium — Problems of Its Origin, Content, Textology and Edition, together with an English Translation of the Eulogy of Tzar Symeon // Palaeobulgarica. 1993. № 1. P. 37—53. 58 Соотношение внешнего вида архетипа и списка 1073 г. остается неизвестным. Существует мнение, что архетип Изборника состоял из двух томов и не имел иллюстраций (Lunt H. On the Izbornik of 1073 // Harvard Ukrainian Studies. 1983. Vol. 7. Р. 359—376). Последние были выполнены позднее в Константинополе по соответствующим столичным образцам. Это предположение высказывается и касательно двух других древнерусских книг, прототипы которых восходят к Симеоновой библиотеке, — Учительного евангелия и Ипполитова сборника. В этом случае встает вопрос, является ли следование константинопольским образцам признаком преславской книжной миниатюры первой половины Х в. или следствием “предэкспортной” подготовки Симеонова сборника в Константинополе в начале XI в. Гипотеза о самостоятельном оформлении книг в Киеве по византийским оригиналам, на наш взгляд, не учитывает некоторых идейных аспектов иконографии. (Лихачева В. Д. Художественное оформление Изборника Святослава 1073 г. // Византия и Русь. М., 1989. С. 291—312). 59 Левочкин И. В. Изборник 1073 г.: энциклопедия или хрестоматия? // Сов. славяноведение. 1988. № 5. С. 70—74. 60 Бибиков М. В. Указ. соч. С. 334—341. 61 Симеонов сборник: (По Светославовия препис от 1073 г.). София, 1991. Т. 1: Изследвания и текст. С. 203. 62 Thomson F. J. The Symeonic Florilegium. Р. 49. 63 Симеонов сборник. Т. 1. С. 720. 64 Там же. С. 202. 65 В списке 1073 г. помещена явно русская по композиции миниатюра, изображающая Святослава с семьей (Лихачева В. Д. Художественное оформление... С. 291—292). На присутствие портрета 54 55 254 Симеона в прототипе может указывать параллель с другой книгой этого времени — Ипполитовым сборником. 66 Новое издание Похвалы с подробным комментарием и переводом на английский см.: Thomson F. J. The Symeonic Florilegium. Р. 51— 53. 67 Лихачев Д. С. Назначение Изборника 1076 г. // ТОДРЛ. 1990. Т. 44. С. 179—184. 68 Veder W. The “Izbornik of John the Sinner” — а Сompilation from Сompilations // Полата кънигописьная. 1983. Т. 8. С. 15—33. 69 Буланин Д. М. Неизвестный источник Изборника 1076 г. // ТОДРЛ. 1990. Т. 44. С. 161—178. 70 Там же. С. 168. 71 Чичуров И. С. Указ. соч. С. 32—60. 72 Божилов И. Цар Симеон Велики. С. 136—137. 73 Димитров П. Изборниците на цар Симеон // Преславска книжовна школа: Изследвания и материали. София, 1995. Т. 1. С. 123— 130. 74 Горина Л. В. Византийская и славянская хронография: (Существовал ли Болгарский хронограф?) // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 121—129; Она же. Проблемы “Именника болгарских ханов” как части Еллинского летописца // Bulgarian Historical Review. 1995. № 1. С. 10—29. 75 Горина Л. В. Византийская и славянская хронография. С. 125. 76 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV в. М., 1980. С. 17. Альбом. № 2. 77 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България // Cтаробългаристика. 1990. № 4. С. 39—46. 78 Иногда ктиторский портрет идентифицируется как изображение Бориса-Михаила (История на българското изобразително изкуство. Т. 1. София, 1976. С. 117—118). 79 Любарский Я. Н. Замечания о структуре “Хронографии” Иоанна Малалы // Общество и культура на Балканах в средние века. Калинин, 1985. С. 3—16. 80 Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе // Сборник Отделения русского языка и словесности. СПб., 1914. Т. 91, вып. 2. С. 26. 81 Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 163—172. 82 Цит. по: Турилов А. А. Византийский и славянский пласты... С. 96. Примеч. 1. 83 См.: Бакалов Г. Средновековният български владетел. С. 114. 255 Бешевлиев В. Първобългарски надписи. С. 171. Гръцки извори за българската история. Т. 5. С. 133, 254. 86 Мутафчиев П. История на българския народ. С. 197—198. 87 Златарски В. История... Т. 1, ч. 2. С. 498—499. 88 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 325. 89 Гръцки извори по българската история. Т. 5. С. 221—222; Латински извори за българската история. Т. 2. С. 326—327. 90 См.: Димитров П. Характер и значение на следсимеоновата епоха // Преслав. Т. 3. С. 118—120. 91 См.: Павлова Р. Черноризец Петър — старобългарски писател от Х век. София, 1994. (Кирило-Методиевски студии; 9); Димитров П. Петър Черноризец. Шумен, 1995 92 Скоморохова-Вентурини Л. Славянские месяцесловы как памятник межславянских связей и отношений славянских и неславянских народов: (Культурологический и лингвистический аспекты) // Ricerche Slavistiche. 1992/1993. Vol. 39/40. C. 251—252; Миклас Х., Шнитер М. Имена и дати — предварителни резултати от изследването на т. нар. “западен фонд” в славянские месецослови // Медиевистика и културна антропология. С. 27—36. 93 Павлова Р. Петър Черноризец... С. 25—26. 94 Атанасов П. Яков Крайков: Книжовник, издател, график от XVI век. София, 1980, С. 142. 95 Бегунов Ю. К. Козма Пресвитер в славянских литературах. С. 351. 96 Димитров П. Петър Черноризец. С. 17—24. 97 Соколов М. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. М., 1888. С. 108—142; Димитров П. Петър Черноризец. С. 167—192. 98 См.: Гечева К. Богомилството: Библиография. София, 1997. 99 Дуйчев И. Рилският светец. София, 1947 (репр. София, 1990). 100 Бегунов Ю. К. Козма Пресвитер в славянских литературах. С. 356. 101 Simeonova L. Bogomilism and Literacy (An Attempt of a General Analysis of a Tradition) // Etudes Balkaniques. 1993. № 1. Р. 90—97. 102 Местом написания жития считаются Рильский монастырь или его средецкое подворье, где находились до перенесения в Тырново мощи святого (Спасова М. Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски? // Старобългаристика. 1998. № 4. С. 50—74). 103 См.: Иванова К. Най-старото житие на Иван Рилски и негови литературни паралели // Медиевистика и културна антропология. С. 37—47. 104 Общепринятый год кончины святого (946) вызывает сомнения, т. к. фиксируется не ранее XVII в. русскими святцами и основан84 85 256 ным на них т. н. Мазуринским летописцем (Полное собрание русских летописей. М., 1968. Т. 31. С. 39. 105 Дуйчев И. Рилският светец. С. 139—168. В отличие от большинства исследователей автор не подвергает аутентичность “Завета” сомнению. 106 Единственным местом, актуализирующим мирскую жизнь, в “Завете” является призыв к инокам: “Новопросвещенных людей от единокровного вам народа утверждайте в вере и заставляйте отказываться от непристойных обычаев языческих, которые они и по принятии святой веры сохраняют”. Цит. по: Дуйчев И. Рилският светец. С. 148. 107 Николова С. Патеричните разкази в българската средновековна литература. София, 1980. 108 Станчев К. Поетика на старобългарската литература. С. 16—17. 109 Сергий, архиепископ Владимирский. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 1: Восточная агиология. С. 124; Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. С. 171. Упоминание в Охридском апостоле XII в. (Там же. С. 126) под 8 января “Григория епископа Мизийского”, широко цитируемое в литературе, основано на неверном прочтении “Нисского”. См.: Турилов А. А. Две забытые даты... С. 14—15. 110 Иванов С. А. К историко-культурной интерпретации старославянских переводов с греческого: (По данным житий Супрасльского сборника) // Сов. славяноведение. 1988. № 1. С. 55—60. 111 Попконстантинов К. Епиграфски бележки за Иван, Царсимеоновият син // Българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1994. Т. 3. С. 70—80. 112 Naumow A. E. Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowianskiej. Kraków, 1976. S. 77—106. 113 Петканова Д. Апокрифни моменти в творчеството на Климент Охридски // Кирило-Методиевски студии. София, 1991. Т. 8. С. 11—21. 114 Милтенова А. Апокрифни произведения в манастирските сборници: (Постановка на въпроса) // Кирило-Методиевски студии. София, 1986. Т. 3. С. 262—264. 115 См.: Станков Р. Лексика Исторической Палеи. Велико Търново, 1994. 116 Соколов М. И. Материалы и заметки... С. 86, 88. 117 Там же. С. 107. Судя по другим спискам, это чтение — древнейшее, т. е. может принадлежать самому Иеремии. 118 Loos M. Dualist Heresies in the Middle Ages. Praha, 1974. P. 41—67; Fine J. V. A. Jr. The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. Ann Arbor, 1983. P. 178—179. 257 Оболенский Д. Византийское Содружество... С. 130. Ангелов Д. Богомилството в България. С. 235. 121 Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. М., 1992. С. 55—56. 122 Loos M. Dualist Heresies in the Middle Ages. Р. 89—90. 123 Димитров П. Петър Черноризец. С. 140—166. 124 Бегунов Ю. К. Козьма Пресвитер в славянских литературах. С. 342. 125 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. С. 60—87. 126 Denkova L. Bogomilism and Literacy... P. 93—94. 127 Fine J. The Early Medieval Balkans. Р. 179. 128 Цит. по: Петканова-Тотева Д. Апокрифна литература и фолклор. София, 1978. С. 27. 129 Драгоjловић Д. Богомилство на Балкану и в Малоj Азиjи. Београд, 1982. Т. 2: Богомилство на православном Изтоку. С. 194. 130 Следует безусловно отвергнуть попытки оторвать период правления Самуила от истории Первого Болгарского царства (См.: Пириватрић С. Самуилова држава. Београд, 1998. С. 53). Переход царской резиденции и кафедры патриарха на запад страны, в известной степени конкурировавший с северо-востоком в Х в., а также принятие Самуилом и его преемниками титула “самодержца болгар” следует расценивать как вполне адекватную реакцию на захват восточной части страны Иоанном Цимисхием и последовательную политику Василия II, направленную на окончательное подчинение Болгарского царства Константинополю. 119 120 Глава III 1 2 3 4 5 6 7 Грамоты Василия II сохранились в поздней копии XVI в., снятой не с оригинала, а с копии XIII в. Отсюда некоторые ученые ставят их подлинность под сомнение (Пириватрић С. Самуилова држава. С. 21). Гръцки извори за българската история. Т. 6. С. 40. Там же. С. 44. Литаврин Г. Г. България — Византия: XI—XII в. София, 1987. С. 198—199. Снегаров И. История на Охридската архиепископия. София, 1995. Т. 1. С. 52—63. Гръцки извори за българската история. Т. 6. С. 42. Дристр, упомянутый во втором хрисовуле Василия II, вскоре по его смерти был возвращен в прямое подчинение Константинополю (Снегаров И. Указ. соч. Т. 1. С. 83). 258 Иванов С. А. Болгарская апокрифическая летопись как памятник этнического самосознания болгар // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. С. 75. 9 Рогов А. И. Отражение в идеологической жизни славян разделения церквей в 1054 г. (XI—XIII вв.) // Раннефеодальные славянские государства и народности. София, 1991. С. 88—96. (Stidia Balcanica; 20). 10 Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. С. 34—49. 11 Снегаров И. Указ. соч. Т. 1. С. 195—197. 12 Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. С. 280—303. 13 Снегаров И. Указ. соч. Т. 1. С. 196. 14 Божилов И. Българите във Византийската империя. София, 1995. С. 72—78. 15 Литаврин Г. Г. България — Византия. С. 303—310. 16 Драгова Н. Балканският контекст... С. 162—168. 17 На это указывает документальный характер рассказа о перенесении мощей в житии, написанном Георгием Скилицей (Иванов Й. Жития на св. Иван Рилски. С. 48—49). 18 Божилов И. Седем етюда по средновековна история. С. 325—327. 19 Литаврин Г. Г. Особенности развития самосознания болгарской народности со второй четверти Х до конца XIV в. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. С. 52—53. 20 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 35. 21 Там же. С. 62—69. 22 Снегаров И. Указ. соч. С. 268—274. 23 Подскалски Г. Бележки върху структурата и тълкуването на първото гръцко житие на Наум // 1080 години Наум Охридски. София, 1993. С. 7—11. 24 Драгова Н. Старобългарските извори на Житието на Петнадесетте Тивериуполските мъченици от Теофилакт Охридски // Проучванията по случай Втория Международен Конгрес по балканистика. София, 1970. С. 105—131. (Studia Balcanica; 2). 25 Дуйчев И. Проучвания върху средновековната българска история и култура. София, 1981. С. 174—192. 26 Гръцки извори за българската история. Т. 9, ч. 2. С. 148—149. 27 Ангелов Б. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. София, 1977. С. 56—71. 28 Гергова Е. Западнобългарските анахорети в старобългарската литература: Функционални аспекти и филологически проблеми на агиологията. АКД. София, 1996. С. 8—13. 8 259 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 402—404. Там же. С. 395, 398. 31 Ангелова П. Един изчезнал (може би) български рукопис от Берат // Македонски преглед. 1996. № 2. С. 91—93. 32 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 406. 33 Янкова В. Цикълът български аскетични жития и търновската агиографска традиция от XIII—XVI в. // Търновска книжовна школа. София, 1994. Т. 5. С. 192. 34 Българска ръкописна книга, X—XVIII в. София, 1976. № 15, 18, 21, 23. 35 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 452—467. 36 Енински апостол: Факсимилно издание. София, 1983. 37 Чавръков Г. Средища на българската книжовност, IX—XVIII в. София, 1987. С. 50—51. 38 Принятие христианства... С. 68—102. 39 См.: Миjушковић С. Летопис попа Дукљанина. Титоград, 1967. 40 Орбини М. Царството на славяните. С. 15—17, 37. 41 Драгова Н. Фрагменти от старобългарското житие на свети княз Борис в балкански средновековни творби // Литературознание и фолклористика: В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков. София, 1983. С. 93—100. 42 Орбини М. Царството на славяните. С. 142—151. 43 Литаврин Г. Г. България — Византия. С. 306—310. 44 Еще более ранний сербский “родослов” — династическая хроника первых сербских князей — отражен в трактате Константина Багрянородного (Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 144—149). 45 См.: Калиганов И. И. Болгаро-русские литературные связи эпохи средневековья: (Критический обзор мнений и задачи изучения) // Cлавяноведение. 1998. № 2. С. 27—45; Он же. Историко-литературные проблемы южнославянского влияния на Руси. С. 51—65; Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства в книжности Московской Руси XV—XVI вв. С. 31—45. 46 См.: Михайлов Е. Българо-руските взаимоотношения от края на Х до 30-те години на XIII в. в руската и българската историография // Годишник на Софийския университет. 1966. Т. 59, ч. 3. С. 161— 186; Он же. Българо-руските културни взаимоотношения от края на Х до 30-те години на XIII в. в руската и българската историография // Годишник на Софийския университет. 1966. Т. 60, ч. 3. С. 218—255. 47 См.: Рогов А. И. Культурные связи Киевской Руси с балканскими странами // Славянские культуры и Балканы. София, 1978. Т. 1. С. 42—49; Георгиев Э. Начало болгаро-русских культурных и лите260 29 30 ратурных связей // Руско-български връзки през вековете. София, 1986. С. 12—22; Зыков Э. Г. Заметки о русско-болгарских связях старшей поры (X—XI вв.) // Русско-болгарские фольклорные и литературные связи. Л., 1976. Т. 1. С. 9—31. 48 Рыков Ю. В., Турилов А. А. Неизвестный эпизод болгаро-византийско-русских связей XI в. Киевский писатель Григорий Философ // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1983. М., 1984. С. 170—176. 49 Thomson F. J. The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus’. P. 214—261. 50 Бобринской А. Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийской империи. СПб., 1890. Ч. 1. С. 153. 51 Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. София, 1967. Т. 2. С. 142—147. 52 Thomson F. J. The Bulgarian Contribution... P. 241. 53 Сперанский М. Н. Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы? // Slavia. 1927—1929. Vol. 7. P. 516— 535. 54 Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства. С. 32. (Автор правильно называет его болгарским, т. к. сербский элемент этого влияния по понятным причинам не мог существовать.) Ср.: Калиганов И. И. Болгаро-русские литературные связи эпохи Средневековья... С. 39. (Здесь хронологические границы “болгарского литературного влияния” определяются XI— XIV вв.) 55 Данный список может быть расширен за счет прототипа Остромирова евангелия, в миниатюрах которого находят отчетливые следы преславских образцов и др. Рогов А. И. Культурные связи Киевской Руси с другими славянскими странами в период ее христианизации // Принятие христианства народами Центральной и ЮгоВосточной Европы. С. 211—213; Панайотов В. Проникване на старобългарските писмени паметници в Киевска Русия // Die Slawischen Sprachen. 1989. Vol. 17. S. 75—83. 56 Thomson F. J. The Corpus of Slavonic Translations Available in Muskovy // Christianity and the Eastern Slavs. P. 181. 57 Калиганов И. И. Болгаро-русские литературные связи эпохи средневековья... С. 37. 58 Мошин В. О периодизации русско-южнославянских литературных связей XI—XV вв. // ТОДРЛ. Л., 1963. Т. 19. С. 28—106. 59 Словарь книжников и книжности Древней Руси, XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 152. 60 Первые письменные сведения о Афоне как монастырском сообществе относятся к 843 г. (грамота-сигиллий Василия I и известие 261 о присутствии афонских монахов на соборе, восстановившем почитание икон, в хронике Генесия). В 963 г. была основана Великая Лавра, ставшая центральным монастырем сообщества. См.: Порфирий (Успенский). Восток Христианский: Афон; История Афона; Афон монашеский: Судьба его с 911 по 1861 г. СПб., 1892. Ч. 3, отд. 2; Dujčev I.Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Age // Millenaire du Mont Athos. 963—1963. Chevetogne. 1963. Vol. 2. P. 21—43; Tachiaos A.-E. The Mount Athos and the Slavic Literatures // Cyrillomethodianum. 1977. Vol. 4. P. 1—36; Каймакамова М. Света Гора и българската духовна култура през Средновековието // Светогорска обител Зограф. София, 1996. Т. 2. С. 65. 61 См.: Светогорска обител Зограф. София, 1995. Т. 1; София, 1996. Т. 2. 62 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 540—541. 63 Божилов И. Основаването на светата атонска обител Зограф: Легенди и факти // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 13—21. 64 Гюзелев В. Библиотеката на Зографския манастир през XIII—XIV в. // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 71—78. Сведения о том, что монастырская библиотека из 193 книг полностью сгорела в XIII в., видимо следует считать легендарными (Божилов И. “Мъчението на зографските монаси”: Легенди и факти // Светогорска обител Зограф. Т. 2. С. 181—183). 65 Икономидес Н. Международният характер на Света Гора през Средновековието // Родина. 1996. № 3. С. 24—26. 66 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 155. 67 Дуйчев И. Центры византийско-славянского общения и сотрудничества // ТОДРЛ. Л., 1963. Т. 19. С. 107—129. 68 Примери из старе српске књижевности: От Григориjа Диjака до Гаврила Стефановића Венцловића. Београд, 1975. С. 18. 69 Турилов А. А. О датировке и месте создания календарно-математических текстов-”семитысячников” // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 27—38. 70 Датировка Болгарской апокрифической летописи более поздним временем, например концом XII в., не представляется нам обоснованной (Димитров С. Формирането на средновековната българска народност в светлината на някои наши апокрифи // Исторически преглед. 1994/95. № 5. С. 140—141). 71 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 17, 24—25, 31—32. 72 Там же. С. 164. 73 Иванов С. А. К вопросу об элементах этнического самосознания болгар в “Болгарской апокрифической летописи” // Раннефеодальные славянские государства и народности. С. 134. 262 Каймакамова М. “Български апокрифен летопис” и значението му за българското летописание // Старобългарска литература. 1984. Т. 15. С. 51—59. 75 Турилов А. А. Кичевский сборник с “Болгарской апокрифической летописью” // Старобългаристика. 1995. № 4. С. 2—39. 76 Венедиков И. Военното и административното устройство на България през IX и Х в. София, 1979. С. 118—152; Матанов Х. Държавностно-политически традиции по българските земи // Сборник материали от Втората национална конференция на младите историци. Велико Търново, 1980. С. 147—156; Бешевлиев В. Началото на Българската държава според Апокрифен летопис от XI в. // Средновековна България и Черноморието. Варна, 1980. С. 39—45. 77 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 195. 78 Гръцки извори по българската история. Т. 5. С. 221—223. 79 В болгарском средневековом культурном сознании с началом христианской государственности ассоциировался легендарный образ “благочестивой царицы Феодоры”, основой для которого послужила память о св. Феодоре — матери крестного отца князя Бориса — императора Михаила III (842—867), которая якобы признала за болгарами право на область Загорье в честь принятия ими христианства (Яцимирский А. И. Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и русской литературе // Изв. Отд. рус. языка и словесности. 1903. Т. 7, ч. 1. С. 112). 80 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 196. 81 Там же. 82 Там же. С. 197. 83 Иванов С. А. К проблеме этнополитического сознания болгар в эпоху византийского господства // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988. С. 22—27. 84 Иванов С. А. “Болгарская апокрифическая летопись” как памятник этнического самосознания болгар. С. 74. 85 Гергова Е. Борис-Михаил, Михаил Каган и Михаил Воин: (Литературно-просопографски наблюдения) // Старобългаристика. 1987. № 3. С. 92—97. 86 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 151—152. 87 Там же. С. 118—120, 128—130; См. также: Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Видения на пророк Даниил във Византия и в средновековна България // Старобългаристика. 1990. № 4. С. 39—46. 88 Розен В. Р. Император Василий Болгаробойца. СПб., 1883. С. 59. 89 Божилов И. Българите във Византийската империя. С. 239—240. 74 263 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 125. 91 Thomson F. The Slavonic Translations of Pseudo-Methodius of Olympus’ Apocalypsis // Търновска книжовна школа. София, 1985. Т. 4. С. 58. 92 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 197—199. 93 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 120. 94 Там же. С. 126. 95 Там же. С. 164. 96 Там же. С. 25—27. 97 Там же. С. 280, 293. 98 Лурье В. М. Около Солунской легенды // Славяне и их соседи: Греческий и славянский мир... С. 23—52. Вывод автора о славянском переводе сирийского текста в VIII в. не представляется нам обоснованным. 99 Сырку П. А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в.: Время и труды патриарха Евфимия Тырновского. CПб., 1898. Т. 1, вып. 1. С. 484—485. 100 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 304. 101 Там же. С. 264, 269. 102 Полывянный Д. И. Византийско-славянская общность в представлениях болгар X—XIV вв. // Славяне и их соседи: Греческий и славянский мир... С. 100—108. 103 Турилов А. А. К истории великоморавского наследия в литературах южных и восточных славян: (Слово “О похвале Богородице Кирилла Философа” в рукописной традиции XV—XVII вв.) // Великая Моравия и ее культурно-историческое значение. М., 1985. С. 257—263. 104 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 94—98. 90 Глава IV 1 2 3 Obolensky D. The Cult of St. Demetrius of Thessaloniki in the History of Byzantine-Slav Relations // Balkan Studies. Vol. 15. 1974. P. 3—20. Tăpkova-Zaimova V. Les légendes de St. Démétrius dans les textes byzantins et slaves // Славянские культуры и Балканы, IX—XVII вв. Ч. 1. С. 166. Златарски В. История... Т. 1, ч. 2. С. 817—820. 264 На месте Тырнова в раннесредневековой Болгарии находилась одна из ставок (аулов) перемещавшегося по стране в ходе “полюдья” болгарского государя (Андреев Й. История на Второто Българско царство. Велико Търново, 1996. С. 190—197). 5 Гръцки извори за българската история. София, 1983. Т. 11. С. 26. 6 Tăpkova-Zaimova V. Quelques représentations iconografiques de Saint Démétrius et l’insurrection des Assénides — premiеre scission dans son culte “oecuménique” // Byzantinobulgarica. Sofia, 1978. Vol. 5. P. 261—267. 7 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България (VII— XV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. София, 1994. Т. 1. С. 179, 183. 8 Ников П. Принос към историческото изворознание на България и към историята на българската църква // Списание на БАН. 1921. Т. 20. С. 8—9. 9 Дуйчев И. Проучвания върху българското Средновековие // Сборник на БАН. София, 1945. Т. 41. С. 48—50. 10 Петров П. Възстановяване на Българската държава, 1185—1197. София, 1985. С. 336—337. 11 Дуйчев И. Рилският светец. С. 226—229. 12 Българската литература и книжнина през XIII в. / Под редакцията на И. Божилов и С. Кожухаров. София, 1987. С. 50. 13 Иванова К. Две неизвестни старобългарски жития // Литературна история. 1977. № 1. С. 57—65. 14 Гръцки извори за българската история. София, 1978. Т. 8. С. 153—154. 15 Там же. С. 251—252. 16 Там же. Т. 10. С. 180. 17 Лазаров И. Празникът Богоявление в политическата идеология на Второто Българско царство // Палеобалканистика и старобългаристика: Първи есенни национални четения “Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, 1995. С. 351—357. 18 Попруженко М. Синодик на цар Борил. София, 1928. С. 77. 19 Вряд ли стоит искать за этим актом действительную генеалогию Асеней, якобы восходящую к государям Первого Болгарского царства (Андреев Й. История на Второто Българско царство. С. 198— 199). В данном случае символическое действо в рамках культурной традиции собственно и устанавливало такое родство. 20 Дуйчев И. Проучвания върху средновековната българска история и култура. София, 1981. С. 68—81. 21 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 392. 22 Янкова В. Св. цар Петър и св. Иван Рилски: История на един мотив // Бог и цар в българската история. С. 162—162. 4 265 Лазаров И. Царската власт в периода на възстановяването и укрепването на Българската държава (1185—1207 г.) // Военно-исторически сборник. 1985. № 5. С. 42—52. 24 Латински извори за българската история. Т. 3. С. 310. 25 Там же. С. 314. 26 Там же. С. 334—335. 27 О том, что болгары видели положение вещей именно так, свидетельствует более поздняя полемика Вселенского патриарха Каллиста с тырновским духовенством (Гюзелев В. Извори за средновековната история... С. 181). 28 Николова Б. Управлението на първите Асеневци, отразено в агиографските паметници на Търновската книжовна школа // Търновска книжовна школа. София, 1985. Т. 4. С. 271—272. 29 Polyviannyi D. Cults of Saints in the Political Ideology of the Bulgarian Empire// Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et a l’ époque moderne. Approche comparative. Wrocław, 1998. P. 401—412. 30 См.: Царевград Търнов. Великата лавра “Св. Четиредесет мъченици”. София, 1984. Т. 4. 31 Българската литература и книжнина през XIII в. С. 55; Иванов Й. Български старини из Македония. С. 419—420. 32 Похвала сохранилась в переработке второй половины XIV в. (Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1371—1395) / Hrzg. E. Kaluzniacki. Wien, 1901. S. 197). 33 Ibid. S. 197—198. 34 Латински извори за българската история. Т. 3. С. 378. 35 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 420. 36 Там же. С. 424. 37 Николова Б. Исторические события и факты средневековой истории Болгарии в болгарской агиографической литературе XI— XIV вв.: (Место, роль, значение) // Etudes historiques. Sofia, 1985. Vol. 13. P. 73—97. 38 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 420. 39 Там же. С. 424. 40 Гръцки извори за българската история. Т. 10. С. 130. 41 Божилов И. Фамилията на Асеневци: 1186—1460: Генеалогия и просопография. София, 1985. С. 69—77. 42 Българската литература и книжнина през XIII век. С. 52. 43 Попруженко М. Синодик на цар Борил. С. 77—82. 44 Там же. С. 77. 45 Там же. С. 82. 46 Билярски И. Институциите на средновековна България. София, 1998. С. 106—107. 23 266 Иванов Й. Жития на св. Иван Рилски. С. 57. Божилов И. Фамилията на Асеневци. Табл. 1. 49 См.: Данчева-Василева А. България и Латинската империя (1204— 1261). София, 1985. 50 Царевград Търнов. Т. 4. С. 8—9. 51 Pentcev V. Where Have the Coins of the Bulgarian Czar Ivan Assen II Been Struck? // Macedonian Numismatic Journal. 1996. № 2. P. 105— 112. 52 Българска литература и книжнина през XIII век. С. 64. 53 Гръцки извори за българската история. Т. 8. C. 161—162. 54 Българската литература и книжнина през XIII в. С. 54. 55 Там же. С. 112—113. 56 Григорович В. И. О Сербии в ее отношениях к соседним державам преимущественно в XIV—XV вв. Казань, 1859. С. 8—9. 57 Андреев Й. и др. Кой кой е в Средновековна България: Исторически справочник. София, 1994. С. 58. 58 Пуцко В. Г. О портретном изображении попа Добрейша // Старобългаристика. 1985. № 3. С. 65—73; Джурова А. Влияние на латинската традиция върху българските ръкописи в периода на унията // Помощни исторически дисциплини. София, 1991. Т. 5. С. 89—97. 59 Гюзелев В., Петров П. Христоматия по история на България. София, 1978. Т. 2. С. 319. 60 Там же. С. 316. 61 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 316—317. 62 Нихоритис К. Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методиевските извори. София, 1990. С. 156—158, 167— 169, 246—251. 63 Дуйчев И. Проучвания върху средновековна българска история... С. 191—192. 64 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 291—295. 65 Българската литература и книжнина през XIII в. С. 58—61, 223. 66 Богдановић Д. и др. Хиландар. Београд, 1978. 67 Васильевский В. Г. Обновление Болгарского патриаршества в 1235 г. // ЖМНП. 1885. Ч. 233. № 3/4. С. 83—85. 68 Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. S. 69—70. 69 Гръцки извори за българската история. Т. 8. C. 163. 70 Гюзелев В., Петров П. Указ. соч. Т. 2. С. 332—333. 71 Попруженко М. Синодик на цар Борил. С. 84—87. 72 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България... Т. 1. С. 181. 73 Христов Х. Батошевският надпис // Археология. 1976. № 4. С. 65—66. 47 48 267 Гюзелев В., Петров П. Указ. соч. Т. 2. С. 115. Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 106—110. 76 Там же. С. 115—118. 77 Попконстантинов К. Старобългарски ктиторски надпис от с. Троица, Шуменски окръг // Археология. 1980. № 4. С. 58. 78 Кожухаров С. Служба за Успението на Иван Рилски: (Новооткрита ранна редакция от XIII в.) // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 1979. С. 222. 79 Георгиев Е. Литературата на Втората Българска държава: Литературата на XIII в. С. 144—154. 80 Словарь книжников и книжности Древней Руси, XI — первая половина XIV в. С. 376—381. 81 Иванова К. Две неизвестни старобългарски жития. С. 57—65. 82 Петков Г. Най-старият препис от Търновската редакция на Стишния Пролог // Исторически преглед. 1992. № 11/12. С. 100—115; Он же. Стишният Пролог за лятното полугодие по ръкописа № 1040 от Софийската народна библиотека // Медиевистика и културна антропология. С. 48—66. 83 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 420. 84 Божилов И. Седем етюда по Средновековна история. С. 247. 85 Иванов Й. Жития на св. Иван Рилски. С. 57. 86 Попруженко М. Синодик царя Борила. С. 82, 84—87. 87 Кодов Х. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН. София, 1969. С. 44—48. 88 Федер У. Мелецкий сборник и история древнеболгарской литературы // Старобългаристика. 1982. № 3. С. 154—156. 89 Турилов А. А., Ломизе Е. М. Неизвестный памятник греко-латинской полемики XIII в. в болгарской рукописи XIV в.: (Отрывки сочинения Иоанна Грассо о собеседовании Николая-Нектария Отрантского с римским папой) // Византийские очерки. М., 1996. С. 245—257. 90 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 65, 279. 91 Николова С. Патеричните разкази в българската средновековна литература. С. 29—31. 92 Божилов И. Мъчение на зографските монаси. С. 175—190. 93 Турилов А. А. Малоизвестный источник по истории идеи “Третьего Рима” у южных славян: (Повесть о Ксиропотамском монастыре) // Римско-константинопольское наследие на Руси: идеи власти и политическая практика. М., 1998. С. 137—139. Повесть датируется автором первой третью XIV в. 94 Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. 2. С. 141. 74 75 268 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие. С. 146—152. 96 Павлова Р. Жития русских святых в южнославянских рукописях XIII—XIV вв. // Славянска филология. 1993. Т. 21. С. 92—105. 97 Dujčеv I. Saint Sava а Turnovo en 1235 // Хиландарски зборник. 1978. Т. 4. С. 21—22; Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. С. 523—524. 98 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 478. 99 Теодосиjе. Житиjа. Београд, 1988. С. 251—252. 100 Златарски В. Боянският надпис // Избрани произведения. София, 1984. Т. 2. С. 412. 101 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 581. 102 Bojović B. L’idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du moyen âge serbe. Rome, 1995. (Orientalia Christiana Analecta; 248). 103 Примери из историjе старе српске књижевности. С. 33. 104 Там же. С. 36—37, 40. 105 Милтенова А. Цикълът от историко-апокалиптични творби на Драголовия сборник — происход, източници, композиция // Старобългарска литература. 1991. Т. 25/26. С. 135—144. 106 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 214—215. 107 Там же. С. 246—247. 108 Лазаров И. Пророческото сказание на българския книжовник Пандех като исторически извор // Търновска книжовна школа. Т. 4. С. 310—317. 109 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България. Т. 1. С. 73—74. 110 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 232—233. 111 Цит. по: Георгиев Е. Литературата на Втората Българска държава. С. 202. 112 Там же. С. 254. 113 Драгова Н. Втората апология на българската книга и нейните извори // Константин-Кирил Философ: Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. София, 1969. С. 315—347; Петканова Д. Черноризец Храбър. София, 1984. С. 84—92. 114 Куев К. Черноризец Храбър. София, 1967. С. 167—168. 115 Българската литература и книжнина през XIII в. С. 173. 116 Куев К. Черноризец Храбър. С. 170. 117 Милтенова А. Неофициалната книжнина през XIII в. в контекста на идейните и литературните тенденции на епохата // Търновска книжовна школа. Т. 4. С. 102—115. 95 269 118 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. книжнина... С. 94—98. Историко-апокалиптичната Глава V Об этом свидетельствует совпадение топонимов (“земля севастократора Петра” и “Петрова земля”) в двух почти современных источниках — договоре Михаила II Асеня с Дубровником и у Георгия Акрополита: Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 50; Гръцки извори за българската история. Т. 8. С. 154. 2 Иречек К. Пътувания по България. София, 1974. С. 939. 3 Грабар А. Боянската църква. София, 1978. С. 68—71. 4 Первое упоминание “града царства моего Софии” встречаем в Витошской грамоте Ивана Шишмана, изданной ок. 1378 г. (Иванов Й. Български старини из Македония. С. 600—601). 5 Чавръков Г. Средища на българската книжовност, IX—XVIII в. С. 85—90. 6 Панайотова Д. Ктиторските портрети в църквата в Долна Каменица // Списание на Българската Академия на науките. 1970. № 4. С. 3—6. 7 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 68. 8 Gjuzelev V. Die mittelalterliche Stadt Mesembria (Nesebăr) im 6.—15. Jh. // Bulgarian Historical Review. 1978. № 1. P. 50—59. 9 Гюзелев В. Очерци върху историята на българския Североизток и Черноморието (края на XII — началото на XV в.). София, 1995. С. 49—87. 10 Panaitescu P. Contribution а l’histoire de la littérature de chancellerie dans le Sud-Est de l’Europe // Revue des études sud-est européennes. 1967. № 1/2. P. 36—38. 11 Кодов Х. Опис на славянските ръкописи... С. 11—16. 12 Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354 године. Београд, 1898. С. 3. 13 Данилови настављачи. Данилов ученик, други настављачи Данилова зборника. Београд, 1989. С. 49—50. 14 Трифонов Ю. Деспот Иван Александър и положението в България след Велбуждската битка // Списание на БАН. 1930. Т. 43, кн. 21. С. 61—91. 15 Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Ред. М. Салмина, И. Дуйчев. София, 1988. С. 148. 16 Божилов И. Ватиканският Манасий (Cod. Vat. Sl. 2): Текст и миниатюри // Проблеми на изкуството. 1996. № 2. С. 3—12. 1 270 Трифонов Ю. Бележки върху среднобългарския превод на Манасиевата хроника // Известия на БАН. 1924. Т. 2. С. 142—144. 18 Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии. С. 148. 19 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 316—317. 20 Нешева В. Християнската символика в изображенията на владетелите на Второто Българско царство (XII—XIV в.) // Бог и цар в българската история. С. 260—264. 21 Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 167—168. 22 Алексиев Й. За мястото и датата на църковните събори в Търново // Бог и цар в българската история. С. 140—144. 23 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 588. 24 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 145. 25 Божилов И. Един осмогласник от времето на цар Иван Александър (НБКМ 180 (313) // Сборник в памет на професор Станчо Ваклинов. София, 1984. С. 60—63. 26 Каймакамова М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника: Текст, превод, коментар. // Годишник на Софийския университет “Климент Охридски”. Исторически факултет. София, 1983. Т. 76. С. 123—178. 27 Там же. С. 138. 28 Там же. С. 132. 29 Там же. С. 133. 30 Там же. С. 135. 31 Там же. С. 138. 32 Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии. С. 152. 33 Там же. С. 148. 34 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 135. 35 Иванова-Мирчева Д. Германов сборник — български писмен паметник от X век в препис от 1359 г. // Български език. 1964. № 5. С. 4—45. 36 Дуйчев И. Стара българска книжнина. Т. 2. С. 171. 37 Gjuzelev V. Einige Charakteristika der mittelalterlichen bulgarischen Kultur (Tărnovo als geistige Hauptstadt der slavischen orthodoxen Ökumene im 13.—14. Jh.) // Österreichische Osthefte. 1989. № 3. S. 34—43. 38 Gjuzelev V. Medieval Bulgaria. Byzantine Empire. Black Sea — Venise — Genoa. Villach, 1988. P. 322. 39 Каймакамова М. Средновековна българска историопиc. С. 173—176. 40 Cрезневский В. И. Симеона Метафраста и Логофета Списание мира от бытия и летовник, собран от различных летописец: Славянский перевод хроники Симеона Логофета. СПб., 1905. 17 271 Божилов И. Ватиканският Манасий. С. 3—12. Лихачева В. Д. Национальные художественные особенности миниатюр Евангелия царя Ивана Александра // Византия и Русь. С. 280—285. 43 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 588. 44 Там же. 45 Законик Стефана Душана. С. 4; На наш взгляд, мнение И. Божилова о том, что в этом акте проявился “упадок болгарской политической идеологии” и что “эти действия могут получить лишь одну характеристику — безразличие, даже преступное безразличие”, не учитывает именно особенностей культурной парадигмы эпохи (Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 159). 46 Примери из старе српске књижевности... С. 10. 47 Законик Стефана Душана... С. 5. 48 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България. Т. 1. С. 172—174. 49 Самое древнее чтение этого варианта содержится в одной из рукописей молдавского книжника Гавриила, точно копировавшего тырновские кодексы XIV в. См.: Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. 1. С. 36—44. 50 Бакалов Г. Средновековният български владетел. С. 170—173. 51 Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита. М., 1904. С. 66—68. 52 Животи краљева и архиепископа српских. Загреб, 1866. С. 106— 107. 53 Там же. С. 141—142. 54 Куев К. Образът на Иван Александър в среднобългарската поезия // Българско средновековие: Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. София, 1980. С. 259. 55 Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 163. Противоположное мнение см.: Мечев К. Покровител на книжнината. София, 1977. 56 Ильинский Г. А. Значение Афона в истории славянской письменности // ЖМНП. Новая серия. 1908. Ч. 18, № 11. С. 5—6; Икономидес Н. Международният характер на Света Гора през Средновековието. С. 23—27. 57 Actes de l’Athos: Vol. 4. Actes de Zographou. СПб., 1907. С. 48—52, 58—61. (Византийский временник; Приложение к XIII т.); Хрисовул на византийския император Андроник II Палеолог от септември 1325 г. издаден по молба на българския цар Михаил Асен // Родина (София). 1996. № 4. С. 130—131. 58 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 587—590. 59 Ангелов П. Отношенията между балканските държави отразени в две грамоти за манастира Зограф от XIV в. // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 33—39. 272 41 42 Цит. по: Сырку П. А. К истории исправления книг в Болгарии. Т. 1. С. 62. 61 Киселков В. Средновековна Парория и Синаитовия манастир // Cборник в чест на В. Н. Златарски. София, 1925. С. 103—118. 62 Цит. по: Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. СПб., 1997. С. 261—262. 63 Экономцев И. Православие, Византия, Россия. М., 1992. С. 168— 195. 64 Оболенский Д. Византийское Содружество... С. 319—327, 527—545; Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. М., 1978. 65 Велчев В. Търновската книжовна школа и предренесансовото движение на Балканите // Търновска книжовна школа. Т. 1. С. 243—255. 66 Радченко К. Ф. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898. 67 Лукин П. Е. О достоинстве и почитании церковных книг в Православии в средние века: (К вопросу о доктринальной мотивации книжной реформы патриарха Евфимия) // Старобългаристика. 1997. № 2. С. 80—98. 68 Гюзелев В. Училища, скриптории, библиотеки и знания... С. 91. 69 Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV—XV вв. Л., 1987. С. 60—87. 70 Миклас Х. Къде са отишли парорийските ръкописи? // Търновска книжовна школа. Т. 5. С. 33. 71 Горов Г. Местонахождение на средновековната Парория и Синаитовия манастир // Исторически преглед. 1972. № 1. С. 64—75. 72 Стара българска литература. София, 1986. Т. 4. С. 469—491; Ivanova K., Matejic P. An Unknown Work of St. Romil of Vidin (Ravanica) // Старобългаристика. 1993. № 4. С. 3—15. 73 Столярова Л. В. Древнерусские надписи XI—XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998. С. 367; Вздорнов Г. И. Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV—XV вв. // ТОДРЛ. 1968. Т. 22. С. 186—195. 74 Ферjанчић Б. Византиjски и српски Сер у XIV столећу. Београд, 1994. 75 Сперанский М. Н. Славянская письменность на Синае и в Палестине // Изв. Отд. рус. яз. и словесности. 1927. Т. 32. С. 107. 76 Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы. С. 5. 77 Киселков В. Проуки и очерти по старобългарската литература. София, 1956. С. 151—159. 60 273 Родник златоструйный. С. 353. Петров П., Гюзелев В. Указ. соч. Т. 2. С. 366—367. 80 Ангелов Б. Търновският книжовник Дионисий Дивний // Старобългарска литература. София, 1980. Т. 7. С. 54—62. 81 Щепкина М. В. Болгарская миниатюра XIV в. М., 1963; Джурова А. 24 миниатюри от Томичовия Псалтир. София, 1986. 82 Лихачева В. Д. Национальные особенности миниатюр Евангелия царя Ивана Александра // Византия и Русь. С. 284. 83 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България. Т. 1. С. 177—184. 84 Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 291—305; Мейендорф И. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. // ТОДРЛ. 1974. Т. 29. С. 291—305. 85 См.: Григорий Палама. Слова. София, 1987. 86 Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. С. 13—23. 87 См.: Петканова Д. Старобългарска литература. София, 1987. Т. 2. 88 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 274—275. 89 Попов Г. Новооткрито сведение за преводаческата дейност на българските книжовници в Света Гора през първата половина на XIV в. // Български език. 1978. № 5. С. 402—410. 90 Русев П. и др. Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. София, 1971. С. 166—168. 91 Там же. С. 196—198. 92 Там же. С. 162—163. 93 Там же. С. 168—169. 94 Там же. С. 166—167. 95 Иванова К. Патриарх Евтимий. София, 1986. С. 64; Коцева Е. Евтимиев служебник: Софийски препис от 80-те години на XIV в. София, 1984. С. 5—42. 96 Талев И. Извършвал ли патриарх Евтимий правописна реформа? // Български език. 1992. № 2. С. 120—127; Кабакчиев К. Евтимиевата реформа — хипотези и факти. Пловдив, 1997. Последний считает, что Евфимиева деятельность ограничилась новым переводом Пятикнижия, что не подтверждается материалом новейших текстологических исследований (Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 185—191). 97 Славова Т. Атонска редакция на старобългарските книги // Старобългарска литература: Енциклопедичен речник. София, 1992. С. 46. 98 Коцева Е. Александрийско-попгерасимово писмо в български ръкописи от втората половина на XIV в. // Старобългарска литература. София, 1970. Т. 1. С. 396—401. 274 78 79 Павлова Р. Пролог Рс 705 от Народната библиотека в Белград // Старобългаристика. 1998. № 2. С. 110—128. 100 Петков Г. Най-старият препис от Търновската редакция на Стишния Пролог. С. 100—115. 101 Polyviannyi D. Cults of Saints in the Political Ideology of the Bulgarian Empire. P. 401—412. 102 Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. S. 19—20. 103 Ibid. S. 23—25. 104 Ibid. S. 52. 105 Ibid. S. 69. 106 Ibid. S. 70. 107 Ibid. S. 95. 108 Ibid. S. 173. 109 Ibid. S. 197. 110 Ibid. S. 98. 111 Ibid. S. 146. 112 Ibid. S. 201. 113 Петков К. Литургичното наследство на св. патриарх Евтимий и отношенията между Търновската и Вселенската патриаршия през 80-те години на XIV век // Духовна култура. 1993. № 3. С. 14—15. 114 Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. S. 275. 115 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България. Т. 1. С. 204—206, 214—215, 222—226. 116 Чешмеджиев Д. За някои аспекти на култа към Кирил и Методий през Второто Българско царство // Исторически преглед. 1993. № 6. С. 90—100. 117 Гюзелев В. Извори за средновековната история на България. Т. 1. С. 30—31. 118 См.: Куев К. Иван-Александровият сборник от 1348 г. София, 1981. 119 Куев К., Петков Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки: Изследване и текст. София, 1986. Л. 10а. 99 Глава VI Славянский перевод Хроники Константина Манассии. С. 89. Божилов И. Един осмогласник от времето на цар Иван Александър. С. 61. 3 Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 214—218. 4 См.: Павлов П., Тютюнджиев И. Османските турци и краят на средновековна България. Велико Търново, 1992. 1 2 275 Поливяни Д. Мястото на Девин град и неговата роля // Исторически преглед. 1984. № 2. C. 81—85. 6 Матеич П. Българският химнописец Ефрем от XIV в.: Дело и значение. София, 1982. С. 114—123. 7 Божилов И. Фамилията на Асеневци. С. 462—472. 8 В отличие от средневекового европейского Запада, для Балкан XIV—XV вв. не характерны милленаристские ожидания. Православные христиане готовились здесь не к тысячелетнему правлению святых, а к кровавым и страшным событиям. Ср.: Delumeau J. е е La peur en Occident (XIII —XVIII c.). Paris, 1983 (рус. пер.: Делюмо Ж. Ужасы на Западе. М., 1994). 9 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 26—27. 10 Милтенова А. “Слово за Антихриста” — един малко познат български апокриф // Старобългаристика. 1993. № 4. С. 62—65. 11 Гонис Д. Теодосий Фудул и Пирон в Похвалното слово за Евтимий Търновски // Търновска книжовна школа. София, 1984. Т. 3. С. 324—339. 12 Русев П. и др. Похвално слово за Евтимий. С. 184—187. 13 Кацунов В. Проблеми на българското народностно самосъзнание през Втората Българска държава // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Исторически факултет. София, 1992. Т. 82 (1989). С. 178, 193, 197; Он же. Етнокултурен модел на Българското средновековие // Исторически преглед. 1991. № 7. С. 48—49; Макарова И. Ф. Структура автостереотипа болгар в условиях османского владычества XV—XVI вв. // Славяне и их соседи: Этнопсихологический стереотип в средние века. М., 1990. С. 116—128. 14 Полывянный Д. И. Евфимий Тырновский и византийско-славянская общность во второй половине XIV века // Интеллектуальная история в лицах: Семь портретов мыслителей Средневековья и Возрождения. Иваново, 1996. С. 41—55. 15 Бдинская митрополия отмечена в Синодике Болгарской церкви среди диоцезов, входивших в 1235 г. в Тырновскую патриархию. Однако под томосом константинопольского собора 1341 г., в котором участвовали только византийские архиереи, стоит подпись бдинского митрополита Макария (Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы... С. 77). Видимо, в 40-е гг. Бдинская митрополия была вновь подчинена Тырновской патриархией, а после смерти Ивана Александра — опять вышла из канонического подчинения ей. После долгого перерыва по инициативе Ивана Срацимира на Бдинскую митрополию в 1381 г. был назначен монах Кассиан (Гюзелев В. Извори за средновековна история. Т. 1. 5 276 С. 204—205), но в 1386 г. он был отстранен царем по обвинению в убийстве, а на его место был рукоположен Иоасаф. 16 Гюзелев В. Извори за средновековна история. С. 223, 226. 17 Родник златоструйный. С. 353. 18 Киселков В. Митрополит Йоасаф Бдински и Словото му за св. Филотея // Българска историческа библиотека. 1931. № 1. С. 192—206; Грудков В. Йоасаф Бдински и съдбата на българската народность в края на XIV в. // Палеобалканистика и старобългаристика. С. 97—100. 19 Полное собрание русских летописей. СПб., 1897. Т. 11. С. 235. 20 Търновска книжовна школа: Антология. София, 1994. С. 179. Буквально толкуемое некоторыми историками упоминание духовного родства, связывавшего Киприана с главой Болгарской церкви патриархом Евфимием, которое содержится в написанном Григорием в 1406—1408 гг. Надгробном слове Киприану (“Отец наш, иже плачу, брат бяше нашему отцю”), на наш взгляд, не может свидетельствовать о том, что Григорий был племянником митрополита (Дончева-Панайотова Н. Киприан — старобългарски и староруски книжовник. София, 1981. С. 26, 28, 55—63). 21 Пребывание Цамблака в Сербии исследователи датируют поразному: 1396—1401, 1402—1406 либо 1406—1408 гг. Нам представляется более вероятной первая датировка (Давидов А. и др. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983. С. 12— 15; Маринковић Р. О месту Григориjа Цамблака у српскоj књижевности // Търновска книжовна школа. София, 1974. С. 443). 22 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 1. Л., 1988. С. 175—180; Яцимирский А. И. Григорий Цамблак: Очерк его жизни, административной и книжной деятельности. СПб., 1904; Киселков В. Митрополит Григорий Цамблак. София, 1943; Мечев К. Григорий Цамблак. София, 1969; Бегунов Ю. К. Малоизвестные и неизвестные сочинения Григория Цамблака // Byzantinobulgarica. Sofia. 1978. Т. 5. С. 311—322; Дончева-Панайотова Н. Сборниците “Книга Григория Цамблака” — възникване, съдържание, распространение // Търновска книжовна школа. Т. 3. С. 29—50. 23 Константин Костенечки. Съчинения. София, 1993. С. 13. 24 Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy; Лукин П. Е. Болгарскосербские культурные связи начала XV в. 25 Търновска книжовна школа: Антология. С. 261. 26 Петкова И. Григорий Цамблак и православието на Балканите. София, 1996; Макарова И. Ф. Этнические представления болгарских книжников эпохи начала османского владычества // Сов. этнография. 1990. № 2. С. 191—215. 277 Литаврин Г. Г., Макарова И. Ф. Этническое самосознание болгар в конце XIV — начале XV в. // Этническое самосознание славян в XV столетии. С. 190—216; Димитров С. Гипотеза Константина Костенецкого о создании славянской азбуки // Etudes balkaniques. 1997. № 3/4. С. 97—118. 28 Ангелов Д. Съдържание и смисъл на думата “отечество” в средновековната българска книжнина // Старобългаристика. 1977. № 4. С. 8—20. 29 Более вероятно, что “Надгробное слово” было произнесено в Киеве во время встречи Цамблака с преемником Киприана митрополитом Фотием (Словарь книжников и книжности... Т. 1. С. 177). 30 Търновска книжовна школа: Антология. С. 178. 31 Русев П. и др. Похвално слово за Евтимий. С. 218—219. 32 Богдановић Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландаря. Београд, 1978. № 15. С. 56—57. 33 Гюзелев В. Извори за средновековната история. Т. 1. С. 31. 34 Писахме да се знае: Приписки и летописи. София, 1984. С. 58. 35 Броджи Беркоф Д. “Похвално слово” Евфимию Тырновскому Григория Цамблака: структура текста и его значение // Турските завоевания и съдбата на балканските народи отразени в литературни и художествени паметници през XV—XVII в. Велико Търново, 1992. С. 322—328. 36 Търновска книжовна школа: Антология. С. 253. 37 Там же. С. 260. 38 Передача, а точнее, продажа мощей святых из покоренных балканских городов своим христианским вассалам была частью османской политики. В том же 1394 г. мощи другого тырновского святого — Илариона Мегленского были проданы Константину Вельбуждскому. 39 Търновска книжовна школа: Антология. С. 260—265. 40 Там же. С. 261—262. 41 Там же. С. 265. 42 Немски и австрийски пътеписи за Балканите, XV—XVI в. София, 1979. С. 126. 43 Търновска книжовна школа: Антология. С. 188. 44 Константин Костенечки. Съчинения. С. 169, 184. 45 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 436. 46 Тъпкова-Заимова В. Българската държавна идея между Изтока и Запада // Турските завоевания и съдбата на балканските народи... С. 8—14. 47 Начев В. Български надписи. София, 1994. С. 85, 96—97; Писахме да се знае. С. 58—61. 27 278 Давидов А. и др. Житие на Стефан Дечански. С. 64. Константин Костенечки. Съчинения. С. 140, 165—167. 50 Там же. С. 139—140. 51 Там же. С. 192. 52 Тютюнджиев И. Българска анонимна хроника от XV в. Велико Търново, 1994; Наумов Е. П. Анонимная болгарская хроника и проблемы балканской общественно-политической мысли в XIV— XV вв. // Освободительные движения на Балканах. М., 1978. С. 240—258. (Балканские исследования; 3). 53 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 215. 54 Полывянный Д. И. Средневековая Болгария между Востоком и Западом. Мировые координаты болгарской державной идеи // Славяне и их соседи. Вып. 8. С. 24—26. 55 Търновска книжовна школа: Антология. С. 178, 184. 56 Константин Костенечки. Съчинения. С. 23—25. 57 Этническое самосознание славян в XV столетии. С. 163—164. 58 Димитров С. Гипотеза Константина Костенецкого о создании славянской азбуки. С. 103. 59 Константин Костенечки. Съчинения. С. 45. 60 Дончева-Панайотова Н. Сборниците “Книга Григория Цамблака” — възникване, съдържание, распространение // Търновска книжовна школа. Т. 3. С. 29—50. 61 Поливянний Д. За почитането към свети Иван Рилски в средновековна Русия // Светогорска обител Зограф. София, 1998. Т. 3. 62 Рогов А. И. Петка Тырновская в восточнославянской письменности и искусстве // Русско-балканские связи в эпоху средневековья. София, 1982. С. 161—164. 63 Полывянный Д. И. К истории болгаро-русских связей конца XIV в. // Руско-български връзки през вековете. София, 1986. С. 120— 125. 64 Наумов Е. П. Руските летописи за завладяването на Търновското царство // България и народите на Съветския Съюз през вековете. София, 1981. С. 551—570. 65 Българско народно творчество: Т. 3. Исторически песни. София, 1961. С. 146. 66 Гюзелев В. Надписът от крепостта // Боженишки Урвич: Сборник. София, 1981. С. 43. 67 Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. С. 93; Данчев Г. Съпротивата срещу помохамеданчването отразена в творчеството на писателите от Търновската книжовна школа // Турските завоевания и съдбата на балканските народи... С. 23. 48 49 279 Павлов П., Тютюнджиев И. Османските турци и краят на средновековна България. Велико Търново, 1992; Тодорова О. Една хипотеза около причините за ликвидиране на Търновската патриаршия // Българският петнадесети век: Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. София, 1993. С. 75—83. 69 Пандурски В. Панегирик на дяк Андрей от 1425 г. // Търновска книжовна школа. Т. 1. С. 225—242. 70 Мы не будем касаться спорной проблемы точного определения границ и характера этого влияния среди восточных славян, очерченной в трудах Д. С. Лихачева, И. Талева, Р. Станкова, Л. П. Жуковской, И. И. Калиганова и А. А. Турилова. 71 Тютюнджиев И. Османското завоевание и българската миграция във Влашко и Молдова през XIV—XV в. // Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. София, 1992. Т. 1. С. 70—81. 72 Бойчева П. Към въпроса за участието на среднобългарската литература в църковно-политическия живот на Молдова през XV—XVI в. // Българите в Северното Причерноморие. Т. 1. С. 70—91. 73 Wassilewski T. Les Bulgares dans la Grande Principauté de Lithuanie е е aux XIV et XV ss., leur rôle politique et culturel // Търновска книжовна школа. [Т. 1]. С. 509—520; Полывянный Д. И. К истории болгаро-русских связей конца XIV в. С. 120—125. 74 Коцева Е. Зографски манастир // Старобългарска литература: Енциклопедичен речник. С. 181. 75 Dujčev I. La conquěte turque et la prise de Constantinople dans la litterature slave contemporaine // Byzantinоslavica. 1953. Vol. 14. P. 14—54; 1955. Vol. 16. P. 318—329; 1956. Vol. 17. P. 276—340. 76 Как утверждает З. Ждраков (Ждраков З. Монументалната живопис на Атон през XV в. и стенописите на търновската митрополитска църква “Св. Петър и Павел” // Светогорска обител Зограф. Т. 1. С. 113—118), с проблемами вокруг унии было связано выполнение в конце 30-х — начале 40-х гг. XV в. новых росписей тырновского храма свв. Петра и Павла. Аргументированность отдельных предположений, настойчиво повторяемых и детализируемых в публикациях этого автора, не снимает спорную проблему датировки и атрибуции росписей храма свв. Петра и Павла в Тырнове, по которым кардинальным образом разошлись во мнениях такие знатоки балканского и православного искусства, как Ф. И. Успенский, Б. Филов, А. Грабарь и В. Г. Брюсова. Нам более близка точка зрения иеромонаха Павла (Стефанова), датирующего их XVI столетием (Hieromonk Pavel Stefanov. Thе Frescoes of St. Peter and Paul’s Church in Veliko Tarnovo // Старобългаристика. 1992. № 1. P. 58—72). 68 280 77 Nicol D. The Byzantine Lady: Ten Portraits. 1250—1500. Cambridge, 1994. P. 110—119. 78 См.: Генчев Н. Българската култура XV—XIX в. С. 87—89. 79 Калиганов И. И. Особености на развитието на българската литература през XV — първата половина на XVIII в. // Старобългаристика. 1982. № 1. С. 44. 80 Турилов А. А. О датировке и месте создания календарно-математических текстов — “семитысячников” // Естественнонаучные представления Древней Руси. С. 27—38. 81 Турилов А. А. Этническое и культурное самосознание сербов в конце XIV—XV в. // Этническое самосознание славян в XV в. С. 173. 82 Ждраков З. Пренасянето на мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. в светлината на историческите събития // Българският петнадесети век. С. 85—92. 83 Кирин А. Ктиторският надпис от 1493 г. в Кремиковския манастир // Старобългаристика. 1989. № 2. С. 87—99. 84 Лукин П. Е. “Сказание о письменах” Константина Костенецкого и “исправление церковных книг” в Сербии при Стефане Лазаревиче // Там же. 1990. № 2. С. 69—80. 85 Дуйчев И. Рилският светец. С. 278—283. 86 Гергова И. Манастирът “Касинец”// Изкуство. 1993. № 3. С. 30— 31. 87 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 306—309, 325—329. 88 Полное собрание русских летописей. СПб., 1853. Т. 6. С. 181. 89 Георгиева Ц., Цанев Д. Христоматия по история на България. София, 1982. Т. 3. С. 232. 90 Данчев Г. Владислав Граматик — книжовник и писател. София, 1969; Он же. Димитър Кантакузин. София, 1979. 91 Ангелов Б. Старобългарско книжовно наследство. София, 1983. С. 88—106. 92 Бойчева П. Традиции на Търновската книжовна школа и делото на Гаврил Урек // Търновска книжовна школа. София, 1980. Т. 2. С. 177—182; Паскаль А. Д. Новые данные о книжной деятельности Гавриила Урика Нямецкого // Търновска книжовна школа. Велико Търново, 1994. Т. 5. С. 409—413. 93 Балканские книжники нередко подставляют имя османского султана на место имени христианского государя в формуляре глоссы или игнорируют его. Так, о Мехмеде II у Димитрия Кратовского говорится: “Повелением царствующего” (Цибранска М. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. // Старобългаристика. 1995. № 1. С. 91—98). Имя сопровождают не281 лестными эпитетами: “В дни злоименитого царя амиры Мухамеда” (Спространов Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. София, 1902. С. 103). 94 “И поиде в церковь, и виде мерзость запустения в святилище Божьем, и ста на месте святем Его” (Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV в. М., 1982. С. 262; Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983. С. 134). 95 Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина... С. 171. 96 Христова Б. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996. 97 Данчев Г. Владислав Граматик — книжовник и писател. С. 40—41. 98 Там же. С. 142. 99 Ангелов Б. Владислав Граматик. С. 98—99. 100 Ангелов Б. Старобългарско книжовно наследство. С. 107—116. Высказано мнение, что Мардарий продолжал работать в Матейче после смерти Владислава (Велев И. Кирилометодиевска традициjа и континуитет. С. 118—124). 101 Райков Б. и др. Славянски ръкописи в Рилския манастир. София, 1986. Т. 1. С. 100—103. 102 Христова Б. Българска книжнина и литература през XV век // Литературна мисъл. 1991. № 2. С. 186. 103 Данчев Г. Владислав Граматик — книжовник и писател. С. 91. 104 Димитър Кантакузин. Събрани съчинения / Ред. Б. Ангелов и др. София, 1989. С. 27, 33. 105 Търновска книжовна школа: Антология. С. 333—336. 106 Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С. 58—71. 107 Търновска книжовна школа: Антология. С. 336—340. 108 Трифонов Ю. Велика Търновия, Велика Сардакия и Велика Европия // Известия на Историческото дружество. 1922. Т. 5. С. 105—106. 109 Петканова Д. Средновековна литературна символика. С. 57. 110 Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. С. 36. 111 Там же. С. 38. 112 Там же. С. 37. 113 Там же. С. 41. 114 Там же. С. 69—70. 115 Христова Б. Българската литература и книжнина през XV в. // Български петнадесети век. С. 121. 116 Начев В. Български надписи. С. 96—97. 117 Иванов Й. Български старини из Македония. С. 137; Начев В. Български надписи. С. 100—101, 102—107. 118 Кирин А. Ктиторският надпис от 1493 г. в Кремиковския манастир. С. 98—99. 282 119 Флорева-Димитрова Е. Старата църква на Драгалевския манастир. София, 1968. С. 24. Илл. 34; Грабар А. Погановският манастир // Известия на Българското археологическо дружество. 1927. Т. 4. С. 172—210. Заключение Ангушева-Тиханова А. Гадателните книги в старобългарската литература. София, 1996. С. 151—152. 2 Термин “геокультура”, встреченный нами впервые в заметке Д. Замятина о русском издании книги Д. Оболенского (Ex Libris НГ. Приложение к “Независимой газете”. 1999. 8 апр.), возникал уже в нашей полемике с Х. Матановым (Поливяний Д. Култура на кръстопът // История (София). 1993. № 2. С. 12—16). 3 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. С. 73, 290. 1 283 SUMMARY The Cultural Identity of Medieval Bulgaria in the Context of the Byzantine-Slav Community (9th— 15th Centuries) 1 More than a millennium ago in Bulgaria, in the last third of the ninth century, the adoption of Eastern Christianity, of the Slavonic liturgical language, and of the Cyrillic characters as its vehicle, laid the foundations of the new cultural area of medieval Europe. The nucleus of the Byzantine-Slav spiritual community, from those times to its fall in the fifteenth century, was the reciprocal cultural interaction between “The Second Rome” and the Southern Slavs: the Bulgarians at the end of the thirteenth century and later the Serbs. Being, in general, rather persistent in numerous internal and external political collisions, the Byzantine-Slav Community could not survive the devastating Turkish occupation of the Balkans and left the historical stage at the very moment when its Western counterpart had just begun its gradual transformation into a world phenomenon. Historical research is retrospective by its nature, and the main impetus driving a scholar usually comes from the significant result of various human activities which are remote in time. So Eastern Christian civilisation did not produce another Max Weber to find the deep roots of the evident peculiarities still inherent in the modern states and societies which have grown out of the Orthodox tradition. The culture of medieval Bulgaria played a special role in Slavia Orthodoxa. Being a workshop, storehouse and a source of the literary patterns for the other Orthodox Slavs, it was still, at the same time, a living culture of the nation, whose historical fortunes looked tragic even against the Balkan background. The difference between the functional role of the Bulgarian medieval cultural heritage and the contents of the living culture still is not clear to 1 The author owes special thanks to David L. Williams for careful revision of the English text. 284 many authors who either present idyllic images of brotherly cooperation between Russians and Bulgarians or draw monotonous pictures of how the latter slavishly imitate the Byzantine patterns. Another deformation comes from the tendency to project the reminiscences of the modern Balkan national (if not nationalist) consciousness into the Middle Ages. The book shifts the concept of Bulgarian medieval cultural identity based upon confessional and civilisation orientations. First of the early medieval Eastern European states to join the “Byzantine Commonwealth”, Bulgaria managed to elaborate its own unique cultural pattern using the original Bulgarian geopolitical ideas, the Cyrillo-Methodian concept of the new Christian people of Slavs, with their liturgical language and Godgiven alphabet, and the Byzantine image of the Imperial universe. The Bulgarians imagined themselves legal successors of the Western part of the “Constantine's Inheritance”. They did not recognise the Byzantines as “Romans” and made them part of the opposition “Bulgarians — Greeks”, which, in turn, became the basic element of the Bulgarian cultural identity. Later on the binary structure was added to by other Orthodox peoples and began to transform into a complicated hierarchical scheme but it was never eliminated. The unprecedented indivisibility from the “Greek Empire” had numerous and different consequences for the culture of the “Bulgarian Czardom”. Trying to transfer imperial power to his capital, Symeon (893—927) created literally a “mirror-image” of Constantinople, as he imagined it, in Preslav. His successor Peter (927—970) dropped his father's ambitious plans but was still sure he was ruling the Bulgarian part of the imperial domain. Thus, when the both parts were “united” in 1018 by force under the merciless Basilios II called “the Slayer of Bulgarians”, the Bulgarian culture adopted it without any resistance. The decline of the “Greek Empire” in 1185—1204 meant the rise of the renewed “Bulgarian Empire”, but the fall of Constantinople in 1204 left the medieval Bulgarian culture without a secure orientation for existence and development. Neither attempts to change “the Byzantine mirror” for the Roman one under Kaloian (1197—1207), nor the establishment of the dynastically oriented official culture at the court of Ivan II Assen (1218—1241), could return stability to the Bulgarian cultural identity. It was found again in the balance with Byzantium, but this 285 time the restored empire of Paleologues (1261—1453), weak, torn apart by the aristocracy in endless civil wars, and inclined to confessional concessions to the Latins could not serve as a real pattern. Therefore, recognising itself as one of the numerous Orthodox Czardoms, Bulgaria looked for its reflection in the mirror of the Comnene Constantinople, restored from old books and icons at the court of Ivan Alexander (1331—1371) and tried to put its “new Imperial City”, Turnovo, in the centre of the Orthodox World. The indivisibility from the Byzantine image (in the apocryphal fortune-telling books, Turnovo was connected to the Gemini) did not allow the medieval Bulgarian culture to notify other Orthodox Slavs. Paying almost no attention to the Serbs and ignoring the Russians, it nevertheless became a source of patterns for both. Every transformation of the cultural pattern of medieval Bulgaria through the ages led to the formation of a certain strata in the Orthodox Slav literary tradition. Having sprung from the standard kits of missionary texts collated in Byzantium and then translated into Slavic, the medieval Bulgarian culture gave birth to the excellent heritage of the Golden Age, which, in its turn, created the background to the whole of medieval Orthodox Slav culture. Another strata created during the Byzantine domination, both translated and original folk Christian literature, formed a kind of “crypto-literature” able to support the cultural identity of the Orthodox Slavs during the centuries of the Ottoman yoke when they did not have their own political, nor even sometimes their own confessional, institutions. The attempts to create a full complex of the ethno-politically accented Bulgarian works in historiography and hagiography had never been completed. First Symeon, then the first rulers of the Assen dynasty, and finally Ivan Alexander tried to turn the Bulgarian cultural consciousness towards its own values, but, despite differences in means and size, these attempts failed to overcome the traditional Byzantine-Bulgarian ecumenism. The most valuable heritage of medieval Bulgaria was composed by the scribes of fourteenth century Turnovo and Athos. The disciples of the famous Balkan “hesyhasts” restored the lost harmony of the Bulgarian cultural paradigm in their works, which 286 after the fall of Bulgaria were transferred, often together with their authors, to Serbia, Moldova and Eastern Slav lands. Facing the Turkish menace, the eternal rivals came to the common view that Turnovo was, after Constantinople, the second Orthodox capital, crowned with imperial and patriarchal dignity; that the Cyrillic characters, inspired by God, came from the Greek letters etc. The time of the Ottoman invasion was the only period in the history of the Byzantine-Slav community when the cultural communication among its members was more or less synchronous and initiated by all sides. It helped to create the confessionally homogenous environment which defined the cultural consciousness of the Greeks and the Southern Slavs against the background of their common tragic fate up to the very birth of modern Balkan nationalism. The fall of the medieval Bulgarian state (1393—1397) deprived its culture of supporting institutions, and the capture of Constantinople put an end to its consciousness, taking away one of its main landmarks. Having lost its mirror forever, Bulgarian culture shrivelled like parchment on the cooling ashes and went to its last shelters — to those monasteries eternally waiting for the Judgement, the monasteries of the holy mountains of Athos, Rila and Vitosha. 287 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение .................................................................................................... 3 Глава I. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРИИ И ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКАЯ ОБЩНОСТЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IX ВЕКА .................................... 17 § 1. Аккультурация славян и болгар в балканскую среду ...... 18 § 2. “Болгарская миссия” учеников свв. Кирилла и Мефодия ........................................................................................... 30 § 3. Первые контуры модели болгарской средневековой культуры ................................................................................. 44 Глава II. МОДЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В Х ВЕКЕ: СТРУКТУРА, СООТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ ... 57 § 1. Оформление культурной модели: Симеонова Болгария (893—927) .............................................................................. 57 § 2. Культура Симеоновой Болгарии в византийско-славянском контексте ....................................................................... 70 § 3. Динамика болгарской средневековой культуры в Х веке: диверсификация и социальные измерения .................... 80 Глава III. КУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ БОЛГАР В УСЛОВИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА XI—XII ВЕКОВ ..................................................................... 94 § 1. Имперская политика и болгарская культура в XI— XII вв. ...................................................................................... 95 § 2. Культурное наследие Болгарского царства и славяновизантийские контакты X—XII вв. .................................. 105 § 3. От криптокультуры к историко-политической эсхатологии: трансформации культурной модели в болгарской книжности XI—XII вв. ................................................ 116 Глава IV. НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ В ЭПОХУ АСЕНЕЙ (КОНЕЦ XII—XIII ВЕК) ..................................................... 130 § 1. Становление династических акцентов культурной модели в “обновленном” Болгарском царстве первых Асеней ..................................................................................... 131 § 2. Идеология и культура Болгарского царства в правление Ивана II Асеня ....................................................................... 143 § 3. Общеправославные и балканские измерения болгарского культурного самосознания в XIII в. ........................... 155 Глава V. БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА И РАСЦВЕТ ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКОЙ ОБЩНОСТИ В XIV ВЕКЕ .............................................................................. 169 § 1. Официальное начало в болгарской культуре при Иване Александре (1331—1371) .................................................... 170 § 2. Болгарская культура в контексте византийско-славянской общности середины — второй половины XIV в. ....... 183 Глава VI. СУДЬБА БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ ..................... 200 § 1. Болгарская культура на рубеже XIV—XV веков: кризис идентичности ......................................................................... 201 § 2. Эсхатологический эпилог культуры средневековой Болгарии ................................................................................ 216 Заключение .............................................................................................. 232 Примечания ............................................................................................... 239 Summary ..................................................................................................... 284 Научное издание ПОЛЫВЯННЫЙ Дмитрий Игоревич КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БОЛГАРИИ В КОНТЕКСТЕ ВИЗАНТИЙСКО-СЛАВЯНСКОЙ ОБЩНОСТИ IX—XV ВЕКОВ Редактор Т. И. Ларина Корректор М. Б. Балябина Технический редактор И. С. Сибирёва Компьютерная верстка Г. Б. Клецкина Оформление обложки А. Ю. Токарев Лицензия ЛР № 020295 от 22.11.96. Подписано в печать 01.02.2000. Формат 60 × 841/16. Бумага писчая. Печать плоская. Усл. печ. л. 16,97. Уч.-изд. л. 16,0. Тираж 500 экз. Заказ 125/р Ивановский государственный университет 153025 Иваново, ул. Ермака, 39 Типография Ивановского энергетического колледжа 153025 Иваново, ул. Ермака, 41