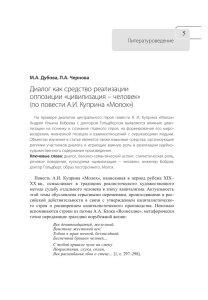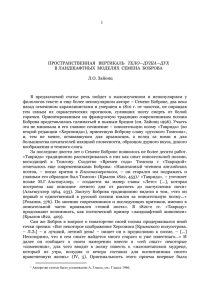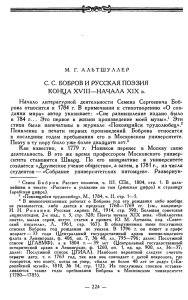1 Речь пойдет о последней ... Странствующий слепец» (1807-1809), до сих ...
реклама

1 СЕМЕН БОБРОВ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО Речь пойдет о последней поэме Семена Боброва «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» (1807-1809), до сих пор не ставшей предметом ни одного специального исследования. Поэма появилась в самый разгар литературных споров о языке, вызвав глубокое недоумение с обеих сторон. Бобров, выступивший в 1805 г. с ярким антикарамзинистским памфлетом «Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка», на этот раз как будто демонстративно игнорировал полемику. Текст был тяжел, темен и вызывающе «несовременен». Более того, откровенно замкнут на собственной проблематике, ничего общего не имевшей с исполнением той общественной миссии, какую возложили на себя в эти годы российские литераторы. Столь одиозное выступление Боброва смутило друзей и буквально взорвало врагов, автор с его поэмой были преданы литературной анафеме, но, разумеется, не за отступничество. Он стал архаистом номер один, собрав на себе все ярлыки из полемического арсенала карамзинистов [см.: Зайонц 1996]. Во многом благодаря этому поэма никогда особенно не интересовала историков литературы. Да и сам текст трудно назвать привлекательным: более чем на семистах страницах густым нерифмованным ямбом в поэме описываются мытарства человеческой души (= души мира) по лабиринтам истории в поисках истинного света. Сам Бобров называет поэму иносказательной Эпопеей, предлагая в Послесловии несколько вариантов ее толкования: от истории мирового духа или человеческого разума до истории самопознания (II, 297-298). Между тем, в тексте присутствует любопытный сюжетспутник, при желании разворачивающий иносказательную эпопею в стройную философскую концепцию. Это сюжет о поисках истинного или совершенного языка. В основу поэмы положен средневековый библейский миф, согласно которому, «в начале существовал богоданный язык, благодаря которому Адам знал сущность вещей, и в этом языке имелось имя для каждой вещи, будь то сущность или явление, и каждая вещь соответствовала своему имени» [Эко 2007, 359]. Изгнанный из рая за первородный грех Адам лишился этого дара. В поэме Боброва такова судьба ее главного героя, восточного принца Нешама – ослепшей души, жаждущей исцеления. О языке он вспоминает как о божественном луче, с помощью которого Не слышать, — видеть мог слова. В природе гласной и безгласной. Тогда не мог я ошибаться, Как говорила взору вещь, А не орудный слуху звук. От коего вся лживость ныне … Тогда я больше зрел, чем слышал, Как кажда вещь, иль тварь живуща Сама себя изображает, Каким языком говорит... (Здесь и дальше курсив автора. – Л.З) 1 Поэма продолжает традицию популярных в XVIII в. мистических путешествий, впрочем, с несвойственным жанру культурологическим интересом к истории и философии древних эпох – по ним в сопровождении проводника странствует ослепший принц в надежде вернуть утраченный дар. Специфическая природа текста неизбежно ставит вопрос о ключе для его интерпретации. Двести лет назад эпопея Борова была осмеяна и предана забвению. Истинный замысел поэта вряд ли мог быть оценен и позже, 1 Бобров С.С. Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец. Ч. I-II. СПб., 1807-1809. Ч. I. С. 185. Далее ссылки на это издание в тексте: часть – римской, стр. – арабской цифрами. 2 поскольку предметом его двухтомных раздумий была та сфера научного познания, которую сегодня мы называем семиотикой культуры и просто семиотикой в ее классическом изводе, где под знаковой системой понимается в первую очередь язык как способ коммуникации. Интерес Боброва к этой области знания вполне укладывается в общее для его поэзии представление о знаковой сущности мира: Алла открыл всем общу книгу … Простер златой натуры свиток … Где буквы не черты, но вещи, Где имя писано Аллы Красноречивыми вещами! … Читай природу! Узришь Бога! (Бобров 1804, 240) 2 Алфавитный феномен, который еще у Платона приобрел значение модели универсума, сыграл свою роль и в европейской философии – у Раймунда Люллия (занятого, кроме всего прочего, и поисками универсального языка), труды которого в России хорошо знали с конца XVII века, Николая Кузанского, Джордано Бруно, Лейбница. Их сочинения культивировались и активно переводились в кругу московских розенкрейцеров, под патронажем которых Бобров формировался как литератор. Владеющий языком — владеет истиной, ибо ему открывается «слово Божие». Не знающий языка (неофит) или забывший его уподобляется слепцу (классический топос масонской литературы, ср. с близкой по сюжету поэмой Хераскова «Селим и Селима»). Однако в отличие от Хераскова, путь от невежества к знанию, от тьмы к свету, от слепоты к прозрению, по Боброву, – путь овладения языком. «Читать» мир означает для него — видеть. Так на первый план для Боброва выходит проблема интерпретации визуальных символов, проблема, получившая в философии Нового времени широкое освещение в трудах особенно почитаемых Бобровым Бэкона, Гоббса, Гердера, Локка и Лейбница, вплотную занимавшихся теорией знака и философией языка. В III книге «Опыта о человеческом разуме» Локк вводит понятие семиотика для обозначения своего Учение о знаках. Это Учение, пишет он, «должно рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим» [Локк 1960, 695]. Именно с этой точки зрения Бобров пытается проанализировать природу знака в своей поэме о Странствующем слепце и выйти на определение истинного языка. Фрагмент, на котором мне хотелось бы остановиться, посвящен Древним Фивам, столице Египта эпохи Среднего Царства. Герои поэмы Принц Нешам (душа в пер. с евр., как поясняет Бобров) и его проводник Зихел (разум) посещают хранилище папирусных свитков в надежде там обрести свет истины. Их встречает Иерофант (верховный жрец). Завязывается дискуссия о египетских иероглифах. Но как только стороны доходят до проблемы соотношения знака и значения, Зихел-Разум начинает чуять неладное: выясняется, что таящие в себе древнюю мудрость симвóлы не читаемы. Исцелиться с их помощью от слепоты, т.е. приобщиться к свету скрытой в них истины на месте не представляется возможным — странники обнаруживают в иероглифике систему непроницаемых конвенциональных знаков: У вас под выставленной буквой <удивляется Зихел> Искомый смысл еще таится, 2 Та или иная степень «ориентализованности» текста – вещь для Боброва не столь принципиальная. Бог для него, прежде всего, Идея и поэтому Он поверх религий. Это вытекает из полигенетической философской природы его поэм, где масонские, просветительские и натурфилософские представления о мире сосуществуют в рамках единого авторского мировоззрения и покрываются общим унифицированным понятием Бога. 3 А не прямая чтется мысль. (II, 125) Разумеется, с достоинством отвечает жрец, Кора пред вами, - не ядро. Воззрите токмо на символы! (II, 131) – и поясняет, что они и не предназначены для познавательного чтения: Вы видите здесь разны свитки; Но не простым или народным Они начертаны языком. Священны письмена3 в них зрите. В них наши тайны включены, Не всяк достоит их читать. (II, 128) . Это особый иератический язык, хранящий мудрость древних. Чтобы постичь его, необходимо пройти ритуал посвящения, а после него тернистый путь приобщения к тайному знанию. Такая перспектива не на шутку смущает странников: Коль вещь полезна по себе, Коль служит к благу человеков: Почто ж утаивать ее Под непостижным языком… Не всякое ль ученье в мире Имущее предметом благо Должно быть ясно и открыто? (II, 132) В итоге египетская идеография квалифицируется Зихелом как профанация знания: Здесь все покрыто тьмой, - все тайна. Простым здесь очи закрывают. 4 Здесь новый мрак и нова нощь. (II, 128) . Такой тип знака, с точки зрения Боброва, никак не может быть носителем истинного знания (= абсолютного света), поскольку связь между означаемым и означающим в нем хранится за семью печатями и доступна лишь избранному кругу. Эта, безусловно, выгодная для жрецов монополия, считает Бобров, открывает путь к герменевтическому произволу: Коликократно можно вам Символы обращать по воле, Как флюгеры по разным ветрам? Они приемлют всяки толки, И применяются ко всяким 3 Иероглиф в пер. с греч. - священные письмена, высеченные на камне. Не может не обратить на себя внимание полемическое отношение Боброва к герметической традиции, его самого сформировавшей. Начиная с XVIII в. интерес к древнеегипетским посвятительным ритуалам, как и к древнеегипетской эзотерике в целом, широко культивировался в масонских кругах. Два основных источника этой «неоегипетской» традиции наверняка были известны Боброву: роман французского аббата Жана Террасона «Жизнь Сета, составлена по мемуарам древних египтян» (1732), в котором описывается путешествие и посвящение египетского принца Сета в древние тайны. В России роман появился в переводе Дениса Фонвизина под заголовком: «Геройская добродетель, или жизнь Сифа, царя египетского: из таинственных свидетельств древнего Египта взятая» (1762-1768); и книга немецкого масона фон Кеппена «Kрата Репоа, или Посвящение в древнее общество египетских жрецов» (1770), вышедшая двумя изданиями в типографиях Новикова и Лопухина (1779, 1784) как раз в годы обучение Боброва в Московском университете. Бобров остается последовательным в этом вопросе и по отношению к собственному литературному опыту. Свою «иносказательную Эпопею» он, судя по всему, рассматривает как модель идеального языка поэзии: к семистам страницам символического, т.е. «темного», текста он прилагает «ключ» - специальный раздел, где помещает Объяснительное содержание иносказательной эпопеи во всей книге (II, 297-321). 4 4 Учениям, уставам, мненьям… Сим можете других вы долго Приманивать, водя в преддверьи… (II, 137) Сакрализация языка, по мысли Боброва, обрекает его на вымирание, поскольку мистический характер зрительного знака совершенно исключает возможность его развития в знак письменный, в средство, как сказано у Локка, «передачи своего знания другим». Такой знак не предполагает образовательной и коммуникативной функции. А именно в этом, по Боброву, заключается смысл любого текста. Какая ж польза в сих Символах? — спрашивает Зихел и предлагает Нешаму свою историю египетской иероглифики. Согласно его версии, каста жрецов, пытавшихся сохранить власть, пошла по пути постепенного усложнения идеографического письма: К необходимым знакам сим Жрецы изобретали новы, Которыми они старались Изобразить верховну мудрость, Первообразный свой закон, Учение о божестве. (II, 146) Затмение сущности – усложнение и размывание семантики в идеограмме – неизбежно вело к выделению и генерализации визуального элемента, переводя идеограмму из категории письменного знака в сакральный. Так искаженные симвóлы, говорит Зихел, помрачили целу вселенну, положив начало кумирослуженью: Что прежде было лишь символом, То после стало истуканом; Что прежде было токмо буквой, То ныне стало божеством. (II, 151) Из прежде тайных письмен-иероглифов, изображавших богов, Родились Аполлон, Нептун Церера, Ира, Афродита, Плутон, Ярей и прочи боги. Вот сколько вредно и опасно, К сим буквам не иметь ключа! (II, 152) Так истинные смыслы были утеряны, а очам пришедших вскоре в Египет завоевателей предстал покров один наружный. Они столкнулись с древними египетскими текстами как раз тогда, Когда ученье исказилось; Когда ключ таинств был потерян; Когда язык их превратился Во исповеданье кумиров. (II, 151) Но если ключ уже потерян: Тогда не стал ли мертв язык? – задается Бобров финальным риторическим вопросом, вынося тем самым свой приговор египетской идеографии. Как следует из текста поэмы, Бобров разделяет господствующее среди ученых XVII–XVIII вв. мнение о чисто идеографическом характере иероглифов. Этим 5 европейская египтология, вплоть до начала XIX в., была обязана трактату «Иероглифика» Гораполлона, эллинистического автора (предположительно V в. н. э.), где впервые был предложен опыт толкования египетских иероглифов. Гораполлон рассматривал иероглифы как идеограммы, передающие не звуки, не буквы и не слова, но непосредственно, путем некой метафорической или метонимической связи, — понятия. Найденная в XV в. «Иероглифика» потрясла европейские умы и легла в основу алхимического и розенкрейцерского символизма. Ошибочность теории Гораполлона была доказана в 1822 г. Ж. Ф. Шампольоном, расшифровавшим надпись на Розеттском камне и установившим наличие в древнеегипетской письменности, помимо идеограмм, и фонетических знаков. 5 Труд датского археолога Йоргена Цоэга «De origine et usu obeliscorum» (1798), где ученый высказался в пользу существования чисто звуковых иероглифов, впервые применив к ним термин «фонетических» знаков, Боброву, судя по всему, был неизвестен. До открытия Шампольона он не дожил. Поэтому изобретение фонетического письма или, пользуясь терминологией Боброва, cлухового языка на основе буквенного алфавита, он расценивает как мощный культурный прорыв: Мысль предков за десять веков Через него проникнет к нам, А наша мысль перелетит К потомкам за десять столетий. (II, 153) Кто бы ни был автором этого изобретения, гениальность его, по Боброву, заключалась в том, что были придуманы такие графические знаки (буквы) которыми стали обозначать звуки и их перемены в произношении, но не предметы и понятия. Он даже придумал собственный термин для фонемы – буквенный звук. В вопросе о происхождении алфавита Бобров, вслед за современным ему языкознанием, должен был опираться на древнегреческую традицию, сохранившую легенду о создании греческих письмен финикийцем Кадмом, пришедшем в Грецию с особой миссией – основать великий город и дать народу Эгеиды законы, науки и алфавит. Так было положено начало новой средиземноморской цивилизации. Слуховому языку Бобров дает еще одно название – общенародный и прочно ассоциирует с эпохой античности. Принципиальное отличие этого языка от всего предшествующего в его общедоступности: Он общ для всех и цел у всех (II, 152). Фонетическое письмо, действительно, стало «универсальным» языком – языком литературы, науки, торговли, политики, истории. Но и этот язык Бобров считает несовершенным: Язык легок, - но сколь обманчив? Вещь, проходя сквозь слух, нередко Теряет правоту свою. (II, 135) Всему мы учимся чрез ухо, И чрез него же заблуждаем. Оно есть само слобо чувство; Оно – обманчивый оргáн. (I, кн. 2, 28) 5 Любопытно, что в поэме нет никаких отголосков о находке века - Розеттском камне, который в августе 1799 г. был обнаружен французскими солдатами, насыпавшими вал в форте St-Julien. Об этой находке за несколько лет до издания поэмы писал «Вестник Европы»: «Французские ученые нашли в Египте камень с надписью египетских жрецов, в честь Птолемею-Эпифану, на Греческом, Коптском и гиероглифическом языке, которого ключ потерян» (ВЕ, 237). 6 Почему так? Потому что Слуховой язык, по мнению Боброва, не в силах сделать зрячей душу. Но он может помочь ей приблизиться к свету. Это язык мысли, дискуссии и научного познания – области, где господствует разум. Поэтому не случайно в конце своего пути, в преддверие рассвета, Нешам оказывается в древней Элладе: там из рук Сократа и Платона он принимает спасительную путеводную лампаду. С нею, по совету Платона, он направляется на восток, в Землю Обетованную, откуда все влечет свое начало – Теченье всех бытописаний Находят там свою вершину. (II, 256) На горе Абарим, вершине, где закончил свой земной путь Моисей, Нешам получает последние напутствия от гностиков эпохи Просвещения, поздних Гениев: Локка, Мармонтеля, Декарта, Ньютона, Лейбница, Вольфа и Канта. Напутствия, но – не прозрение. Ум способен направлять и развивать душу, однако, по мнению Боброва, он есть «только откровение естественных вещей» (II, 318). Сам «разум уверяет нас, — пишет он в комментариях к поэме, — что посредством его нельзя еще получить полного и истинного света. Противоречия от Зороастра до Канта довольно показывают несовершенство его» (II, 346). Это любопытный и, пожалуй, ключевой момент эпопеи. Как соотносятся в человеке ум и душа – один из главных гносеологических вопросов для Боброва. Однако ответ на него, видимо, очевидный для автора, теряется в лабиринтах сюжета. И здесь весьма кстати оказываются диалоги Платона, указание на которые всплывают в послесловии к поэме: «Все, что только мудрость человеков, и основательнейшие рассуждения могут дать назидательного, <…> наилучший философ Платон открыл, преподавая высокое учение друзьям своим по образу Сократа» (II, 316317). В диалогах «Филеб» и «Софист» Платон, действительно, развивает идею о соотношении ума и души как двух «космических субстанций», одна из которых входит в состав другой. Ум, согласно Платону, является составной частью души, а душа – той «зрячей» субстанцией, которая наделяет ум способностью «видеть» идеи [см.: Бородай 2008, 53-54]. Учение Платона Бобров интерпретирует в соответствии с собственным замыслом. «Видеть» идеи для него, собственно, и означает владеть истинным языком: ... Имевши истинный язык, Который ныне неизвестен, Язык душевный, - Созерцанье, Не слышать, — видеть мог слова… Но есть и нечто особенное, то, что наделяет этой способностью душу — ее бессмертная сущность. Человеческому уму никогда не достичь высших пределов познания хотя бы потому, что все, что служит ему орудием в исканьи – суть скоротленно: Кунг-тзеям, Гермесам, Зердустам,6 6 Кунг-тзей (Кунгтзей, Кунг-тсей) – Конфуций (кит. Кун-Цзы); Зердуст – Заратустра (среднеиран. Зардушт). Ср. у А.Х.Востокова: Достойно иногда могли прослыть богами Благотворители, наставники людей. Таков божественный был древле Моисей, И Брама, и Таут, и Нума, и Кунгтзей Законодатели, святители, пророки, Которых чистая душа и ум высокий Изображения суть Бога самого. Достойнейшие те наместники Его! («Бог в нравственно мире», Цветник, 8) 7 Солонам, Пифагорам мудрым, Не доставало для успехов Мафусаиловых веков. Они сим кратким бытием <…> Знать дали, что не здесь, - а там Еще должны стремиться в путь. ( II, 181) «Нет такой в свете особы, — возвращается Бобров к этой мысли в комментариях к поэме, — которая одарена была столь великою мерою способностей и долголетия, что предуспела бы одна она в здешней жизни объять все то, чего достигнуть только возможно многим умам и многим векам, вместе взятым, или одному обширному уму, но с непрерывным бытием; следственно таковой совершенный успех в познаниях, и добронравии, требующих толь долговременного труда и терпения, представляется единому бессмертному существу; а сие существо – есть душа» (II, 335). Душа, осознающая себя частью мирового «информационного» пространства (вечности) может вместить в себя, а значит, и увидеть замысел Творца во всем его совершенстве. Такую душу Бобров называет просвещенной, т.е. приобщенной истинному свету. Просвещенная душа обладает уникальным свойством — “внутренним взором”, открывающим человеку божественный замысел. «Внутренний взор» есть не что иное, как способность душевного, интуитивного постижения – откровения. Это то самое зрение души, которое было утрачено Адамом – совершенный и универсальный язык познания, вскрывающий сущности предметов и явлений. Носителю этого языка Творение предстает текстом, состоящим из знаков иного рода: знак в нем всегда «сопричастен» с обозначаемым им предметом. Связь между таким знаком и вещью воспринимается не как условная и отвлеченная связь знака и значения, но как полное единство, полное тождество – ясные существ печати, дает им определение Бобров (I, кн. 1, 185). Поэтому Адам и не испытывает затруднений, раздавая имена. Язык этот совершенен потому, что не только в точности отражает структуру вселенной, но и производит ее, а следовательно, совпадает с ней, как печать с оттиском. Язык, в котором сбалансированы области знака и значения мыслится Бобровым как воплощение того самого искомого равновесия, на котором зиждется сама идея творения: Порядок окружал меня, Порядок был во мне самом. (I, кн. 1, 174) В полном соответствии с символической логикой поэмы, странствия Слепца завершаются на рассвете на берегу реки Иерихон, где он ждет встречи с Небесным целителем. Первые лучи восходящего солнца пронизывают – просвещают – его светом божественной истины и он прозревает: Я возраждаюсь, – воскресаю, Встаю из хаоса стихий! Я познаю мое начало; Бессмертие возвращено. (II, 289) Таким образом, путь восточного принца Нешама на восток – от заката к восходу, от тьмы к свету – это путь восхождения и одновременно возвращения к истокам, к первозданной гармонии. Однако этот финал поэмы куда скромнее его философского итога. Последний складывается из того внутреннего диалога автора с самим собой, который прорывается на страницы поэмы, обнаруживая ее истинный диапазон. Недвусмысленно высказавшись в комментариях — за рамками поэтического текста — о бессмертной душе как 8 единственном хранителе мирового культурного наследия, Бобров в самой поэме развивает альтернативную точку зрения, дав волю своему поэтическому воображению. В середине второго тома на отрезке текста в двадцать страниц буквально неоткуда перед читателем возникает интеллектуальная утопия, в которой автор вдохновенно размышляет над тем, как все-таки можно было бы искусственно создать «один обширный ум, но с непрерывным бытием». В его представлении, теоретически, все исторические данные, когда-либо зафиксированные на бумаге (хранящиеся в свитках), Совокупиться как бы могут В единый некий светлый сонм <…> И нечто большее составить… (II, 181) Я не могу скрыть важной мысли, Что чувствует при сем душа, – продолжает он, сам явно впечатленный этой идеей, – Когда б возможно было слить Всех Гениев досель известных, Все образованные души, Изобретательны умы, Все их познанья, откровенья <…> То, мнится, из сего б слиянья Родился высочайший ум, Подобие творца ближайше. (II, 181-182; курсив автора. – Л.З.) Синтезированный таким способом «искусственный разум», считает Бобров, по своей структуре (не по природе) был бы подобен мыслящей душе Адама – носителю первого «интеллекта», который он сравнивает с белым цветом спектра, вобравшем в себя весь цветовой диапазон творения: Я часто размышлял при сем, Каков сначала был тот самый, Кто первый стал одушевлен, И как бы заключал источник Возможных разных умных струй…(Там же) Язык, а точнее, дар, которым Творец наделил Адама, рассматривается Бобровым как порождающая матрица всемирного разума, отождествляемого с божественной премудростью. Т.о., теоретически, по своему внутреннему ресурсу такой «банк данных» вполне мог бы рассчитывать на непрерывно бытие, являясь альтернативным и «равноценным» источником познания. Если бы не одно «но»: будущее такого изобретения, и на это сетует Бобров, предугадать невозможно. Доведенное до своего логического конца, до точки, пишет Бобров, оно может дать лишь одно из двух: иль разрушенье, иль божеское бытие… (II, 183). Однако масштаб самой идеи и ее абсолютная фантастичность (Отважна мысль, хоть несобытна!) настолько завораживают Боброва, что он готов принять ее даже с этим точно просчитанным допущением. В контексте этой поэтической утопии выстроенный Бобровым сюжет о поисках универсального языка значительно расширяет свои исторические и культурные горизонты. Встает вопрос не только о первой в России поэтической интерпретации обширного корпуса европейских источников (философия античности, труды средневековых мыслителей Ибн-Хазма, Аверроэса, Авиценны, блаженного Августина, за ними – Данте, Раймонда Луллия, Ник. Кузанского, Бруно, Спинозы, Лейбница, Бэкона, Ньютона, Локка, Гердера и т.д.), но и о пересмотре традиционного взгляда на творчество 9 С. Боброва, концептуально сформулировавшего ряд филологических, семиотических и философских идей, к которым русская мысль обратиться спустя десятилетия. Во второй половине ХХ в. появилась целая серия зарубежных исследований, посвященных проектам универсальных языков в европейской философии нового времени. Симптоматично, что ссылки на них чаще всего можно встретить в работах, посвященных русскому футуризму и проекту «звездного языка» Велемира Хлебникова [см.: Перцова 2000]. В 1993 г. вышла книга Умберто Эко «La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea» («Поиски совершенного языка в европейской культуре», русск. пер. 2007 г.) где анализируется, практически, тот же корпус источников, на которые должен был бы опираться и С. Бобров. Более того, так же, как и Бобров, Эко встраивает свою книгу в миф об Адаме, начиная с него и заканчивая им. Прочтя ее, я не удивилась, что, оттолкнувшись от той же легенды, Эко становится пленником свернутых в ней концептов. Достаточно просмотреть оглавление книги, чтобы увидеть, насколько предсказуемым может оказаться семиотический ум, взявшийся за решение этой проблемы. Поиски «совершенного языка» приводят и героя его повествования – европейскую культуру – к тому же выбору: двигаться ли назад, «в намерении вновь обнаружить язык, на котором говорил Адам», или «вперед в попытке выстроить язык разума, столь же совершенный, как и утраченный язык Адама…» [Эко 2007, 28]. Нет ничего удивительного и в том, что эпопея Боброва в XIX в. не нашла своего читателя. Перележав столетие-другое, именно такого рода нераскрытые в прямом и переносном смысле тексты неожиданно всплывают на поверхность, сигнализируя о том, что, возможно, пришло их время. ЛИТЕРАТУРА ВЕ - Вестник Европы. Ч. 3. Москва, 1802. Бобров 1804 - Бобров С.С. Херсонида. Рассвет полночи. Ч. IV. СПб., 1804. Зайонц 1996 – Зайонц Л.О. “Пьянствующие” архаисты // НЛО, № 21. 1996. С. 220-235. Локк 1960 – Локк, Дж. Избранные философские произведения (в двух томах). М., 1960. Т. 1. Перцова 2000 - Перцова Н.Н. O “звездном языке” Велимира Хлебникова//Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–1998.«Языки русской культуры» М., 2000. Стр. 359–384, 815–817. Цветник – Цветник. СПб., 1810. Ч. 6, N 4. Эко 2007 – Эко Умберто. Поиски совершенного языка в европейской культуре. М., 2007. Дополнительно: Д у л и ч е н к о А . Д . Международные вспомогательные языки. Таллинн: Валгус, 1990. П е р ц о в а Н . Н . Семантика слова в лингвистической концепции Г.В. Лейбница. — ИРЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 165. М., 1985; П е р ц о в а Н . Н . Проблемы современной семантики в свете западноевропейской философии XVII века. — ИРЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 180. М., 1988. Труды английских исследователей в области универсальных яз. см. в серии English Linguistics 1500–1800 (A Collection of Facsimile Reprints). K n o w l s o n J . Universal Language Schemes in England and France. 1600–1800. Toronto, Buffalo: Univ. of Toronto press, 1975; L a r g e A . The Artificial Language Movement. N.Y.: Basil Blackwell Inc., 1985; S l a u g h t e r M a r y M . Universal Languages and Scientific Taxonomy in the Seventeenth Century. Cambridge, London: Cambridge University Press, 1982; 10 S t i 1 l m a n R . E . The New Philosophy and Universal Languages in Seventeenth-Century England. Bacon, Hobbes, and Wilkins. England. Lewisburg: Bucknell Un-ty Press. London: Associated Un-ty Press, 1995; Arnaldez, Roger. Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Paris, Vrin. 1981. Khassaf, Atiyah. Stmiyâa', jafr, 'ilm al-hurïïf e i simboli segreti («asrar») della scienza délie lettere nel sufismo, Tesi di dottorato di ricerca in Semiótica, Université di Bologna, IV ciclo. 1992. Khassaf, Atiyah. - Le origini del linguaggio secondo i musulmani medievali, in Pellerey, a cura di, 1992, p. 71-90.