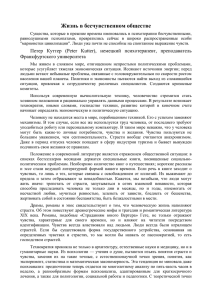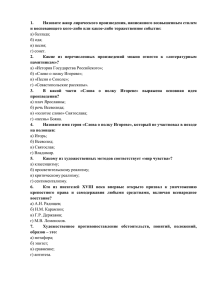137 «Бурные страсти» и идиллические чувства в английской
реклама
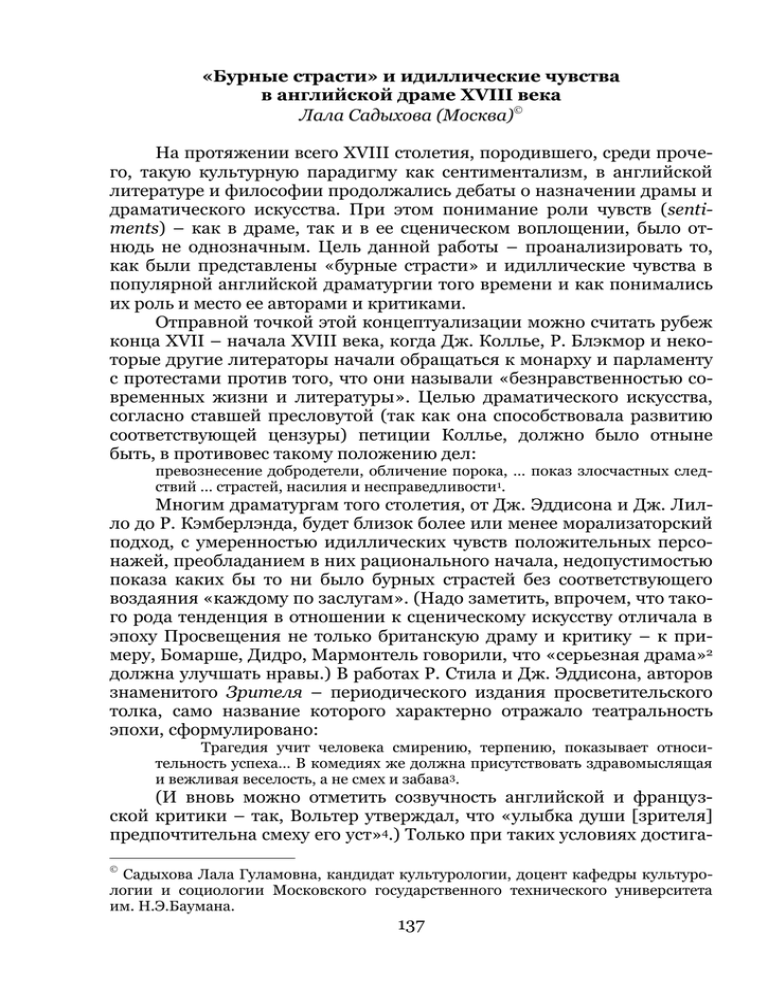
«Бурные страсти» и идиллические чувства в английской драме XVIII века Лала Садыхова (Москва) На протяжении всего XVIII столетия, породившего, среди прочего, такую культурную парадигму как сентиментализм, в английской литературе и философии продолжались дебаты о назначении драмы и драматического искусства. При этом понимание роли чувств (sentiments) – как в драме, так и в ее сценическом воплощении, было отнюдь не однозначным. Цель данной работы – проанализировать то, как были представлены «бурные страсти» и идиллические чувства в популярной английской драматургии того времени и как понимались их роль и место ее авторами и критиками. Отправной точкой этой концептуализации можно считать рубеж конца XVII – начала XVIII века, когда Дж. Коллье, Р. Блэкмор и некоторые другие литераторы начали обращаться к монарху и парламенту с протестами против того, что они называли «безнравственностью современных жизни и литературы». Целью драматического искусства, согласно ставшей пресловутой (так как она способствовала развитию соответствующей цензуры) петиции Коллье, должно было отныне быть, в противовес такому положению дел: превознесение добродетели, обличение порока, … показ злосчастных следствий … страстей, насилия и несправедливости1. Многим драматургам того столетия, от Дж. Эддисона и Дж. Лилло до Р. Кэмберлэнда, будет близок более или менее морализаторский подход, с умеренностью идиллических чувств положительных персонажей, преобладанием в них рационального начала, недопустимостью показа каких бы то ни было бурных страстей без соответствующего воздаяния «каждому по заслугам». (Надо заметить, впрочем, что такого рода тенденция в отношении к сценическому искусству отличала в эпоху Просвещения не только британскую драму и критику – к примеру, Бомарше, Дидро, Мармонтель говорили, что «серьезная драма»2 должна улучшать нравы.) В работах Р. Стила и Дж. Эддисона, авторов знаменитого Зрителя – периодического издания просветительского толка, само название которого характерно отражало театральность эпохи, сформулировано: Трагедия учит человека смирению, терпению, показывает относительность успеха… В комедиях же должна присутствовать здравомыслящая и вежливая веселость, а не смех и забава3. (И вновь можно отметить созвучность английской и французской критики – так, Вольтер утверждал, что «улыбка души [зрителя] предпочтительна смеху его уст»4.) Только при таких условиях достига Садыхова Лала Гуламовна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социологии Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана. 137 ется морально-воспитательная цель театра – возможность для зрителя сравнить себя и свои поступки с поступками и ошибками других (в том числе своими собственными ошибками в прошлом, дабы не повторять их в будущем). Эддисон, автор самой известной классической трагедии столетия Катон (1713), уделял этому жанру большое внимание и как критик. В отличие от «героической» трагедии прежних веков, новая была сдержанной и формальной, со строгим соблюдением единств времени, места и действия; кроме того, Эддисон считал, что главное в ней – это моральная философия (в случае его пьесы – благородные чувства героя, преданного идеалам свободы). Но, несмотря на то, что Катон был единственной классической трагедией, имевшей успех (в Британии – из-за красоты своего поэтического языка, а при своем появлении – и в силу злободневных политических аллюзий, на континенте – благодаря активной поддержке со стороны Вольтера), – критики находили и в ней множество недостатков. Знаменитый С. Джонсон («Д-р Джонсон»), например, называл ее скорее последовательностью идеально-правильных чувств, выражаемых изящным языком, чем представлением чувств естественных и возможных в человеческой жизни5. Первую английскую «бытовую» (domestic) трагедию, Лондонского купца, или Джорджа Барнуэлла Дж. Лилло (1731) ждал гораздо больший успех, так как она сочетала в себе морализаторскую установку (исправление в зрителях, по словам самого Лилло, тех страстей, что несут вред либо по самой своей природе, либо по причине своей чрезмерности), реалистичность обстоятельств – быта представителей средних и низших классов и прозаический язык вместо поэзии, принятой до того в трагедиях. Сюжет был взят из популярной баллады о Джордже Барнуэлле – честном юноше, сбившемся с пути под влиянием страсти к коварной соблазнительнице – и кончившем свои дни на виселице. Несмотря на то, что формально события, разворачивающиеся в Лондонском купце, происходят во времена елизаветинской Англии, публика XVIII века, значительную часть которой составляли уже именно представители торговых и предпринимательских кругов, смотрела пьесу отнюдь не отстраненно. И хотя Лондонский купец появился за несколько десятилетий до того, как само понятие «сентиментального» прочно обосновалось в английской культуре, данный эпитет вполне применим к этой пьесе. Идиллические чувства отличают ее положительных персонажей – купцов, их помощников и домочадцев, обстоятельно и с достоинством выражающих свои мысли и убеждения, в том числе «сословные» и патриотические. Характерно при этом, что сами чувства их проникнуты разумом. Так, один из них говорит: «Бесчувственным должен быть тот, кого не заботит безопасность его страны», а также хвалит королеву за то, что она близко к сердцу принимает счастье сво138 их подданных, в отличие от других «правителей, что душат своих подданных непомерными налогами». Другой персонаж, превознося честную торговлю как залог всеобщего мира и процветания, произносит: «Звание купца никогда не унизит джентльмена»6, и т.п. Эти герои искренне и нежно привязаны друг к другу, чувства их ровны и устойчивы, в отличие от бурных страстей и неуравновешенности отрицательных персонажей. Один из вышеупомянутых положительных героев обращается к своей образцово-добродетельной (любящей его и всех его домочадцев ровной идиллической любовью) дочери: Очень естественно, что молодые джентльмены получают больше удовольствия от разговора с тобой, чем со мной… А так как я знаю, что главное в браке – любовь, я бы предпочел, чтобы мое одобрение кого-либо [из них – как твоего будущего супруга] подтвердило твой выбор, а не направило его7. Что касается самого Джорджа Барнуэлла, то, поддаваясь соблазну, затем совершая воровство, а потом и убийство, он непрестанно проклинает себя и свою страсть, толкающую его на все новые преступления, заливается слезами и даже просит умирающую жертву простить его (что та, будучи до последнего мгновения его истинным благодетелем, и так уже спешит сделать). Обманутые друзья и близкие, в свою очередь, все как один проявляют душевное благородство: вместо того, чтобы ужаснуться его проступкам, они сперва стремятся спасти заблудшего, а когда это не удается – горько оплакивают его как жертву порочной страсти. В написанном одним из ведущих актеровпостановщиков Королевского театра Друри-Лейн (где и шел Лондонский купец) К. Сиббером стихотворном Эпилоге – обязательной для постановок того времени «морали» произведения, произносимой в его конце, говорится: Нет, страсти разукрашенной - любовь, что истинна, - бежит: А пламя страсти - кредиторов лишь всего верней манит. No - painted passion real love abhors – His flame would prove the suit of creditors8. Что касается сентиментальной комедии, то если слез в ней было не так много, как в сентиментальной трагедии, то идиллических чувств – а точнее, всеобщей «чувствительности» персонажей – никак не меньше. Но даже в самой известной английской сентиментальной комедии – Рожденном в Вест Индии Р. Кэмберлэнда (1776), эта чувствительность хорошо уравновешивается их же разумом, с одной стороны, и сосуществует с чисто английской иронией по поводу этих самых «сантиментов», с другой стороны. Так, главный герой – благородный, но слишком быстро воспламеняющийся молодой человек говорит о своих «чувствах», имея в виду страсть к женщинам, и притом сам объясняя ее прискорбную власть над собой … климатом тех мест, где он родился. «Чувствительные» же излияния женских персонажей (их выражения верности, сочувствия и т.п.) перемежаются с точным и неожиданным рационально-логическим оцениванием ситуации. К 139 примеру, одна из этих героинь – благородно пожертвовавшая своими драгоценностями, чтобы помочь бедствующей семье своего любимого человека, – заявляет главному персонажу (потерявшему голову из-за другой девушки и, в попытках угодить той, невольно причинившему материальный ущерб ей самой, но стремящемуся возместить его с избытком): «Принимаю то, что вы мне предлагаете – но только на время, и удержу только то, что равно стоимости моих драгоценностей», и тут же насмешливо, чтобы не сказать цинично, добавляет: «Нет нужды, сударь, быть разоряемым больше, чем одной женщиной зараз»9. Еще одним примером иронии по поводу «идиллических» чувств персонажей может служить высказывание отца главного героя – его своего рода ангела-хранителя, до последней сцены хранящего свое отцовство втайне от сына (и только от него, так как все остальные уже знают об этом): «Он был бы не таким совершенным, будь он лишен недостатков»10. С другой стороны, у морализаторских тенденций в драматическом искусстве и критике были и оппоненты в лице их же современников. Так, еще в начале века им противостоял известный критик Дж. Деннис, утверждавший, что драма, с ее динамизмом событий и яркой эмоциональностью, очень полезна, и особенно для англичан, с их привычкой «удушать свои страсти», – тем, что способствует их свободному проявлению – не противореча при этом разуму. Именно воздействие на чувства зрителей обеспечивает, согласно Деннису, воспитательное воздействие театральных постановок. Так, только если трагедия сумеет вызвать сочувствие героям, она может научить зрителя, к чему приводят властолюбие, отсутствие веры, несправедливость. Комедия же должна быть по-настоящему смешной, чтобы своими сантиментами не пробуждать и малой толики сочувствия к недостойным. К такому пониманию сути драматического искусства можно причислить и позицию знаменитого драматурга О. Голдсмита, решительно выступавшего, в частности, против сентиментальной комедии (и даже подчеркнуто называвшего свои знаменитые пьесы, такие как Ошибки одной ночи11, смеховыми, или «смеющимися», laughing, по контрасту с сентиментальными комедиями), и не менее знаменитого Р.Б. Шеридана. Но парадокс в том, что и в таких не-сентиментальных комедиях явно присутствует элемент идиллического. Таковы, например, чувства одного из двух племянников главного героя в Школе злословия Шеридана (1777). При всей своей легкомысленности и бедности (как ее следствии), этот персонаж, распродавая все, что можно, хранит вроде бы ненужный ему портрет своего благодетеля, которого и не рассчитывает когда-нибудь увидеть. Даже при возможности получить за этот портрет какие-то (и совсем бы не лишние для него) деньги, молодой человек решительно отказывается его продавать. Кроме того, вполне идиллические чувства испытывает по отношению к своей молодой 140 жене, делающей сомнительные успехи в «школе» высшего общества леди Тизл, – ее старый и всепрощающий муж. В комедии нравов Тайный брак Дж. Колмэна и Д. Гаррика (1766) идиллически чувства героини, вынужденной скрывать свое замужество от своих корыстных родственников, желающих распорядиться ее судьбой с выгодой для себя. Несмотря на это и на то, что сам муж ее оказывается скорее жалким и безвольным существом, чем достойным любви героем, отношение к нему молодой женщины остается неизменным, и она искренне страдает от двусмысленности своего положения. Ну, в чем дело, на кого ты похожа, – досадует на нее тетка, – вся бледная, желтая, и лицо опухшее. …Иди, сделай что-нибудь, чтобы на тебя хотя бы смотреть было можно. Ну вот, ушла вся в слезах – как есть, рыдает… Что за любовь такая дур-рацкая!12 В комедии положений Х. Каули Стратегия красавицы (1780), чувства и их метаморфозы принимаются за своего рода непреложные законы человеческой природы, знание которых помогает управлять людьми. При этом очевидна ирония по поводу страстей: главная героиня, страдающая от равнодушия понравившегося ей человека, сознательно стремится к тому, чтобы вызвать у него… ненависть. Сама она объясняет это тем, что ненависть легче (чем равнодушие) превратить затем в любовь – и добивается, в конце концов, успеха. Впрочем, чувства, особенно исповедуемые публично – могут быть и модной позой, и расчетливой маскировкой своих целей13. Пример первой можно почерпнуть в речах раздосадованной героини комедии Соперники Шеридана (1775) – избалованной светской девушки с «говорящей» фамилией Languish (Томность/ Томный вид). В духе сентиментальных романов (которые она читает от скуки) задумавшая побег со своим избранником – и обнаружившая, что ее замыслу не суждено сбыться (так как этого избранника и так прочат ей в мужья), мисс Томность капризно восклицает: А я-то планировала один из самых сентиментальных побегов!.. С таким подобающим переодеванием!.. По такой дружественной веревочной лестнице!.. При таком заведомом лунном свете!.. Четверка лошадей… Венчание в Шотландии!..14 А какой сюрприз для всех!.. И какие заголовки в газетах!.. О-о, я умру от разочарования15. Если же говорить о маске как личине, обмане, – таковы, например, разглагольствования второго племянника вышеупомянутого персонажа Школы злословия – циника и манипулятора, расчетливо поддерживающего свою хорошую репутацию (в отличие от плохой, в глазах общества, репутации его брата – который, как это очевидно для зрителя, – по-настоящему достойный человек). Вообще, драматическое искусство по самой своей природе позволяет – обязательным установлением контрастов или дистанции (между разными персонажами, текстом драмы и постановкой, маскойролью и актером-исполнителем, «маской» и «подлинным лицом» 141 персонажа, персонажем и зрителем, и пр.) – моделировать некий опыт, где тесно переплетаются разум и чувства. При этом важно, что в английской литературно-философской мысли того самого, театрального по своей сути, XVIII века лейтмотивом проходит идея превосходства умеренных, ровных чувств (над всякого рода бурными страстями), с одной стороны, – и отсутствует четкая граница между разумом и чувством, с другой стороны. Так, самый значительный британский философ того времени Д. Юм описывает жизнь человеческого духа в терминах аффектов (всех разнообразных чувств и эмоций) и называет разум аффектами, действующими спокойнее и не производящими такого волнения в нашем настроении… […] Спокойные аффекты бывают способны сдерживать … необузданные проявления16. В своем эссе О трагедии (1757), Юм также исходит из наблюдений за аффектами: чрезмерное эмоциональное возбуждение неприятно, и чтобы умерить это ощущение, нужны некие регулирующие (controlling) средства, чтобы несколько отстраниться от своих переживаний. В искусстве театра это обеспечивается интеллектуальным элементом переживания (сочувствия персонажам) – а именно, постоянным сознанием зрителя того, что на сцене разворачиваются вымышленные, а не реальные события. Известный современник Юма, д-р Джонсон, в свою очередь, также утверждает, что зритель не принимает действие, что совершается перед ним, за реальные события – театральное представление влияет на его чувства опосредованно, подталкивая его к мысли о том, что он чувствовал бы сам в подобных обстоятельствах17. «Спокойный аффект» зрителя, таким образом, становится своего рода эквивалентом идиллических чувств персонажей – социально задаваемой и одобряемой моделью поведения. Некоторые же английские авторы той эпохи вообще не делают разграничения между чувствами в жизни и в театре. Философ А. Смит, некогда учившийся у Юма, в работе с характерным названием О моральных чувствах (1759) заявляет, что любой человек, наблюдая за взаимодействием окружающих, подобен зрителю в театре. В меру своего понимания происходящего он испытывает либо удовольствие, либо страдание, в зависимости от того, совпадают ли его собственные чувства (которые он испытывал бы на месте тех, за кем он наблюдает) с их чувствами. Само человеческое «Я» Смит рассматривает как одновременно актера (разыгрывающего, в своем воображении, эмоции других людей) и зрителя (эмоционально реагирующего на свою же интерпретацию). Неприятно, согласно Смиту, как в театре, так и в жизни, если человек не испытывает эмпатии – эмоционального сопереживания наблюдаемым; и только естественно, что эмпатия уступает по яркости переживания тем чувствам, что зритель испытывал бы, будучи действующим лицом. 142 Подводя итоги вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. В английском театре, философской мысли и литературной критике XVIII века не было единого представления о назначении драмы и драматического искусства – и о том, как именно должны были быть явлены чувства их персонажей. Одно из таких представлений, идущее от пуристских настроений начала столетия, заключалось в том, что искусство драмы должно, прежде всего, воздействовать на публику морально – улучшать нравы путем обращения к разуму и воспитания социально одобряемых чувств. Этот подход был близок соответствующим идеям французских просветителей той эпохи. Другое представление акцентировало важность непосредственного эмоционального воздействия драматического искусства на зрителя – будь то живое сопереживание горестям персонажей или смех по поводу совершаемых/ произносимых ими нелепостей. Сентиментализм, при всей своей выраженности в английской культуре XVIII века, не царил на ее сцене безраздельно – и существовал в разных формах. Так, сентиментальные пьесы были практическим воплощением первого из описанных представлений: отличались морализаторским духом, идиллическими чувствами положительных персонажей, бурными страстями отрицательных, – что не исключало, в лучших образцах жанра, элементов иронии по поводу и тех и других проявлений. Не-сентиментальные пьесы воплощали собой второе из названных представлений о драме; в рамках этого, гораздо более старого и традиционного представления, «бурные страсти» любых ее героев имеют полное право на существование. Вместе с тем, и несентиментальные пьесы, такие как комедии нравов и положений, также часто включали в себя заметный элемент сентиментальности, в виде тех или иных идиллических мотивов – черт персонажей, стиля их взаимоотношений и пр. Драматическое искусство в целом, начиная с XVIII века, начинает восприниматься как модель сложной многозначности человеческого сознания и взаимодействий, где присутствуют и разум и чувства во всем их разнообразии, – и их намеренная передача, маскировка, непосредственная коммуникация (с той или иной степенью адекватности, эффективности, социальных последствий). ПРИМЕЧАНИЯ Carlson M. Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey. Cornell University Press. 1993. P.123. 2 Имея в виду, прежде всего, больший реализм и приближенность новой драматургии, за которую они ратовали, к современной жизни, по сравнению с «классическими» трагедиями и комедиями. 3 Steel R. Spectator, 4: 280. 1 143 Voltaire. Preface а L’Ecossaise// Oevres. P.., 1976. Vol. 5. P. 411. Johnson S. Lives of the Poets// Norton Anthology of English Literature, 2 vols. 1986. Vol.1. P.2400. 6 Lillo J. London Merchant// Eighteenth Century Plays, J. Hampden (Ed.). L., 1946. P. 221. 7 Ibid., P. 223. 8 Ibid., P. 265. 9 Cumberland R. The West Indian// Eighteenth Century Plays, J. Hampden (Ed.). L., 1946. P. 379. 10 Ibid., P. 371. 11 Goldsmith O. She Stoops to Conquer – в отличие от устоявшейся традиции перевода названия, - дословно: «Она склоняется, чтобы завоевать». 12 Colman G., Garrick D. Clandestine Marriage// Eighteenth Century Plays, J. Hampden (Ed.). L. 1946. P.282. 13 О теме маски, ее разновидностях, более подробно, см.: Садыхова Л. Г. Маски женственности в английской культуре/ XVIII век: женское/ мужское в культуре. Ред. Н.Т. Пахсарьян. М., 2008. С. 44–50. 14 В Шотландии венчали и без согласия семьи на брак несовершеннолетних. 15 Sheridan R.B. The Rivals. L., 1999. P. 34. 16 Юм Д. Трактат о человеческой природе// Д.Юм. Сочинения в 2-х тт. М., 1996. Т.1. С. 478. 17 Johnson S. The Preface to Shakespeare// Norton Anthology of English Literature, 2 vols. 1986. Vol.1. P. 416 4 5 144